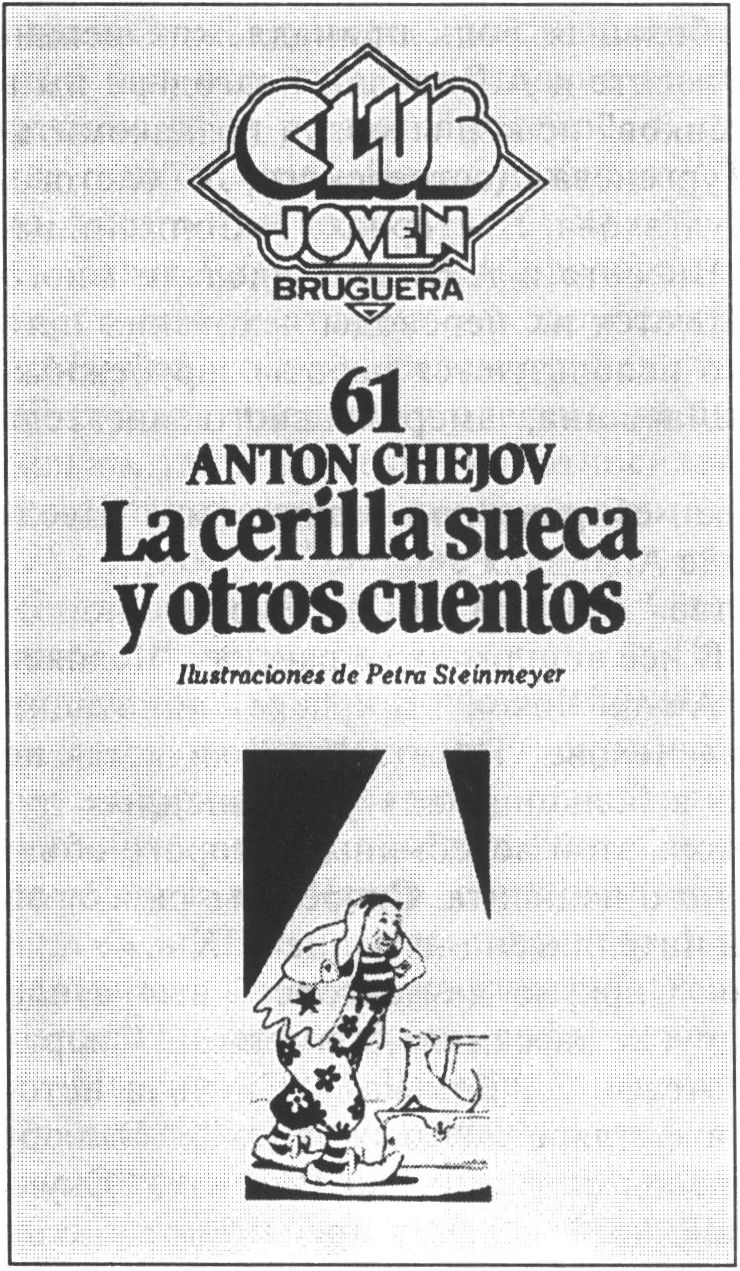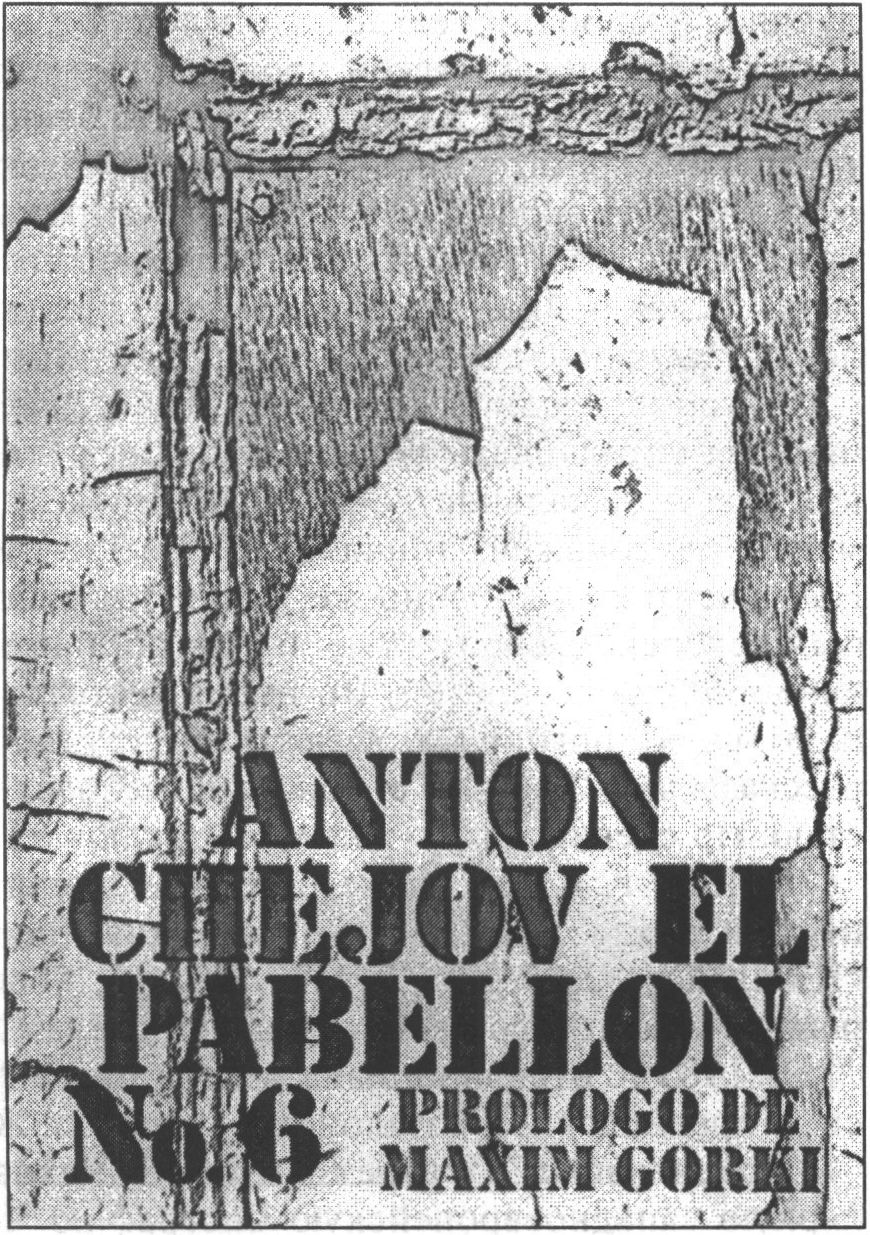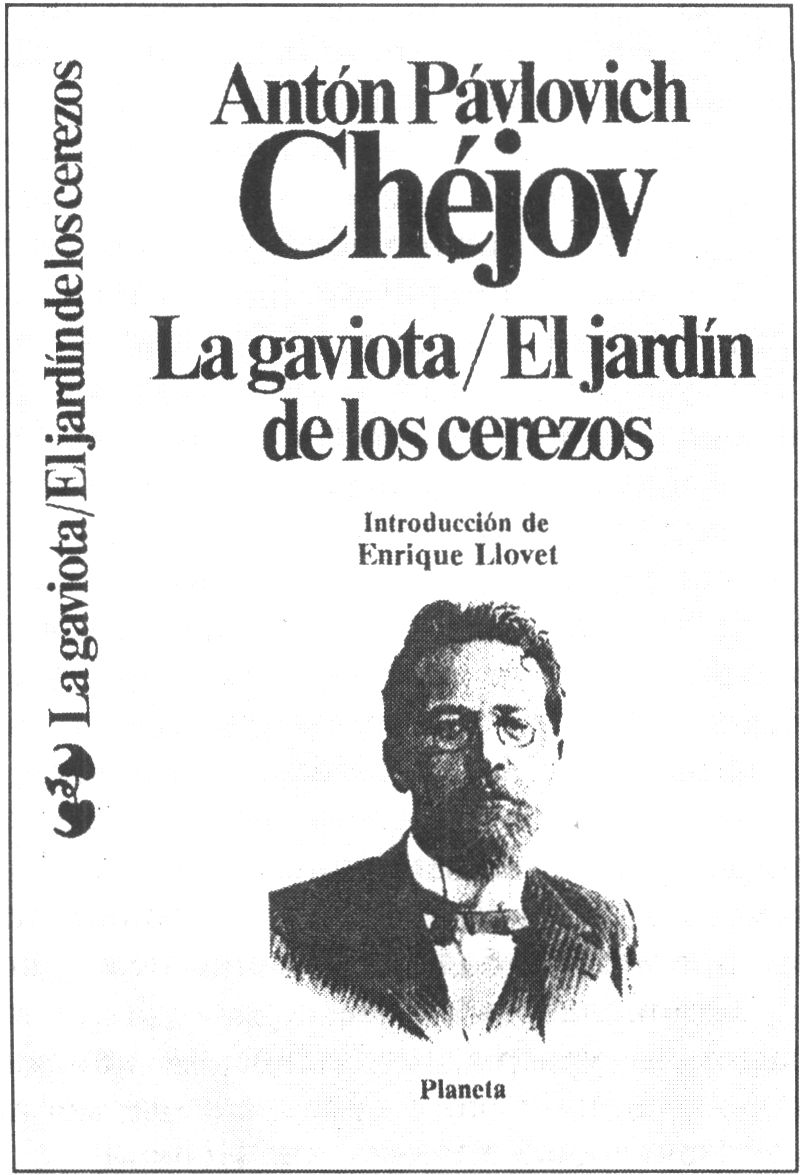В последнее время в Испании значительно увеличился интерес к творчеству Чехова. Стали чаще переводить его рассказы и пьесы. Его имя нередко появляется на страницах литературных и театральных журналов: «Ленгуахе и текстос», «Инсула», «Пример акто» и др.
В 1981 г. издательство «Айма» в Барселоне выпустило том «Антон Павлович Чехов. Ранние рассказы»1. В него вошли юмористические произведения 1883—1885 гг. В предисловии известный испанский критик Х.М. Вальверде излагает творческую биографию писателя в контексте его эпистолярного наследия2.
Заявив, что ранние рассказы — «своеобразный генезис творчества Чехова», Вальверде знакомит испанского читателя с личностью автора, делая при этом оговорку, что сам Чехов «неизменно выступал против персонализма и субъективности в литературе» (с. XII). Критик указывает на скромное происхождение Антона Павловича, вспоминает его крепостного деда и отца, разорившегося лавочника; приводит пространную цитату из письма А.С. Суворину от 7 января 1889 г. о молодом человеке, который «выдавливает из себя по каплям раба»; ссылаясь на автобиографию, написанную по просьбе Г.И. Россолимо, подчеркивает значение медицины в формировании мироощущения писателя (16, 271—272).
«Литературная деятельность Чехова началась рано с сочинения «мелочей». Будучи «кормильцем семьи», он стал писать, чтобы материально поддержать близких, и при содействии своего старшего брата — журналиста публиковал свои миниатюры, платили ему всего по 8 копеек за строку» (с. XIII—XIV). Далее Вальверде отмечает роль Григоровича в творческой судьбе будущего создателя шедевров русской прозы.
По мнению автора предисловия, Чехов обратился к жанру короткого рассказа, потому что у него не было четких политических, философских, религиозных убеждений. «За ширмой юмора легче было спрятать отсутствие мировоззрения. Однако впоследствии это обусловило чеховское «золотое правило» — краткость» (с. XV). Вальверде напоминает слова из письма Чехова М.В. Киселевой от 29 сентября 1896 года: «Краткость признается в малой прессе первою добродетелью» и добавляет: «сжатость повествования избавляла от субъективности и сентиментальности и одновременно способствовала формированию этической основы чеховской эстетики» (с. XV). Критик считает, что в манере писания Чехова чувствуется школа Флобера, знаменитый всезапечатлевающий, фотографически беспристрастный взгляд французского классика. Вместе с тем отмечается связь с традициями Гоголя, Тургенева, Толстого, «которого Чехов боготворил, <...> и напротив он никогда не выказывал своей приверженности Достоевскому, но это умело скрывал. Достоевский был ему чужд не столько по причине мировоззренческих разногласий, сколько из-за различия в стиле. <...> В 1889 г., прочитав роман «Преступление и наказание», Чехов напишет: «Хорошо, но очень уж длинно и нескромно. Много претензий» (с. XVII).
Далее Вальверде снова возвращается к проблеме субъективизма и утверждает, что в отличие от зарубежных современников, П. Валери, М. Пруста, А. Мачадо, которые рассматривали творчество как выражение своего Я, Чехов «благодаря инстинкту элегантной скромности крайне целомудренно как морально, так и эстетически, относился к писательскому Я, и это проявлялось в его стилистической сдержанности» (с. XVII). Затем критик отмечает: «Уже в 1883 г. Антон Павлович предупреждал своего брата и коллегу Александра: «Субъективность ужасная вещь. Она нехороша уже и тем, что выдает бедного автора с руками и ногами. <...> Не будь этой субъективности <...> из тебя вышел бы художник полезнейший»». Согласно Вальверде, чеховская объективность определяет его экономичный и рациональный стиль, и «подобный литературный «аскетизм» обусловливает не только краткость и лаконизм, но и особую манеру изображения, без сентиментального разжевывания и антропоморфизма». Чехов советовал брату: «Описания природы должны быть весьма кратки и иметь характер à propos. <...> В описаниях природы надо хвататься за мелкие частности». Несколько лет спустя Чехов критикует Горького за обилие антропоморфизмов (с. XVIII).
Наряду с этим Вальверде полагает, что «из-за стилистического лаконизма чеховские произведения, несмотря на их критическое содержание, не являются всеобъемлющим документом о русской жизни той эпохи: писатель не мог показать всю тяжесть человеческого существования и по вине цензуры, и по эстетическим соображениям» (с. XX).
В предисловии уделяется также внимание пьесам Чехова: «присущая рассказам эстетика сдержанности свойственна и драматургии: создаются пьесы полутонов, драмы «скрытого действия». Пока на сцене ничего не происходит, в то время, когда осуществляется плавный переход от «форте» к «пианиссимо», судьба заманивает персонажей в ловушку, доводит их до катастрофы: самоубийства или уничтожения вишневого сада. <...> Чеховские пьесы часто были непонятны зрителю, потому что неверно интерпретировались даже знаменитыми режиссерами. Так, Станиславский сопровождал действие громкими шумовыми эффектами в тех местах, где автору все виделось в мягких тонах» (с. XX).
В конце предисловия Вальверде останавливается на рассказах «Радость», «Смерть чиновника», «Злоумышленник» и др.: «на первый взгляд их тонкий юмор служит горькому осмеянию не только пороков конкретного общества в определенное время, но и общечеловеческих недостатков. Каждое из этих сочинений, без какого-либо комментария, воспроизводит мимолетное событие, вызывающее вначале улыбку, но затем, по завершении чтения и осмысления ситуации, улыбка сменяется ощущением тихого ужаса, поскольку в изображенном персонаже узнаешь самого себя. Иногда в комическом обличии сталкиваешься с трагической сущностью человеческого естества, как например в «Злоумышленнике». Кто может рассмеяться в конце этой короткой истории?» (с. XXIII).
«В нашем веке многие писатели, среди них Исаак Бабель, Хуан Рульфо, овладели искусством быть краткими и простыми, однако рассказы Антона Чехова всегда были для них художественным образцом», — заключает свое эссе Х.М. Вальверде (с. XXIII).
В популяризации писателей России большая роль принадлежит испанским славистам и переводчикам Р. Сан Висенте и А. Видалю. Благодаря им в серии «Золотая библиотека русских классиков» испанцы могли познакомиться с произведениями Пушкина, Гоголя, Тургенева, Достоевского, Л. Толстого, Чехова, Бунина, Бабеля, Платонова, М. Булгакова, Пастернака и Солженицына. В последние два десятилетия Р. Сан Висенте и А. Видаль уделяли много внимания Чехову. Почти ежегодно появляются их переводы чеховских произведений. В качестве предисловий часто используются работы зарубежных авторов, в том числе М. Горького, Вл. Лакшина, американского писателя Р. Форда и др.
В 1982 г. в Барселоне был опубликован сборник под названием ««Шведская спичка» и другие рассказы» в переводе А. Видаля3.
В 1986 г. для мадридского издательства «Альянса» Р. Сан Висенте подготовил книгу «Антон Чехов. Палата № 6». В неё вошли также рассказ «Человек в футляре» и воспоминания М. Горького «Антон Чехов». В краткой аннотации говорится: «превосходная повесть Антона Чехова «Палата № 6» является не только описанием дружбы заключенного в больницу для умалишенных душевнобольного молодого человека и доктора этой лечебницы, которого объявили сумасшедшим и поместили в палату его пациента. Скорее это сюжет об утраченных надеждах и бессилии русской интеллигенции конца XIX в.»4.
В 1992 г. барселонское издательство «Сиркуло де лекторес» выпустило сборник «Моя жизнь», ««Палата № 6» и другие рассказы», а именно: «Смерть чиновника», «Перекати-поле», «Тоска», «Агафья», «Ванька», «Скучная история», «Учитель словесности», «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви», « Душечка», «Дама с собачкой». Перевод сделал Р. Сан Висенте. «Скучную историю» перевел А. Видаль. Чеховские произведения предваряют статьи Р. Сан Висенте «Антон Чехов: эстетика обыденного против засилия пошлости» и Вл. Лакшина «Об искусстве Чехова: голос свободного человека»5. Считая, что «в русской литературе неразрывно соединены красота и правда, правда и красота», Р. Сан Висенте пишет: «Духовное восхищение невозможно без эстетического наслаждения, но важнее всего то, что нет красоты, нет художественного произведения, если оно не «подпитывает» и не возвеличивает нашу духовность, ибо нет истинной красоты без истины. <...> Русская литература была и остается тем горнилом, в котором бурлит и из которого бьет ключом метафизическая и этическая энергия народа. <...> Она всегда ищет истину через красоту. <...> Русские писатели во все времена ставили правду выше искусства и реальность выше вымысла. Все это побуждает глубже постигать русскую культуру, искусство России. Красота творений этой страны позволяет преодолевать границы «русскости» и пробуждает присущий каждому из нас дух милосердия» (с. 9). Р. Сан Висенте обращает внимание на то, что «Чехов жил в эпоху, когда в русской литературе преобладали нравственные проблемы. Одной из тем его бесед с Толстым был как раз вопрос о роли литературы и искусства в обществе» (с. 9).
В 1996 г. испанцы смогли прочитать письма Антона Павловича к О.Л. Книппер. Их перевел для барселонского издательства «Парсифаль» С. Ибаньес6.
В 1996 г. мадридское издательство «Эспаса Кальпе» выпустило 11 томов энциклопедического словаря под редакцией Ф. Ортиса Чапарро. В четвертом томе помещена небольшая статья А. Санчес о жизни и творчестве Чехова. Автор статьи обращает внимание на тесную дружбу Чехова с Толстым и Горьким; отмечает высокое мастерство писателя, его тонкий юмор, правдивое изображение жизни; замечает, что многие ценят больше драмы Чехова, так как они позволили воплотить на русской сцене своеобразный, ранее неведомый тип реализма; указывает на особую популярность пьес «Дядя Ваня», «Три сестры», «Вишневый сад» и рассказов «Счастье», «Мечты», «Три года», «Невеста», «Учитель словесности». Самыми знаменитыми повестями Чехова Санчес считает «Степь», «Скучную историю», «Палату № 6»7.
В 1999 г. это же издательство познакомило испанского читателя с произведениями: «Цветы запоздалые», «Рассказ неизвестного человека», «Степь», «Палата № 6», «Черный монах», «Дом с мезонином», «Исповедь», «Мужики», «Ионыч», «Дама с собачкой». Переводы были сделаны в разное время В. Андреско, Х. Гектором де Савалья, Г. Портновым, Н. Тасиным, С. Хименесом. Предисловие написала С. Пуэртолас8. Годом раньше в Мадриде вышел «Остров Сахалин» в переводе В. Гальего9.
В 2000 г. Р. Сан Висенте для барселонского издательства «Сиркуло де лекторес» переводит рассказы «Агафья», «Попрыгунья», «Учитель словесности», «Ионыч», «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви», «Душечка», «Дама с собачкой». Они вошли в том под общим названием ««Дама с собачкой» и другие рассказы»10.
В 2001 г. издательство «Люмен» в Барселоне выпустило в свет сборник «Основные рассказы»11 («Неудача», «Несчастье», «Житейская мелочь», «Лишние люди», «Тссс!..», «Шампанское (Рассказ проходимца)», «Враги», «Поцелуй», «Каштанка», «Попрыгунья», «Соседи», «Палата № 6», «Рассказ неизвестного человека», «Мужики», «Душечка», «О любви», «Крыжовник», «Новая дача», «По делам службы»). Данный перечень показывает, что в сборник включены и редко переводимые произведения Чехова. В качестве пролога используется статья работающего в жанре короткого рассказа американского писателя Р. Форда «Почему нам нравится Чехов».
В 2001 г. издательство Валенсии «Пре-текстос» представило рассказы «Учитель словесности», «У знакомых», «Бабье царство», «Тоска», «Дом с мезонином», «Именины», «Ванька», «Поцелуй», « Невеста», «Студент» (Перевод В. Гальего Бальестеро, предисловие Х. Муньоса Мильянеса)12.
Однако, в Испании, как и в других странах Запада, преимущественно знают Чехова-драматурга. Его пьесы переводят не только на испанский, но и на языки автономных областей, в том числе на каталонский. В этом большая заслуга Института театра Барселоны. Под его патронажем и при содействии Театральной библиотеки барселонское издательство «Айма» постоянно публикует драмы Чехова с предисловиями переводчиков, театральных критиков, режиссеров. Их авторы, не претендуя ни на полноту биографического материала, ни на оригинальность и глубину концепций, знакомят читателя и зрителя с личностью и творчеством Антона Павловича.
В 1981 г. отдельным изданием вышла «Чайка» в переводе А. Видаля с предисловием режиссера Э. Льовета13.
Э. Льовет выражает свое восхищение русским драматургом и высказывает желание при постановке «Чайки» сохранить стилистику ее гениального создателя. Он пишет: «Каждая эпоха социальных потрясений, каждое поколение, каждый театральный сезон увеличивает число зрителей «Чайки». <...> Слава Чехова продолжает расти, численность его почитателей множится день ото дня, и горячая волна сочувствия и нежности исходит со сцены всякий раз, когда дядя Ваня и Нина, три сестры и другие чеховские персонажи изливают свои радости и печали, большие и маленькие, всеобщие и личные» (с. 7).
Льовет воспринимает Чехова как доброго человека и искреннего писателя, который «изображал тревоги своего сумрачного и уходящего времени». «Однако, — по мнению автора предисловия, — не это в полной мере объясняет триумфальное вхождение Чехова в бессмертие. Сегодня мы признательны ему не только за критическое направление творчества, информационную точность, откровенный и содержательный дискурс. Мы не менее благодарны за то, что он научил нас понимать счастье и горе человека».
Далее Льовет останавливается на своеобразии творческой манеры драматурга: «Чехов не разделял людей на хороших и плохих, изображал их без надрыва, не поучая, с искренней верой в то, что мы сами сумеем распознать его персонажей, и наши симпатии и неприязнь будут естественными и зрелыми, сможем воспринять иносказание, одобрение, моральное порицание, художественное воспроизведение боли и радости. В лице Чехова соприкасаешься с самой кристальной во всей истории литературы совестью человека и художника» (с. 7).
Льовет убежден, что «Чайка» — лучшее чеховское произведение, а после постановки «в прекрасной режиссуре Станиславского спектакль стал также лучшим в мировом театре». По мнению Льовета, в «Чайке» «драматург деликатно, с помощью мягкой иронии хочет помочь нам выявить более глубокий смысл бытия. <...> Чехов умеет быть беспристрастным, но это поразительно горячее беспристрастие. <...> Чехов близок всем, потому что любит всех, абсолютно всех людей, и эта любовь выражается музыкой, звуками, тишиной, ритмом» (с. 8). «На занавесе Московского Художественного театра изображена белая чайка, она олицетворяет Чехова, поэтический реализм и стремление театра помочь нам лучше понять самих себя» (с. 8).
В конце предисловия испанский режиссер делится своим замыслом: «Я пытался истолковать Чехова близкими мне средствами, отдавая дань уважения его музыкальности как великого композитора, способности передавать мечты персонажей, тончайшему умению изображать их мысли и чувства. Наш спектакль, конечно же, результат работы всей труппы. Антон Павлович был человеком скромным, и при постановке его пьесы недопустимо проявление личных амбиций. Во время театрального монументализма нелегко отказаться от погони за эффектами, трудно возвратиться к естественности и рассказать о «Чайке» с поистине чеховской простотой и непосредственностью. Но сделать это нужно», — заключает Э. Льовет (с. 8).
В 1982 г. в Барселоне в серии «Дневники театра «АДБ»» вышел в свет первый том пьес Чехова: «Лебединая песня», «Медведь», «Предложение», «Юбилей», «О вреде табака», «Чайка», «Три сестры» и «Вишневый сад». Перевод с испанского на каталонский сделал Ж. Оливер.
В 1983 г. отдельно была издана пьеса «Дядя Ваня» в переводе Ф. Формосы, с предисловием каталонского критика Ж. Кока14.
Предисловие «Портрет Антона П. Чехова» представляет типичную популярную западноевропейскую биографию Чехова15. Кока начинает свой рассказ с того, что «отец писателя был владельцем лавки. Свободное время он проводил в заботах о хоре, в котором заставлял петь членов своей семьи. Грубый, маниакально одержимый человек, он жестоко обращался с детьми» (с. 5). Однако, «кто знает, быть может, благодаря этому у Чехова развилось особое чувство юмора, и оно дало ему возможность сохранить себя как в тяжелой семейной обстановке, так и в условиях самодержавной России, где царили ужас и страх». Далее Кока говорит о Чехове-студенте: он «изучает медицину, пишет короткие юмористические рассказы, посещает театры, сближается с русской интеллигенцией, для которой проблемы народа становятся все более значимыми и актуальными. Во время медицинской практики в деревне Чехов лучше узнает простых людей, находит среди них типажи для своих будущих рассказов» (с. 5).
Воспроизводя основные вехи биографии писателя, автор предисловия выявляет истоки его творчества. По мнению Кока, создание четырех великих произведений («Чайка», «Дядя Ваня», «Три сестры», «Вишневый сад») было результатом знакомства Чехова с нереализовавшей себя творческой молодежью, богемой, заболевания в 1884 г. туберкулезом, поездок по России и Европе, написания водевилей, работы врачом во время эпидемии холеры, появления «Иванова» и «Лешего» и т. д. «В конце концов, — замечает критик, — возвратившись из путешествия по Европе, Чехов заканчивает «Чайку», историю о проникновенной любви, ненависти и ничем не оправданной жестокости» (с. 6).
Кока называет «Чайку» символистской и декадентской драмой, «написанной на западный манер», и трактует ее с позиций сторонников биографического метода: «драматург воссоздает автобиографический эпизод, действующими лицами которого являются писатель И.Н. Потапенко и он сам» (с. 6). В стиле «Чайки» критик отмечает импрессионистичность: изображение будничности, мимолетности, размытость красок, наличие полутонов. Что касается содержания, то в «этом произведении зритель видит отражение собственной неуверенности и беспомощности.
Все неотвратимо рушится. Все идет ко дну и ничего невозможно изменить, остается только с горечью наблюдать или предпочесть самоубийство, как это сделал персонаж пьесы. Вмешиваться в ход событий совершенно бесполезно».
Далее автор предисловия пишет о заслугах Станиславского, Немировича-Данченко и созданного ими Художественного театра: с постановки «Чайки» они по-новому принялись интерпретировать пьесы Чехова: «Станиславский смог заставить зрителя трепетать от переживаний, почувствовать грусть невысказанных желаний, нескрываемое безразличие и скрытую ненависть» (с. 7).
В трех шедеврах, созданных после «Чайки», Кока видит усиление тенденций импрессионизма. В них изображается «одиночество, разобщенность людей. <...> Персонажи не умеют вести диалог друг с другом; они только сами выговариваются: поверяют свои мечты и разочарования; в их репликах нет ничего существенного; события, о которых они говорят, незначительны». «И тем не менее, — замечает критик, — какая-то необъяснимая сила заставляет нас пристально следить за их монологами, сопереживать безмолвной боли, вызванной осознанием героев своего бессилия повлиять на что-либо» (с. 8).
Для испанских деятелей театра Чехов — художник, положивший начало новому эстетическому мышлению. Его пьесы, его драматургические приемы интересуют деятелей театра самых разных художественных направлений, от интимистов до абсурдистов. В связи с этим возникают проблемы чеховской традиции, чеховского влияния, схождения с драмами других писателей.
Впервые испанская критика начала освещать эти вопросы еще в 1935 г. Тогда заговорили о воздействии Чехова на комедию Федерико Гарсиа Лорки «Донья Росита, девица, или Язык цветов» и стали сопоставлять ее с «Вишневым садом»16. Постепенно увеличивается число драматургов, попадающих в орбиту Чехова.
В 1983 г. в журнале «Пример акто» появилась статья театрального критика Ф. Ньевы «Драматический диалог Альваро Амо»17. В ней речь шла о своеобразии драматургии современного испанского писателя Альваро дель Амо, в частности, о том, что постановки его пьес не были оценены критикой и публикой. Произошло это потому, что на испанской сцене не часто можно увидеть произведения, в которых отсутствует интрига, а совокупность тематических мотивов способствует лишь созданию атмосферы. Рецензент замечает, что «подобное можно обнаружить только в театре Чехова» (с. 40).
В статье А. Родригеса Лопеса Васкеса «Трилогия адюльтера Линареса Риваса. Заметки для назидания театру малых форм», опубликованной в журнале «Ленгуахе и текстос»18, говорится о том, что часто режиссеры не передают нюансы авторских текстов и что необходимо искать такие театральные приемы, с помощью которых наиболее точно можно было бы выразить в спектакле весь комплекс идей, заложенных в тексте драматического произведения. Данная проблема побуждает автора статьи сделать экскурс в историю мирового театра и обратиться к сценическим новациям Станиславского и Немировича-Данченко, которые успешно интерпретировали сложную драматургию Чехова. При этом подчеркивается диалектика взаимодействия драматурга и режиссеров: Чехов преобразовал драму, в частности, традиционные длинные монологи — рассуждения персонажей заменил филигранно отточенным диалогом, усложнил эмоциональную окраску действия; прежние эмоциональные контрасты уступили место полутонам: тональность чеховской драматургии — это постоянное балансирование между комическим и трагическим и т. д.
Станиславский и Немирович-Данченко реформировали театр. «Таким образом, — утверждает Васкес, — нововведения Чехова получили дополнение за счет сценического пространства, жеста, интонаций, ритма и т. д.» (с. 38).
Началось XXI столетие. Испания продолжает постигать Чехова.
Антон Чехов. «Шведская спичка» и другие рассказы. Барселона, 1982. Перевод А. Видаля. Иллюстрации П. Штейнмейера. Обложка
Антон Чехов. Палата № 6. Мадрид, 1986. Перевод Р. Сан Висента. Предисловие — статья М. Горького. Обложка
Антон Павлович Чехов. Чайка. Вишневый сад. Барселона, 1981. Перевод А. Видаля. Предисловие Э. Льовета. Обложка
Примечания
1. Chéjov A.P. Primeros relatos. Barcelona, 1981.
2. Valverde J.M. Introducción // Ibid. P. I—XXIII.
3. Chéjov A. La cerilla sueca y otros cuentos. Barcelona, 1982.
4. Chéjov A. El pabellón № 6. Prólogo de Maxim Gorki. Madrid, 1986.
5. San Vicente R. Antón Chéjov: el arte de lo cotidiano frente al poder de la vulgaridad; Lakshin V. Sobre el arte de Chéjov: la voz de un hombre libre // Chéjov A. Mi vida, el pabellón número seis y otros relatos. Barcelona, 1992. P. 9.
6. Chéjov A.P. Cartas a Olga: correspondencia Chéjov — Olga Knipper (1899—1904). Barcelona, 1996.
7. Sánchez A. Chéjov (Antón Pávlovich) // Diccionario enciclopédico. Coordinador general: J. Órtiz Chaparro. Vol. 4. Madrid, 1996. P. 3616.
8. Chéjov A. Relatos breves y novelas cortas. Madrid, 1999.
9. Chéjov A.P. La isla de Sajalín. Madrid, 1998.
10. Chéjov A. La dama del perrito y otros relatos. Barcelona, 2000.
11. Chéjov A.P. Cuentos imprescindibles. Barcelona, 2001.
12. Chéjov A.P. Cuentos. Valencia, 2001.
13. Llovet E. Versión // Antón Chéjov. La gaviota. Barcelona, 1981. P. 7—8.
14. Thékhov A. L'oncle Vània. Barcelona, 1983.
15. Coca J. Semblança d'Anton P. Thèkhov // Ibid. P. 5—8.
16. См.: Monleón J. La visión de Lavelli // Primer Acto. 1980. № 185—186. P. 30—31; Velázquez Cueto G. Adiós al jardín: García Lorca y Chéjov // Ínsula. 1986. № 476—477. P. 13.
17. Nieva F. El diálogo dramático de Alvaro del Amo // Primer Acto. 1983. № 197. P. 39—41.
18. Rodríguez López-Vázquez A. La trilogía del adulterio de Linares Rivas: Notas para una didáctica del teatro breve // Lenguaje y textos. 1994—1995. № 6—7. P. 38.
| Предыдущая страница | К оглавлению | Следующая страница |