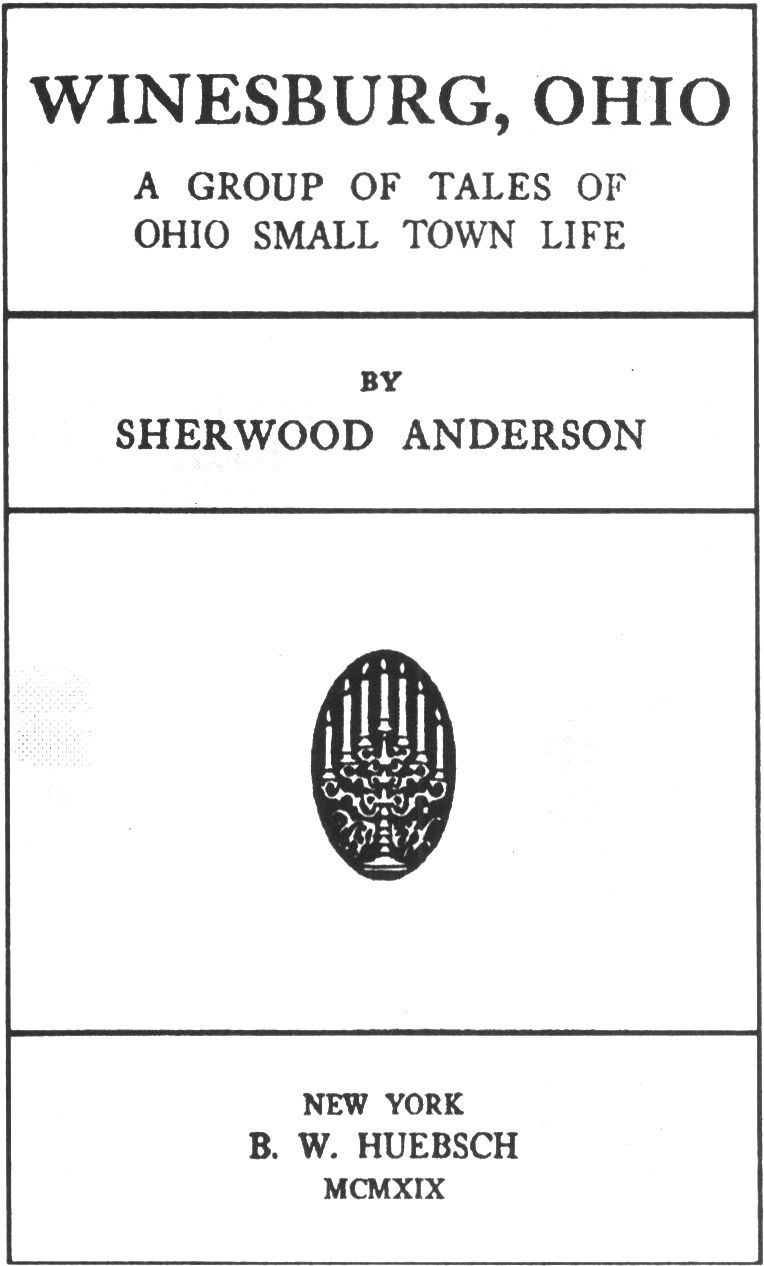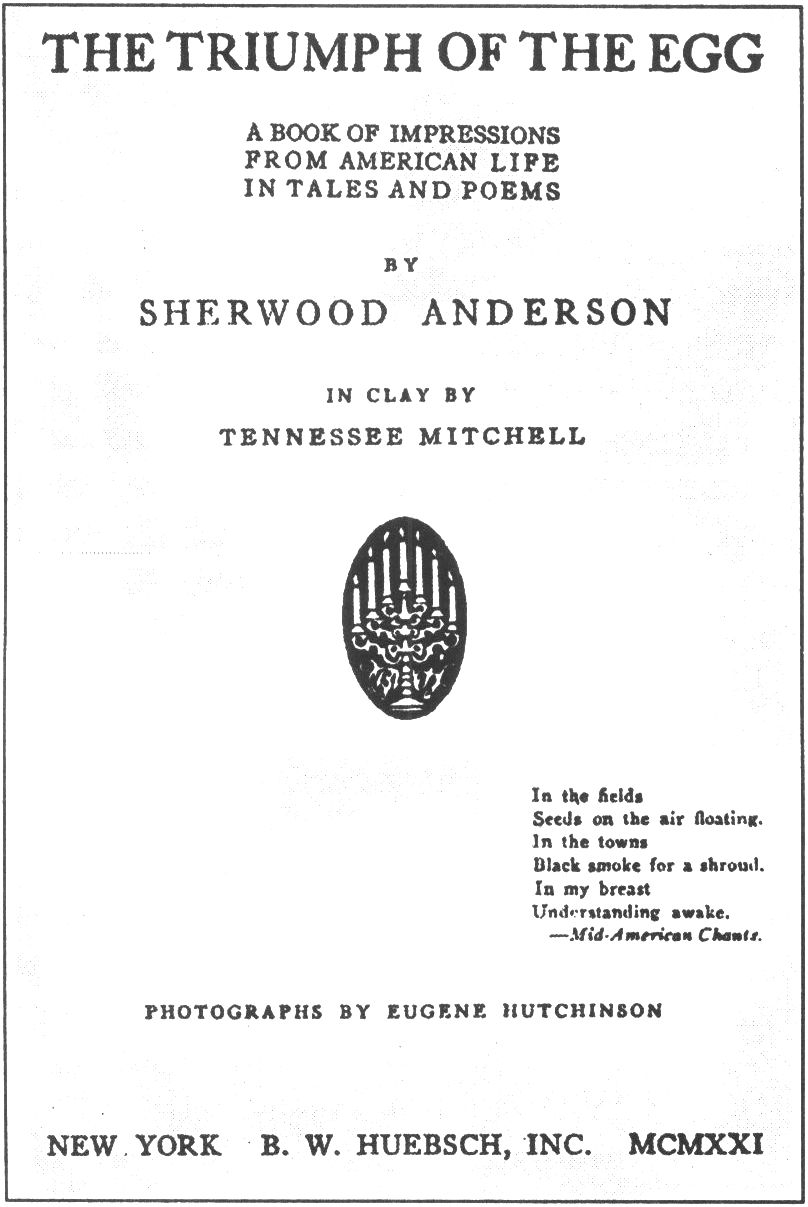Выдающийся американский писатель Шервуд Андерсон (1876—1941) был всего на 16 лет моложе Чехова, но, вступив в литературу 36-летним, оказался участником таких литературных событий, которые на первый взгляд представляются отдаленными от чеховской эпохи не промежутком в одно поколение, а чуть ли не «вековой» пропастью, не говоря уже о «пропасти» межконтинентальной.
Андерсон явился в литературу как выразитель «американского духа», свободный от европейских влияний; он следовал лишь американской традиции: Торо, Готорн, Мелвилл, Мастерс...
Эта линия развития американской литературы легко находила отклик в России. Приведем лишь один, но важный для нашей темы пример. В 1887 г. А.С. Суворин по совету Л.Н. Толстого начал публиковать в своей газете главное произведение Генри Торо «Уолден, или Жизнь в лесу» (под названием «В лесу»). В основе этого необычного в литературном отношении, чисто американского шедевра — дневниковые записи автора, построившего своими руками дом на берегу озера и уединившегося там на два года. Цель — удалиться от человеческого общества, где «масса людей ведет жизнь тихого отчаяния», совлечь с самого себя «грязный слой мнений, предрассудков и традиций, заблуждений и иллюзий» и «попытаться нащупать твердую почву».
Это — тот джентльменский набор этико-эстетических формул, из которого поколение американских писателей начала XX века, во главе с Шервудом Андерсоном и его другом Теодором Драйзером, «вышло», как русские реалисты из гоголевской «Шинели». И молодой Чехов тоже немедленно откликнулся на публикацию Суворина. В письме к молодому же Короленко он отмечает «свежесть и оригинальность» этой вещи Торо, но тут же и жалуется, что «читать трудно»: «Красивые и некрасивые, легкие и тяжеловесные мысли нагромождены одна на другую, теснятся, выжимают друг из друга соки и, того и гляди, запищат от давки» (II, 130).
Как сам Чехов решил проблему сочетания «свежести и оригинальности» с тем, чтобы читать (ставить, смотреть и т. п.) было легко, — всем известно. Тем же путем, отвечавшим насущным потребностям развития мировой прозы и драматургии, шел Шервуд Андерсон. Во всяком случае, по утвердившемуся в американской критике мнению, именно Андерсона «можно назвать основоположником современного американского рассказа»1. Но и становление «чеховской школы» в англоязычной прозе также традиционно связывается с его именем2 — особенно с первыми сборниками рассказов — «Уайнсбург, Огайо» (1919) и «Триумф яйца» (1921); о последнем Вирджиния Вулф писала, что в нем «сталкиваешься с таким перераспределением первоэлементов искусства, которое заставляет широко раскрыть глаза от удивления. Это напоминает то чувство, с каким впервые читаешь Чехова»3.
А между тем сам Андерсон неоднократно заявлял, что совершенно не был знаком ни с Чеховым, ни вообще с русской литературой в период написания рассказов, вошедших в эти первые сборники. Ему вторили американские критики, начиная от первых (газетных) рецензентов «Уайнсбурга», и с ними трудно не согласиться. Для тех художественных задач, которые ставил и решал в своих рассказах Шервуд Андерсон, традиции Торо и Мел-вилла были первичны, а в плане «технического» ученичества чтение Джеймса и Мастерса, казалось, могло заменить чтение Достоевского, Тургенева, Чехова...
Могло — но не заменило. Американские биографы Ш. Андерсона считают, что в пору ошеломительного успеха «Уайнсбурга» и «Триумфа яйца» он намеренно скрыл свое знакомство с русской литературой, и прежде всего с Чеховым. Цель предлагаемой публикации мемуарных и эпистолярных материалов, впервые переведенных мною на русский язык (а два письма, извлеченные из фондов РГАЛИ, никогда не публиковались также и в оригинале), — проследить так называемое «чеховское влияние» на американского писателя в его сложности, своеобразии и эволюции.
* * *
Хотя сравнение с Чеховым в устах Вирджинии Вулф и означало для Андерсона, по мнению его биографов, пропуск «в «международное» сообщество художников и писателей»4, однако само по себе оно мало проясняет сущность «чеховской школы» в американской литературе и процесс усвоения европейских влияний самим Андерсоном, на деле протекавший несколько иначе, чем это представлялось Вирджинии Вулф.
В 1914 г. в Чикаго Андерсон близко сошелся с теми литературными кружками, деятельность которых впоследствии стала известна как «чикагский Ренессанс». «Они, — пишет Ирвинг Хау, — чувствовали органичную связь с современными европейскими реалистами, а в Америке не видели сколько-нибудь ценной, приемлемой для них культурной традиции»5. «Уайнсбург» задуман и начат в виде отдельно публикуемых рассказов именно в это время, и недаром Эрнест Бойд в предисловии к одному из первых изданий книги писал: «За незамысловатыми историями жителей Уайнсбурга угадывается глубокий смысл, то откровение, какое мы привыкли находить у великих русских писателей. При этом рассказы Андерсона заставляют вспомнить скорее Чехова, чем Достоевского, поскольку в них прежде всего поражает умение скупыми средствами передать все многообразие жизни»6.
Однако ряд влиятельных американских критиков сразу же оспорили правомерность такого сравнения. Так, автор одного из первых критических отзывов на «Уайнсбург», Х.У. Бойнтон, писал: «В этих рассказах <...> нет и в помине духовных притязаний русских реалистов и их подражателей. Мистер Андерсон — из школы Стивенсона, но при этом он еще и морализатор: любит дать четкую постановку вопроса и ясный короткий ответ»7. Разумеется, одна из причин возникшего противопоставления состояла в том, что из Чикаго или Нью-Йорка русская провинция Достоевского или Чехова воспринималась как абстрактная «духовная» провинция, а Уайнсбург Шервуда Андерсона — как вполне бытовая «одноэтажная Америка», настолько бытовая, что ее изображение ощущалось как простое бытописательство, цикл «зарисовок с натуры», почти бесформенный.
Кстати, именно так оценивали и чеховские рассказы их первые критики — и точно так же, как это было с формой чеховских рассказов, «лирическая форма» рассказов Андерсона вполне вошла в читательское сознание лишь со временем. Но характерно, что и после этого чеховское влияние на Андерсона критики категорически отрицали. Так, Уолдо Фрэнк в статье ««Уайнсбург, Огайо»: двадцать лет спустя» замечал: «Первое, что поразило меня при перечитывании, — так это то, что «Уайнсбург» имеет форму: и книга как целое, и большинство рассказов. Это — цельное творение. Его форма — лирическая, хоть она и не имеет никакого, даже отдаленного родства с эстетикой Чехова»8. В то время, когда Уолдо Фрэнк перечитывал Андерсона и писал эту статью (конец 30-х гг.), сам автор «Уайнсбурга» о своем «родстве с эстетикой Чехова» думал совершенно иначе, но об этом ниже.
Устанавливать факты литературных влияний на Андерсона трудно, поскольку они сознательно завуалированы многослойностью мемуарного и автобиографического «жизнетворчества» Шервуда Андерсона. Если даже оставить в стороне те случаи, когда о «русском влиянии» Андерсон проговаривается в отдельных письмах и статьях, а ограничиться лишь специально-автобиографическими произведениями — «Историей рассказчика», написанной в начале 30-х, и посмертно изданными «Мемуарами», написанными в конце 30-х — начале 40-х годов, то и тогда полученные фактические сведения окажутся достаточно скупыми и подлежащими перепроверке по другим источникам. Прежде всего в такой перепроверке нуждается подборка высказываний о «чеховском влиянии» в «Мемуарах Шервуда Андерсона», открывающая предлагаемую публикацию.
В литературную среду, открытую европейским влияниям, Андерсона ввел Флойд Делл — «второстепенный романист «из молодых»...»9. Процесс усвоения этих влияний Делл подробно описал в своей книге «Интеллектуальное бродяжничество» (1926), приводя примерно тот же список наиболее влиятельных европейских писателей, что и в «Мемуарах Шервуда Андерсона». В этой среде, согласно собственному мемуарному свидетельству писателя, он и «услыхал» о русских классиках («новый мир их книг открылся мне гораздо позднее»).
Очевидно, именно это место в мемуарах Андерсона его биографы и рассматривают как основную «обмолвку», зачеркивающую все его уверения в том, что ни Чехов, ни Тургенев не могли повлиять на его первые новеллистические сборники. Впрочем, Ирвинг Хау, кроме «замечания, проскользнувшего в мемуарах», насчитал еще «два высказывания в письмах и отдельные места автобиографии», противоречащие утверждению Андерсона, что он вообще не читал русских до выхода «Уайнсбурга» <...> Да и можно ли, — восклицает биограф, — принять на веру все, что Андерсон говорил о своем прошлом? Например, в начале 20-х годов его издатель — возможно, по просьбе Андерсона и уж во всяком случае с его согласия — публично заявил, что Андерсон не читал «Антологию реки Спун» до того, как закончил «Уайнсбург», и настаивал, что книга Мастерса вышла в свет уже после того, как отдельные новеллы «Уайнсбурга» были напечатаны в журналах. И хотя то и другое неверно, Андерсон не потрудился исправить своего издателя. Как многие писатели без образования, он наверняка боялся, что признание литературного влияния поставит под сомнение значительность и оригинальность его произведений10. А Фредерик Дж. Хоффман утверждает, что Андерсон «ревниво относился к разговорам о своей неоригинальности. У него была такая привычка: если его с кем-то сравнивали или при нем говорили о ком-то, чьи мысли казались ему похожими на его собственные выношенные мысли, то он обязательно разыскивал и прочитывал книги этого автора». И тут же, ссылаясь на собственное замечание Андерсона в «Истории рассказчика», Хоффман пишет: «Когда критики указали ему на русское влияние, он стал читать русских»11. Однако если в «Мемуарах» верно описана та ситуация, в которой Андерсон впервые «услыхал» о русской литературе, то, конечно, вряд ли знакомство с ней он отложил до того момента, когда его собственные рассказы стали печатно с нею сравнивать...
Такой же пример запутанности вопроса о «влиянии» представляет собой история термина «фаллический Чехов», который прочно закрепился за Андерсоном в американском литературоведении XX в.12 и многое объяснял его современникам: объяснял как его сходство с русским классиком, так и существенное отличие его эстетики от чеховской. Сам Андерсон любил играть этим термином, любил демонстративно вдумываться в его значение, как он делал это в «Истории рассказчика».
«Я уже опубликовал несколько рассказов, и, по не совсем понятной мне причине, очень многие рассердились на мои рассказы. Я получил много оскорбительных писем. Меня называли извращенным, насквозь испорченным человеком. <...> Даже мой друг Пол Розенфелд называл меня «фаллическим Чеховым». Не страдал ли я эротоманией? Не был ли я пропащим человеком?»13
При этом, как утверждает «рассказчик», многим его читателям «извращенными» казались именно те рассказы, в которых все его существо «совершенно обезличивалось, изливая себя на бумаге в написанных словах»14. Это как раз то, что Чехов называл своей «объективностью», а Л.Н. Толстой — чеховской «искренностью», благодаря которой он создал «новые для всего мира формы», но тот же Толстой (после чтения «Дамы с собачкой») — «неразделением добра и зла» («почти животные»). Та же логика породила и термин «фаллический Чехов» (разумеется, никакой «эротомании» в чеховских произведениях нет — но нет ее и в андерсоновских: просто первые читатели Чехова еще не были знакомы с Фрейдом, а в пору литературного дебюта Андерсона фрейдизм был на пике популярности).
* * *
Одним из замечательных источников русского влияния в западной литературе, прежде всего в драматургии, явились гастроли труппы Художественного театра по Европе и Америке в начале 20-х гг. На спектаклях «художественников» западный зритель из первоисточника знакомился с русской классикой, сразу становившейся близкой, понятной десяткам тысяч людей.
«Дорогая госпожа Чехова, я видела вас в «Трех сестрах» <...> — писала 4 февраля 1923 г. одна из многочисленных американских почитательниц таланта О.Л. Книппер. — <...> В течение всего спектакля вы воплощали многих и многих из нас <...> Будет ли когда-нибудь ответ на то, о чем Ольга спрашивает в конце спектакля?.. А если ответ придет, поможет ли он нам хоть в чем-нибудь преодолеть свое серое скованное бездействие?»15
Всего за неделю до этого письма — 27 января — не менее сильным впечатлением от увиденного там же, в Нью-Йорке, «Вишневого сада»16 делится со своим русским переводчиком П. Охрименко Шервуд Андерсон.
В короткой андерсоновской фразе: «Я смог бы жить в водовороте русской жизни, понимать ваш язык и — писать пьесы» — сконцентрировано то сильное эмоциональное впечатление, которое он испытал от мхатовского спектакля.
Почему же именно после просмотра «Вишневого сада» Андерсон принял решение испытать себя в драме? Очевидно, чеховская пьеса и мхатовский спектакль помогли ему осмыслить необходимость проверки на театре тех истин, художественное открытие которых знаменовали его новеллы. Они же и помогли осознать ту тенденцию «депрофессионализации» или «детеатрализации» мировой драмы, которая предрешила успех пьесы «Яйцо».
Этот кризис профессиональной драматургии и вызванное им настоящее нашествие в театр непрофессионалов оказались вообще характерны для театральной культуры конца XIX — начала XX в. на ее магистральных направлениях (вспомним лишь историю создания самого МХТ) и в высшей степени характерны также для американского театра 20-х годов. Для примера вновь сошлемся на Флойда Делла, который свел Андерсона с представителями «чикагского Ренессанса», но вскоре первым из писателей Среднего Запада отправился завоевывать Нью-Йорк. Здесь он вскоре входит в группу таких же молодых и радикально настроенных писателей (среди них Джон Рид и Майкл Голд), которая в историю американской литературы и театра вошла как «Провинстаунская труппа». Ни один из ее участников, как подчеркивает современный исследователь, «не был до того профессионально связан с театром» — они «интересовались искусством, литературой и политикой, а не театром как таковым» и «отвергали давно бытовавшее мнение, будто сочинение пьес — это узкоспециальное и нехудожественное по существу занятие»17.
Теодор Драйзер еще в 1915 г. призывал одного из критиков-единомышленников брать за эталон не «тривиальные» местные образцы, а «подлинные достижения литературы, такие как драма Чехова <...>»18. Неудивительно, что во время поездки по СССР в 1927—1928 гг. Драйзер особое внимание уделил театру — не только экскурсии в музей МХАТ, но и (судя по его собственному заявлению в Харькове) современной «постановке театрального дела»19; беседам не только со Станиславским, но и с Таировым, который поразил его заявлением о том, что «самые жизненные пьесы современности рождаются сейчас в Америке»20. В 1928 г. также и Джон Дос Пассос возвращается из поездки по России и организует в Нью-Йорке «Театр новых драматургов», где уже в сезон 1928—1929 гг. ставит свою пьесу «Акционерное общество Авиапуть», воспринятую критикой как произведение, несущее «политические выводы <...> в логике чеховского театра»21.
В свете указанной тенденции неудивительно, что именно знакомство с драматургией Чехова и чеховской театральной эстетикой помогло и Шервуду Андерсону увериться в своей способности «писать пьесы». Его путь в театр и был во многом путем изучения, развития, а порой и сознательного повторения классического пути «рассказчика» в театр — того, которым тремя десятилетиями ранее прошел Чехов. И, вернувшись в последние годы жизни к драматургическим замыслам, Андерсон мечтает о собственном «Вишневом саде». Роджеру Серджелу, своему ближайшему другу этих лет, он с особой торжественностью сообщает о том, что читал письма Чехова, которые дали ему новый «самоутверждающий» импульс. Не имея сведений о том, какое именно английское издание писем Чехова было в руках у Андерсона в 1936 г., можно лишь предположить, что одно из писем к О.Л. Книппер должно было бы остановить его внимание. В этом письме Чехов, получив известие из Киева о громадном, отчаянном и проч. успехе «Трех сестер», говорит о том, что «следующая» его пьеса «будет непременно смешная, очень смешная, по крайней мере по замыслу» (IX, 220). Ибо в письме к Серджелу Андерсон далее сообщает: «Если я решусь писать следующую <пьесу>, то это будет комедия <...> о южной аристократии».
Для драматургии США 30-х гг., по мнению критики, «Вишневый сад» уже успел стать «эталоном для наблюдения и описания распада определенного сословия и связанных с ним традиций, будь то в Нью-Йорке или на Юге»22. И такую пьесу по «эталону» чеховской комедии написал не Шервуд Андерсон, а Клиффорд Одетс («Потерянный рай»), который, как считал американский критик, научился у Чехова прежде всего искусству «строить живой диалог», в котором «многое кажется <...> случайным <...>, но в действительности все работает на конечную цель» — объяснение характеров «через неспособность общения с ближними»23. Правда, американский исследователь Т. Виннер в обзоре «Чехов в Соединенных Штатах Америки» находил, что «подобный диалог с двойным смыслом» можно встретить еще в пьесах «О'Нейла и Андерсона»24. Но Шервуд Андерсон так и не стал драматургом, имя которого можно было бы поставить рядом с именами Юджина О'Нила (О'Нейла) или Максуэлла Андерсона (историософские и социально-психологические пьесы которого как раз и подходят под выше процитированное определение). Очевидно, уже к началу 30-х гг. дело непрофессионалов в американском театре было сделано, и он потребовал нового витка профессионализации. Ш. Андерсон почувствовал это слишком поздно, когда пьеса «Уайнсбург, Огайо» (написанная в соавторстве с профессиональным режиссером Джаспером Дитером) была закончена. Этот поистине драматический момент в биографии американского писателя и отражает его письмо к Серджелу, где он вновь пытается оправдаться опытом Чехова (см. ниже, с. 739—740).
Готовя для сцены «Уайнсбург», Андерсон рассчитывал на постановку на Бродвее и повторение успеха первой пьесы «Яйцо». Однако этим надеждам не суждено было сбыться. Постановка Джаспера Дитера в филадельфийском театре «Хеджроу» (И. Хау называет ее «достаточно тонкой»25) не привлекла внимания бродвейской театральной элиты: Андерсон уже вышел из моды и еще не стал классиком. Он не унывает и готовит инсценировку сборника «Триумф яйца», но и эта его «новая пьеса» успеха не имеет. В предисловии к ней, написанном в 1937 г., Андерсон (опять-таки очень по-чеховски) предупреждает, что «пьеса требует очень тщательной постановки, в которой удалось бы соблюсти равновесие трагического и комического»; ставить же пьесу только «для смеха» или «только для слез» — значит намеренно «разрушать» ее26.
Мода на русскую литературу и «чеховский бум» 20-х гг., казалось, навсегда остались в прошлом к тому времени, когда Андерсон в письмах к начинающим писателям Г. Мартин и Дж.П. Каллену, литературоведу К. Дейвенпорту продолжает в качестве эталонов прозы все так же настойчиво указывать рассказы Тургенева и Чехова. «В России <...>, — восклицает он в «Истории рассказчика», — писатель сидел и писал. О, как хорошо справлялся он со своей задачей, как близок он мне, когда я читаю его! Какое острое ощущение окружающей жизни дает он! Вместе с ним входишь в эту жизнь <...>»27.
Из «Мемуаров Шервуда Андерсона»
Все мои знакомые, которые хоть сколько-нибудь интересовались литературой и литературной работой, всегда говорили мне, что О. Генри — великий американский писатель-рассказчик. Но сам я не считал его великим. «У него слишком много трюков», — думал я. По-настоящему великими нашими рассказчиками я считал Марка Твена, автора «Гекльберри Финна», и Мелвилла, автора «Моби Дика». Сам я был вне всяких школ. И лишь спустя много лет я пришел к Чехову и к тургеневским «Запискам охотника»...
* * *
Бен Хект ходил из угла в угол и без конца цитировал Флобера, которого он недавно прочел; Майк Кэрр часами декламировал стихи Суинберна; Александр Каун все говорил о жизни русской деревни — я тогда впервые услыхал о русских писателях, о Толстом, Достоевском, Чехове, Тургеневе. Новый мир их книг открылся мне гораздо позднее.
Не тогда ли — позднее — один из наших критиков назвал меня «фаллическим Чеховым»?
* * *
И теперь я думаю, что все прочитанное сильно повлияло на меня и отразилось в моих лучших рассказах.
Одно время я был очарован Гербертом Уэллсом и Арнольдом Беннетом. Позже очень многие критики говорили, что я весь пропитался русскими.
Это не так. Только много лет спустя я стал читать русских — Толстого, Чехова, Достоевского, Тургенева.
Вот тогда-то я и почувствовал свое родство с ними. Может, и самонадеянно так говорить, но оказалось, что Чехов и особенно Тургенев, его «Записки охотника», очень близки мне. И вскоре Пол Розенфелд, кажется, назвал меня «фаллическим Чеховым».
Из письма к Полу Розенфелду, после 24 октября 1921 г.
<...> В то время я уже чаще бывал в обществе бизнесменов, чем среди рабочих. Я ездил на всякие встречи и обеды. Эти люди, с которыми я тогда приятельствовал, без конца и очень серьезно говорили ни о чем. В душе у них было пусто, и это приводило их к половой распущенности. Брукс, кажется, как-то назвал меня «фаллическим Чеховым». Но я не извращенец и не хочу им быть. Я льщу себя тем, что просто стремлюсь сохранить чувство жизни как она есть — здесь и сейчас, на этой земле, среди этих людей.
Из письма к Петру Охрименко, январь 1923 г.
<...> Вчера я получил Ваше письмо, из которого узнал, что Вы переводите мой «Триумф яйца» и хотели бы познакомиться с другими моими книгами, — и, честно говоря, я очень обрадован и польщен и сделаю все возможное, чтобы Вам помочь.
Вы понимаете, конечно, что больше всего я обеспокоен тем, чтобы перевод сохранил, насколько это вообще возможно в переводе, дух моих рассказов. Здесь я полагаюсь на Бога и на Вас, ведь я не читаю по-русски. Пожалуйста учтите вот что. Не пытайтесь рабски следовать оригиналу. Если мои рассказы трогают Вас, то попробуйте передать свое чувство русским читателям.
Когда Вы будете читать мои рассказы, то увидите, конечно, что я очень многим обязан вашим русским писателям, и я буду счастлив, если смогу вернуть частицу долга, доставив эстетическое удовольствие русским читателям, или помогу им лучше понимать нас, американцев.
<...> Я бы даже сказал, что до тех пор, пока я не открыл для себя русских прозаиков, ваших Толстого, Достоевского, Тургенева, Чехова, я никогда не читал прозы, которая бы меня удовлетворяла. У нас в Америке сложилась дурная традиция, идущая от англичан и французов. Читатель наших популярных журналов привык требовать от рассказа замысловатого сюжета, фокусов и трюков. И, конечно, в таких рассказах настоящей жизни нет, она отходит на второй план. Сюжет не вырастает из живой драмы человеческих отношений — а у ваших русских писателей жизнь чувствуется в каждой строке... Читая их, я понял наконец, что искусство прозы может проистекать из сочувствия людям и становиться частью самой жизни.
Из письма к Петру Охрименко, 27 января 1923 г.
Дорогой Петр Охрименко.
Я вспомнил Вас. Здесь сейчас Московский Художественный театр, и я посмотрел у них «Вишневый сад». И думаю теперь, что смог бы жить в водовороте русской жизни, понимать ваш язык и — писать пьесы.
А у нас тут почти в каждой пьесе — надуманный сюжет, который заслоняет жизнь...
Из письма к Петру Охрименко, 5 марта 1925 г.
<...> Вам будет интересно узнать, что одноактная пьеса по рассказу «Яйцо» из сборника «Триумф яйца» этой зимой была поставлена в Нью-Йорке и имела успех.
Из письма к Роджеру Серджелу, 2 мая 1936 г.
<...> Не знаю, что из этого получится, но пьесу я закончил, и вполне возможно, что Джап поставит ее в этом году. Если я решусь писать следующую, то это будет комедия. Мне видится пьеса о южной аристократии.
Я не устоял и показал твое письмо Джапу. Начался спор, который, конечно, ничего не решил. Под конец он сказал:
— Да, возможно, он и прав. Но, с другой стороны, может тебе все же удастся создать для нас новые формы.
Так-то вот.
Читал письма Чехова. Они многое проясняют. Говорю это не для того, чтобы подкрепить то, в чем я и так уверен, но когда Чехов-рассказчик пришел в театр, его ведь на самом деле обвиняли в том же, в чем теперь обвиняют меня. Я спросил у Джапа:
— Чехов — настоящий драматург?
— Да. И при этом он внес нечто новое. Половина всех присылаемых мне рукописей написана под влиянием Чехова.
Я понимаю, все это звучит как самооправдание. Но разве я оправдываюсь? Скорее это — попытка самоутверждения. Я не слишком уверен в себе. Я хотел бы писать пьесы, но смогу ли — это еще вопрос.
Из письма к Кеннету Дейвенпорту, 14 апреля 1937 г.
<...> Что касается теории новеллы, могу сказать одно: я воюю с тем, что принято называть сюжетной новеллой. Не думаю, что на меня оказал какое-либо влияние По, и не верю я в его слишком уж четкие формулы. По моему мнению, саму идею американского рассказа сильно исказил и О. Генри под влиянием Мопассана. Все эти писатели бесконечно проигрывают рядом с такими великими мастерами, как Чехов и Тургенев.
Из письма к Гарриет Мартин, 19 сентября 1939 г.
На месте начинающего писателя я не стал бы пытаться усвоить фокусы журнальных писак, а учился бы настоящему искусству у больших мастеров. Читал бы рассказы Чехова или такие книги, как «Записки охотника», — все только в этом духе.
Из письма к Джону Каллену, 7 февраля 1939 г.
Прочтите, если не читали, «Записки охотника» Тургенева. А Чехова вы читаете?..
* * *
Переводы публикуемых отрывков осуществлены по следующим источникам:
— из «Мемуаров Шервуда Андерсона» — по кн.: Sherwood Anderson's Memoirs. A Critical Edition / Newly edited from original manuscripts by R.L. White. Chappel Hill, 1969. P. 338, 334, 451.
— из писем — по кн.: Letters of Sherwood Anderson / Selected and edited with an Introduction and Notes by H.M. Jones in association with W.B. Rideout. Boston, 1953 (кроме двух писем к П.Ф. Охрименко). P. 78, 92, 93, 375—376, 431, 448.
— из писем к П.Ф. Охрименко от 27 января 1923 и 5 марта 1925 гг. — по автографам, хранящимся в личном архивном фонде П.Ф. Охрименко (РГАЛИ, ф. 1673, оп. 1, ед. хр. 24). Автограф первого письма к П.Ф. Охрименко, опубликованного в бостонском сборнике (см. выше) и датированного его составителями январем 1923 г., в фонде отсутствует.
Шервурд Андерсон. Уайнсбург, Охайо. Нью-Йорк, 1919. Титульный лист
Шервуд Андерсон. Триумф яйца. Нью-Йорк, 1921. Титульный лист
Примечания
1. Гайсмар М. Американские современники. М., 1976. С. 305. Об особенностях новеллы «чеховского типа» в творчестве Шервуда Андерсона см.: Герсон З.И. Чехов и американская новелла (Ш. Андерсон и Э. Хемингуэй). М., 1948; Звиняцковский В.Я. А.П. Чехов и Шервуд Андерсон // Жанровые формы в литературе и литературной критике. Киев, 1979. С. 85—102.
2. «Хотя чеховская концепция новеллы (short story) как лирически насыщенного фрагмента <...> повлияла на всех новеллистов XX в., наиболее непосредственное воздействие Чехов оказал в начале 20-х годов на трех писателей, которые оказались в центре внимания литературной критики, ибо в своем творчестве полнее других воплотили так называемую «современную» форму новеллы. Это Джеймс Джойс, Кэтрин Мэнсфилд и Шервуд Андерсон» (May C.E. Chekhov and the Modern Short Story // A Chekhov Companion. Edited by T.W. Clyman. Westport; Lnd., 1985. P. 149).
3. Woolf V. Collected Essays. Lnd., 1966. Vol. 2. P. 114.
4. Gregory H. Editor's Note // The Portable Sherwood Anderson. N.Y., 1977. P. 338.
5. Howe I. Sherwood Anderson. A biographical and critical study. Stanford, 1966. P. 64—65.
6. Boyd E. Introduction // Anderson. Winesburg, Ohio. N.Y., 1920. P. XIV—XV.
7. Anderson. Winesburg, Ohio. Text and Criticism. N.Y., 1977. P. 260.
8. Ibid. P. 370.
9. Hoffman F.J. The Twenties // American Writing in the Postwar Decade. N.Y.; Lnd., 1962. P. 460.
10. Howe I. Op. cit. P. 93—94.
11. Anderson. Winesburg, Ohio. Text and Criticism. P. 315.
12. Ср.: Гайсмар М. Указ. соч. С. 77.
13. Андерсон Ш. История рассказчика. М., 1935. С. 260, 261.
14. Там же. С. 260.
15. Ольга Леонардовна Книппер-Чехова. Ч. II. Переписка (1896—1959). Воспоминания об О.Л. Книппер-Чеховой. М., 1972. С. 137—138.
16. 19 января 1923 г. Книппер писала из Нью-Йорка: «<...> с понедельника придется в 6 дней сыграть 8 раз «Вишневый сад» <...> У нас успех огромный» (Там же. С. 137, 141).
17. Литературная история США. М., 1979. Т. 3. С. 359.
18. Letters of Theodor Dreiser. A selection. Philadelphia, 1959. Vol. 1. P. 187—188.
19. Американский писатель Теодор Драйзер в Харькове // Пролетарий (Харьков). 1927. 18 декабря.
20. Dreiser looks at Russia. N.Y., 1928. P. 194.
21. Оттен Н. Дос Пассос в гостях у Чехова // Интернациональная литература. 1933. № 2. С. 121.
22. Brewster D. East-West Passage. A study in literary relations. Lnd., 1954. P. 210—211.
23. Литературная история США. Т. 3. С. 457.
24. ЛН. Т. 68. С. 785.
25. Howe I. Op. cit. P. 238.
26. Brom W. Sherwood Anderson. Minneapolis, 1964. P. 37.
27. Андерсон Ш. История рассказчика. С. 226.
| Предыдущая страница | К оглавлению | Следующая страница |