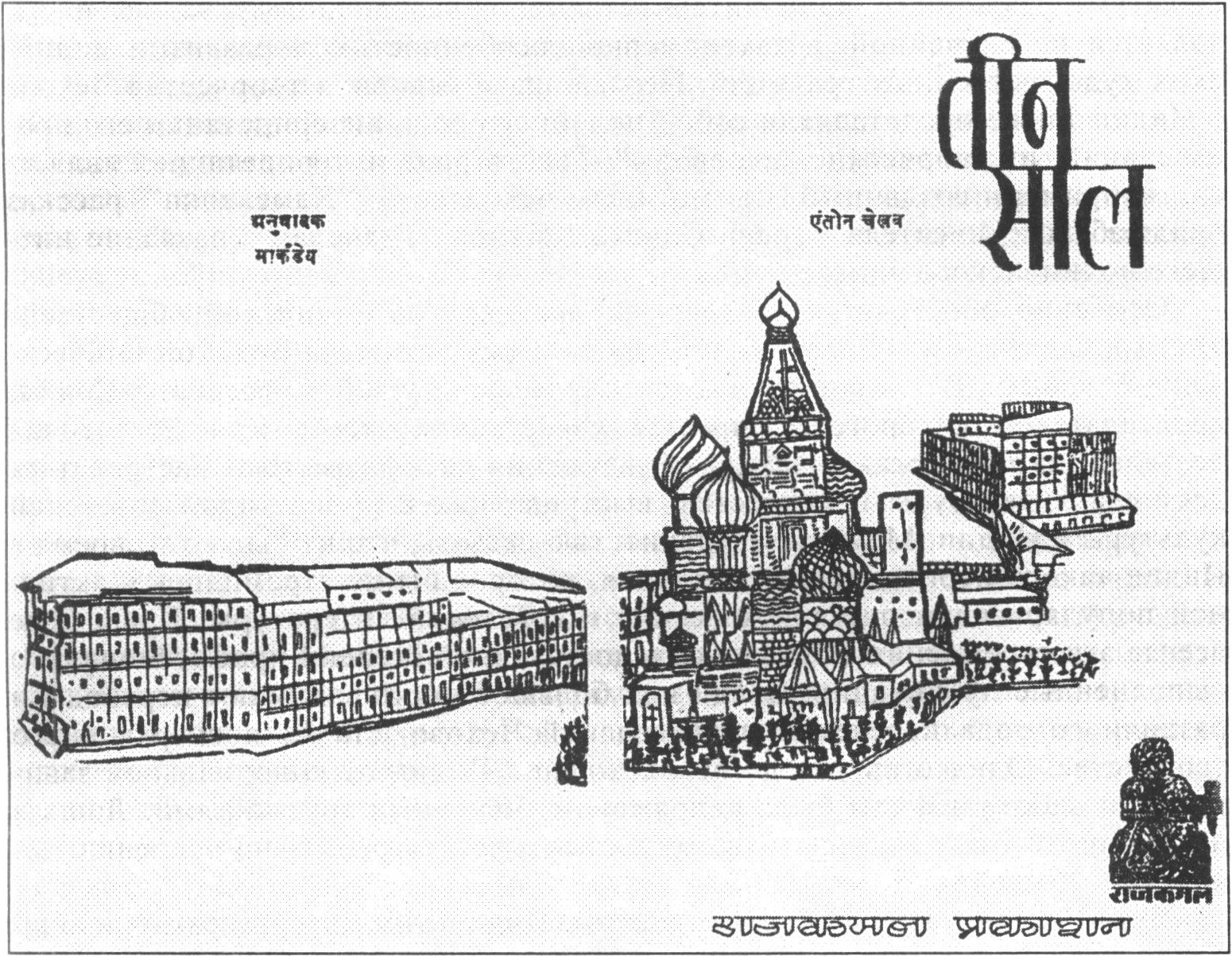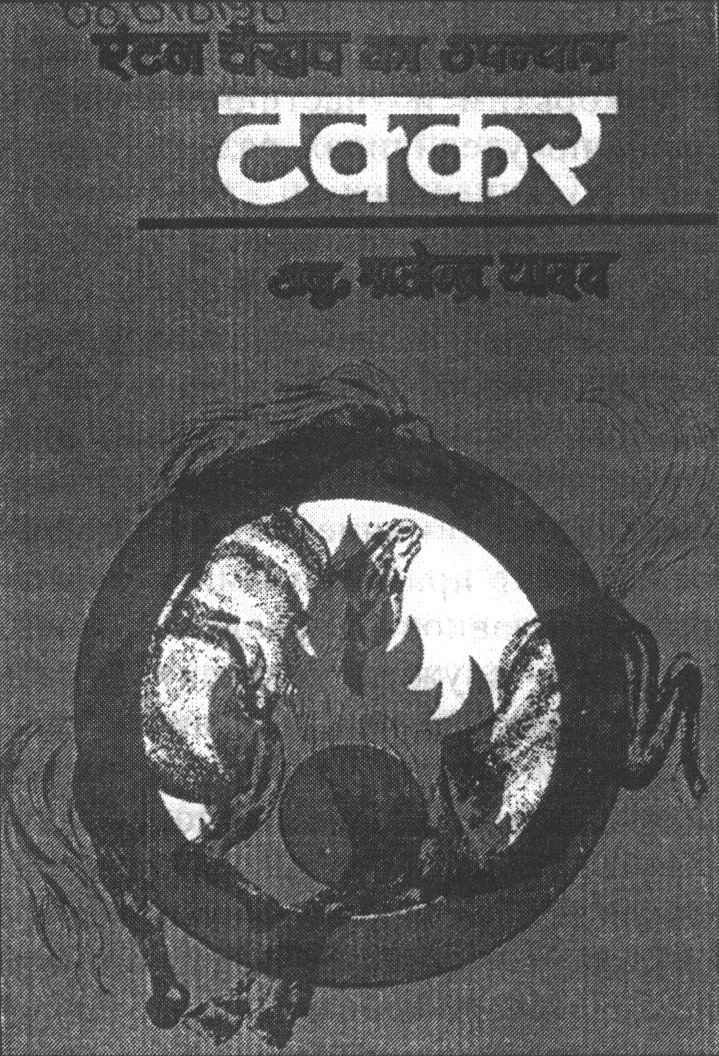Проблема эта велика и многогранна, ставится она у нас впервые и требует комплексного исследования российских и индийских специалистов. Отдельные ее аспекты освещались в работах А.П. Баранникова, В.И. Балина, Н.А. Вишневской, Н.В. Глебова, В.А. Новиковой, А.С. Сухочева, некоторых других индологов.
Первые упоминания о Чехове в Индии можно встретить еще в двадцатые годы XX в. и даже раньше. Известный литератор хинди Раджендра Ядав свидетельствует, что индийцы познакомились с Чеховым после того, как в 1903 г. в Англии вышел в свет сборник его рассказов «Черный монах» («The black monk, and other stories; translated from the Russian by R.E. Long». London, 1903). Английские литераторы, по словам Р. Ядава, представляли Чехова как «пессимиста, изображавшего жизнь неудачников»1.
Знакомство индийских литераторов с творчеством Чехова было в то время случайным и эпизодическим, а оценки его, как правило, — поверхностными и противоречивыми, а иногда и тенденциозными, перекочевывающими в Индию, главным образом, из работ некоторых английских авторов. Так, например, отмечая популярность рассказов Чехова, получивших большое признание в Европе, Премчанд в то же время говорил о том, что «кроме изображения той части русского общества, которая ведет праздный образ жизни, в них нет ничего особенного»2. Близкий Премчанду индийский литератор Ришибхачаран Джайн в своих воспоминаниях о великом индийском писателе пишет: «Я часто говорил Премчанду, что нам не нужны писатели-проповедники и наставники. Литература должна отражать жизнь во всей ее сложности и противоречивости. Я утверждал, что главная ее задача — утолять духовный голод, и вряд ли это в состоянии сделать писатели-моралисты, поэтому для меня особенно дорого и интересно творчество таких писателей, как Мопассан, Чехов, Вашингтон Ирвинг, Рабиндранат Тагор. Не соглашаясь со мной, Премчанд говорил, что в настоящее время для индийского читателя рассказы Премчанда более нужны и важны, чем рассказы Мопассана и Чехова»3. И в то же время, говоря о долге художника слова, высоко оценивая роль великих русских писателей в пробуждении революционного сознания народных масс России, Премчанд отмечал: «Если трудовой народ смог осуществить революцию в России, то он сможет осуществить ее и в Индии. Необходимо только подготовить его к этому, необходимо пробудить его таким же образом, как это сделали Толстой, Тургенев, Чехов, Горький»4. Эти слова Премчанда являются свидетельством того, как высоко он ценил огромную социальную активность, глубокую народность русской классики, в том числе и творчества Чехова.
С середины 30-х годов в индийской литературе происходят существенные сдвиги, зарождается и развивается движение прогрессивных писателей. «Это была, пожалуй, пора наиболее тесного сближения нашей литературы с западной, — отмечает Фаиз Ахмад Фаиз. — В области художественной прозы таким связующим звеном были произведения великих русских реалистов XIX века»5. Обращенная к простому человеку, отличающаяся большой социальной активностью, глубокой народностью, русская классика, как никакая другая зарубежная литература, отвечала непосредственно потребностям общественного и литературного развития Индии. В произведениях русских писателей индийские литераторы находили ответы на многие волновавшие их вопросы, искали поддержку в своих сомнениях и исканиях, что объясняется высоким нравственным, гуманистическим потенциалом русской литературы, а также сходством общественной ситуации в Индии того времени и в России конца XIX века.
В эти годы индийские литераторы обращаются к Чехову, стремясь найти в его творчестве источник вдохновения и поддержку в поисках новых путей развития литературы, изображающей суровую правду жизни. На этот факт впервые обратил внимание академик А.П. Баранников. Рецензируя журнал «Урду», выходивший в то время в Индии, советский ученый обращает внимание на печатавшиеся в нем статьи Мухаммада Муджиба о Чехове, в которых, рассказывая о русском писателе, индийский литератор, в частности, отмечал: «В области короткого рассказа Чехов не имеет себе равных в мировой литературе...» «Из библиографических указаний и случайных упоминаний, — пишет А.П. Баранников, — нам известно, что аналогичные работы появлялись и появляются на других индийских языках»6.
О популярности творчества Чехова в Индии 30-х гг. свидетельствует старейший индийский литератор, неутомимый популяризатор русской литературы в Индии Банарасидас Чатурведи, которого мы вправе считать одним из зачинателей индийского чеховедения. «Однажды в разговоре с Премчандом я спросил, кого он считает самым выдающимся новеллистом в мировой литературе. Не задумываясь он назвал имя Чехова. Я был рад тому, что мнение Премчанда о Чехове совпадает с моим собственным отношением к этому писателю. Много лет я являюсь поклонником таланта Чехова. Переводы на язык хинди многих его рассказов публиковались на страницах редактируемого мною журнала «Вишаль Бхарат» («Великая Индия»)7.
Интересно рассказывает о своем знакомстве с Чеховым один из активных участников и организаторов движения прогрессивных писателей Индии выдающийся литератор урду Кришан Чандар. Мы позволим себе процитировать фрагмент из его статьи «Чехов-новеллист». «Мое знакомство с Чеховым состоялось в середине 30-х годов при следующих обстоятельствах. Я прочел снискавшую у нас широкую известность книгу Манматханатха Гупты «Премчанд-новеллист». Анализируя рассказ Премчанда «Саван», автор обнаруживает в нем черты, близкие творчеству Горького и Чехова. В то время я был знаком лишь с двумя русскими писателями — Толстым и Горьким, прочел некоторые их романы и рассказы, имя же Чехова я тогда услышал впервые. В библиотеке нашего колледжа мне удалось обнаружить несколько его произведений, которые я залпом прочел. С тех пор я постоянно обращаюсь к Чехову, стараюсь прочитать все, что о нем пишут. Многие известные литераторы мира единодушны в своих суждениях о Чехове, как о самом выдающемся новеллисте. Известно, как высоко ценил Чехова Премчанд. Нет никаких сомнений, что по красоте языка, изяществу стиля, яркости и жизненности образов, эмоциональной насыщенности, словом, по всему тому, что составляет искусство рассказа, Чехов является непревзойденным мастером. Поэтому его рассказы повсюду пользуются огромной популярностью. Нет такого более или менее известного языка, на который не были бы переведены его произведения»8.
Кришан Чандар ссылается в своей статье на Манматханатха Гупту, открывшего для него Чехова и обратившего внимание на близость рассказа Премчанда «Саван» к произведениям русского писателя. Хотя индийский литератор и не приводит в обоснование своего сопоставления достаточно развернутой и убедительной аргументации, тем не менее его замечание представляется весьма интересным и плодотворным. Я думаю, что наши индийские коллеги не будут возражать, если мы несколько продолжим мысль М. Гупты о близости этого рассказа Премчанда творчеству Чехова.
В рассказе «Саван» Премчанда, написанном в 1935 г., изображаются люди, потерявшие человеческий облик. Жалкая деревенская хижина. Ночь. В мучениях во время родов умирает молодая женщина Будхия. Ее муж Мадхо и свекор Гхису спокойно ужинают, с тупым равнодушием ожидая, когда же, наконец, она умрет и перестанет досаждать им своими стонами. А ведь только после того, как год назад состоялась свадьба в их доме, «появилось что-то похожее на благополучие и порядок». Убедившись, что Будхия умерла, Мадхо и Гхису начинают громко причитать для того, чтобы привлечь внимание соседей, разжалобить и выпросить у них деньги на похороны. Собрав, таким образом, несколько рупий, они отправляются на рынок для того, чтобы купить саван, без которого невозможно совершить погребальный обряд, но вместо этого попадают в трактир, где пропивают собранные у односельчан деньги. Условия нищенского существования, бесправия, беспросветной скотской жизни превращают человека в животное. Написал ли Премчанд этот рассказ под влиянием Чехова или Горького или без чьего-либо влияния, и сама индийская действительность продиктовала ему этот сюжет? Ответить на этот вопрос довольно трудно. В то же время «весь ход повествования органически приводит к раскрытию общего «порядка», строя жизни. Описание эпизода становится объемным художественным обобщением... Писатель стремится ни в чем не смягчать, не преуменьшать суровой правды, которая представала в действительности»9. Думается, что этот вывод, который делает М.Б. Храпченко из анализа таких рассказов Чехова, как «Неприятность», «Припадок», «Случай из практики», можно сделать и из этого рассказа Премчанда.
Многие индийские литераторы говорят о заметном влиянии Чехова на Премчанда. Так, например, сын индийского писателя известный литератор хинди Амрит Рай считает, что с годами проза Премчанда «...становилась все проще и чище и под влиянием собственного жизненного опыта художника и под влиянием европейского рассказа <...> чувствуется, как четче становится реалистическая тенденция, как кристаллизуется его рассказ <...> Этой дисциплинированности нового жанра Премчанд научился не только на своем личном опыте, но и под влиянием таких мастеров рассказа, как Толстой, Чехов и Горький. Пожалуй, больше всего Толстой»10.
А.П. Баранников также обращает внимание на идейно-художественную близость между творчеством Премчанда и Чехова. В статье, написанной в 1931 г., еще при жизни Премчанда, явившейся первой публикацией об этом писателе в России, основоположник советской индологии пишет: «Подобно Чехову, значительная часть рассказов которого переведена на ряд современных индийских языков, Премчанд изображает ничем не выдающихся, средних людей в простой, повседневной, прозаической обстановке, и тем отчетливее выступают язвы, разъедающие современную Индию, особенно индийскую деревню <...> В деревне Премчанда мы не найдем красот: грязная и зловонная, она населена оборванными, голодными и забитыми крестьянами, которые низведены почти до положения скота»11.
Нужно сказать, что в то же время не все высказывания того или иного индийского писателя о Чехове могут быть приняты без оговорок, так как они бывают подчас весьма противоречивыми, субъективными, зависящими от разных обстоятельств и в значительной мере — от степени проникновения в художественный мир Чехова. Разумеется, необходимо учитывать, насколько в тот или иной период своего творчества индийские писатели были знакомы с Чеховым.
Так, например, некоторые реалистические рассказы Рабиндраната Тагора 90-х гг. могут показаться близкими по своей общей тональности рассказам Чехова и может возникнуть искушение обнаружить следы влияния русского писателя на творчество великого бенгальца. Тем более, что известно: Тагор с большим интересом относился к русской литературе, собирая ее в библиотеке университета в Шантиникетоне. Однако, по свидетельству исследователей творчества Тагора, индийский писатель в то время не был знаком с Чеховым, а близость его рассказов к рассказам Чехова объясняется в данном случае не влиянием, а исторически обусловленным сходством литературных процессов в России и Индии. Известный индийский специалист по творчеству Тагора Упендронатх Бхотточарджо пишет: «В то время, когда Тагор начал писать свои рассказы <90-е годы XIX в. — Е.Ч.>, необычайную славу и широкую известность приобрели рассказы Чехова и Мопассана. Однако они не оказали никакого влияния на Тагора, к тому же бенгальские читатели в то время не проявляли интереса к западной новеллистике»12. Развивая эту мысль в своей интересной книге о Тагоре, Кришна Крипалани отмечает: «Чехов и Мопассан в то время еще не были известны Тагору. Только эти два зарубежных писателя могут быть сопоставлены с ним в жанре новеллистики, но он отличается от них и в технике, и в общей тональности творчества также, как оба они отличаются друг от друга»13. Индийский социолог и исследователь Тагора Д.П. Мукхерджи определяет это различие таким образом: «Русский классик отличается искренностью души, французский — остротой разума, а Тагор — искренностью чувства»14.
К сожалению, нам пока не удалось найти прямых свидетельств отношения Тагора к творчеству Чехова. Однако есть все основания полагать, что он со временем сумел с ним познакомиться и высоко его оценивал, о чем говорит, например, следующая выдержка из письма Тагора известному бенгальскому прозаику Промоту Чоудхри. «Читая твои рассказы, я все время вспоминал рассказы Чехова. Так же как и он, с необыкновенной легкостью ты излагаешь все то, что приходит тебе в голову»15.
Широко распространенной практикой освоения в Индии зарубежной литературы является ее переделка, приспособление к местным условиям. Практика различного рода интерпретаций, переделок, подражаний и т. д. является не случайной, а закономерной особенностью в развитии индийских художественных традиций. Первые шаги освоения творчества Чехова в Индии также представляли собой подобного рода интерпретации его произведений, их творческие «переводы». Такого рода интерпретацией является, например, созданный по мотивам чеховского «Хамелеона» рассказ пенджабского писателя Чарана Сингха Шахида «Тханедар» (название низшего полицейского чина).
Особенно обостряется интерес широких кругов индийской общественности к Советскому Союзу, культуре его народов в годы Великой Отечественной войны. В Индии создаются Общество друзей Советского Союза, председателем которого избирается известная поэтесса и общественная деятельница Сароджини Найду, объединения антифашистски настроенных деятелей литературы и искусства, выступающих с пропагандой советской культуры в Индии. Можно с уверенностью сказать, что не было в то время в Индии такого периодического издания, которое бы не стремилось к активной популяризации русской классики и советской литературы. Правда, не всегда эти стремления выливались в достаточной степени профессионально выполненные публикации. Среди них большое место занимают переводы и различного рода переделки произведений Чехова, статьи и очерки о его творчестве. Однако вплоть до освобождения Индии от колониальной зависимости работа эта там была сопряжена с большими трудностями. Лишь в независимой Индии по-настоящему развертывается работа по освоению чеховского наследия.
Путь Чехова в Индию был непростым. Индийским литераторам приходилось затрачивать много сил и труда, преодолевать многие языковые барьеры для того, чтобы донести до своих соотечественников живое чеховское слово. «Некоторые произведения Чехова попали к нам на пенджабском языке через урду, на который их перевели с английского. Английский же перевод был в свою очередь сделан с французского, — пишет индийский литератор Балвант Гарги. — Шесть раз переселялась душа Чехова из сферы одного языка в другой, прежде чем она достигла нас. Сколько же, наверное, было при этом утрачено из подлинника»16.
Многие известные индийские литераторы выступают переводчиками произведений Чехова. Первые переводы Чехова на индийские языки не были переводами в подлинном смысле этого слова. Это были скорее переделки, переложения чеховских произведений с перенесением места действия в Индию и с приспособлением их к местным условиям, вкусам и потребностям индийских читателей. Примеров подобного рода «переводов» можно привести немало. Так, например, известный литератор из Андхры Шри Шри и Аббури Вирада Раджешвари Рао перевели таким образом в 1948 г. пьесу «Вишневый сад». Хозяйка вишневого сада Раневская превращается в индианку Джаяшри, обладательницу чампакового сада, ее дочь Аня становится Аруной, приемная дочь Варя — Таруной, ее брат Гаев превращается в Варинти и т. д. Героиня приезжает в свое имение не из Парижа, а из Дели, вместо шампанского герои пьесы пьют кокосовый сок и т. д. В текст пьесы включаются дополнительные монологи и диалоги, усиливающие социальную заостренность, обличительный пафос произведения, приобретающего особую актуальность для индийцев. Вместе с тем характеры пьесы, тонкость психологического рисунка, свойственная Чехову, грустная и светлая тональность сохраняются удивительно точно и бережно. Перенеся место действия в Индию, переводчики устами Чехова обличают ложь, несправедливость, пошлость в своей стране, приобщая индийских читателей и зрителей к юмору, состраданию и гневу Чехова, к его великой мечте о человеческом счастье.
Особенно привлекательной для индийской аудитории, по нашему мнению, является свойственная чеховской драматургии тема, возникающая и в его прозе: утрата внутренних связей между людьми. Думается, что индийских зрителей привлекает в чеховской драматургии также связанная с глубоким психологизмом ее особая музыкальность, лирическая атмосфера, в которой живут и действуют герои Чехова, что перекликается с индийскими культурными традициями.
Многие индийские театральные коллективы осуществляют постановки чеховских пьес, стремясь донести до индийских зрителей их психологическую глубину. Можно с уверенностью сказать, что нет такой пьесы Чехова, которая не была бы поставлена на сцене индийского театра. Автору этих строк в разное время доводилось смотреть в Индии пьесы Чехова. Так, например, в 1967 г. я смотрел в Дели «Чайку» в постановке полупрофессионального индийского театра «Ятрик». Постановщица пьесы говорила: «Мы несем ответственность за то, чтобы зритель узнал Чехова. Трудно было сохранить национальный русский колорит «Чайки». Мы добивались того, чтобы чеховская пьеса, сыгранная на английском языке индийскими актерами, донесла до зрителей не абстрактные эмоции персонажей, а драму русской девушки в определенный период русской истории»17. В то же время не всегда индийские режиссеры добиваются полноценной передачи неповторимой прелести чеховских пьес, перенося их место действия в Индию. Рассказывая о неудачной постановке пьесы по мотивам чеховских «Трех сестер» на языке хинди режиссером Индерлалом Дасом в 1948 г., Банвант Гарги, в частности, отмечает: «Европейские пьесы, исполняемые в индийских национальных костюмах, обычно не производят впечатления на публику. В них нет ни четкости и отрывистости европейской речи, ни специфической атмосферы и колорита восточной драмы. Ольга и Ирина с их мечтательностью и грустью по своему душевному складу — типичные русские женщины, и то, что режиссер облачил их в сари, не придало им индийских национальных черт»18. Как правило, не добиваются успеха те режиссеры, которые пытаются увидеть в Чехове только сатирика или, наоборот, стремятся к подчеркиванию в его пьесах лирических или трагических элементов. Лишь целостная, многосторонняя интерпретация его пьес может способствовать их успешному сценическому воплощению.
Важно отметить, что освоение и осмысление Чехова в Индии шло постепенно, шаг за шагом индийские литераторы все глубже и глубже проникали в мир Чехова, открывая в нем для себя все новые и новые художественные ценности. Динамика его восприятия и оценок обусловливалась прежде всего художественными вкусами, идейными и эстетическими потребностями индийской аудитории, подготовленностью индийских читателей к восприятию Чехова, уровнем развития индийской литературы. Индийцы воспринимают Чехова так, как это соответствует потребностям их собственного искусства. Интересно проследить, как меняются взгляды и оценки индийских литературоведов, пишущих о Чехове. Чехов в Индии 20—30-х гг. это, главным образом, обличитель социальной несправедливости, привлекающий внимание общественности к бедственному положению маленького человека. Чехов 40-х гг. это писатель, вызывающий острое чувство неудовлетворенности окружающим, утверждающий способность угнетенного человека пробудиться от спячки и вырваться из ненавистного мира к лучшей жизни. Чехов в независимой Индии — это классик мировой литературы, тонкий психолог, великий реалист.
Распространению правильного научного взгляда на Чехова в Индии способствуют прежде всего работы индийских русистов-чеховедов, хорошо владеющих русским языком. Они занимаются переводами Чехова с русского на национальные языки Индии и следят за литературой о Чехове, которая выходит не только в Индии, но и в других странах. Примером таких работ является книга на урду «Чехов. Исследование жизни и творчества» (Дели, 1976) известного ныне покойного индийского русиста доктора Зое Ансари, долгие годы проработавшего в Москве, а затем заведывавшего кафедрой иностранных языков в Бомбейском университете. В своих исследованиях этот ученый опирался на опыт изучения творчества Чехова не только на его родине, но и во многих других странах, на большую практику переводов Чехова на многие иностранные языки. Если бы книга З. Ансари была переведена на русский или английский язык, то она заняла бы достойное место в мировом чеховедении.
На первых порах освоения чеховского наследия в Индии Чехов повлиял, главным образом, на развитие в индийской литературе жанра рассказа, но затем его воздействие оказывается чрезвычайно плодотворным на становление индийской драматургии. В этом отношении сошлюсь на исследование, проведенное в свое время Н.М. Вишневской, которая отмечает: «Индийская действительность, талант и гражданственность в сочетании с влиянием таких драматургов, как Чехов, Метерлинк, О'Нил создали Ашка-драматурга»19. Это признает и сам писатель хинди Упендранатх Ашк: одним из первых имен зарубежных писателей, у кого он учился мастерству драматурга, он называет Чехова20.
Вопрос о влиянии Чехова на индийскую литературу, несмотря на то, что индийские и советские исследователи в той или иной степени к нему обращались, до сего времени является малоизученным.
Вместе с тем многие индийские авторы говорят о таком влиянии. Старейший бенгальский литератор Гопал Халдар отмечал: «Русская действительность и русский характер раскрывались после Толстого и Тургенева в новеллах Чехова, которые наложили свой отпечаток на бенгальскую литературу»21. Литературовед Рамгопал Синх Чаухан считал, что повышению уровня драматургии хинди способствовали произведения зарубежных драматургов, в том числе — пьесы Чехова22. Рассказ Чаран Сингха «Тханедар» («Полицейский») — первое прямое свидетельство благотворного воздействия русской классической литературы на пенджабскую литературу того времени23. К.Б. Баруа отмечает, что жанр рассказа в ассамской литературе развивался под влиянием новелл Чехова и Мопассана24. О воздействии на малаяльских писателей творчества классиков мировой литературы, Мопассана, Флобера, Ибсена и Чехова, пишет К.М. Джордж25. (В нашем отечественном литературоведении о том, что Чехов оказал влияние на известного прозаика урду Саадата Хасана Манто, пишут Н.В. Глебов и А.С. Сухочев26.)
Отмечается также влияние творчества Чехова на таких известных индийских литераторов, как писатель хинди Агъейя, на малаяльского прозаика Шившанкари Такеджи Пиллая, на пенджабских писателей Балванта Гарги и Кульванта Сингха Вирка и др.
«Чехов актуален сегодня потому, что в современном мире распространены те же пороки, то же зло, против которых он так страстно боролся», — справедливо отмечал видный индийский ученый Бхагаватичаран Упадхъяйя в одной из своих статей, опубликованной в связи с празднованием в Индии 100-летия со дня рождения великого русского писателя27. «Вам может показаться странным, — отмечал в разговоре с О.Л. Книппер-Чеховой в Москве в 1958 г. индийский литератор и общественный деятель Кансинх Санкхла, — что мы, индийцы, считаем Чехова своим индийским писателем, что мы очень любим его произведения, много говорим и спорим о них. Интересно, что в первом же номере журнала «Рупабх», издающемся в моем родном городе Джодхпур в штате Раджастхан, были опубликованы чеховские рассказы «Смерть чиновника» и «Хамелеон». Вы можете спросить, почему именно эти рассказы привлекли наше внимание. Дело в том, что в Индии, как и в России конца XIX века, глубоко пустила корни бездушная чиновничье-бюрократическая система и никто не знает, когда она прекратит свое существование. Именно поэтому подобного рода рассказы Чехова чрезвычайно созвучны индийской действительности»28.
Интересной попыткой осмыслить значение уроков Чехова для индийских литераторов является книга Раджендры Ядава «Интервью с Антоном Павловичем», опубликованная в Калькуттском издательстве «Рам пурия пракашан» в 1954 г., в то время, когда в Индии отмечалось пятидесятилетие со дня смерти русского писателя. Это произведение, и до сих пор не потерявшее значения, было включено в сборник избранных работ Р. Ядава «Устами других», увидевший свет в Индии в 1981 г. Известный литератор хинди описывает свою воображаемую встречу с Чеховым в его московской квартире, состоявшуюся в июне 1904 г. В «беседе» с Чеховым автор «Интервью» задает ему вопросы, волновавшие в то время индийских литераторов, ищущих пути развития литературы в независимой Индии.
В качестве ответов на эти вопросы индийский писатель с большим искусством и знанием творчества, жизни и деятельности Чехова использует различного рода материалы из его произведений, писем, статей, воспоминаний о нем его современников и т. д. Каждый свой вопрос Р. Ядав сопровождает соответствующими комментариями, объясняет, почему индийским литераторам важно получить на него ответ у русского писателя, имя которого, по его словам, пользуется самой широкой известностью и огромным уважением в Индии.
Таким образом Чехов становится как бы участником дискуссий и споров того времени в Индии по самым животрепещущим вопросам индийской литературы. Большое внимание в «Интервью» уделяется сложному положению демократически настроенного писателя в буржуазном обществе, его зависимости от издателя. Приводится много высказываний Чехова по этой очень важной для индийских литераторов проблеме.
Много места в «Интервью» отводится поездке Чехова на Сахалин, приводятся его слова о жестокости власть имущих, о страданиях людей, об издевательствах, которым они подвергаются. Приводя отрывки из записок Чехова о его поездке на Сахалин, Р. Ядав стремится найти в них поддержку своим собственным мыслям о необходимости бороться с социальной несправедливостью. Следует иметь в виду, что в то время индийские прогрессивные писатели выступали против утопических гандистских идеалов, получивших широкое распространение в индийской литературе. Видимо, поэтому Р. Ядав ссылается на признание Чехова, что поездка на Сахалин помогла ему освободиться от влияния толстовства. В то же время наряду с критикой толстовства в «Интервью» приводятся слова Чехова, свидетельствующие о его искренней любви и уважении к великому Толстому.
Большое место в «Интервью» занимают проблемы художественного мастерства, многие из которых и сегодня актуальны для индийской литературы, нуждающейся в освоении художественного опыта Чехова. Эта часть «Интервью» заканчивается известной мыслью Чехова, что пока жив Толстой, в литературе будут сохраняться высокие идеалы.
В «Интервью» освещаются также разногласия Чехова и Горького во взглядах на искусство, подчеркивается мысль Чехова о том, что писатель в своих произведениях должен изображать жизненную правду, не приукрашивать действительность, не романтизировать ее, не выдумывать характеры героев, а брать их из жизни. Эту позицию Чехов деликатно высказал в ранних письмах к Горькому, предостерегая его от излишеств и несдержанностей в описаниях природы и людей, от тенденциозного изображения «несимпатичного начальства» и т. д. (см. VII, 352; VIII, 11—12, 258—259 и др.).
Думается, что чеховская критика Горького понадобилась Р. Ядаву прежде всего для аргументации позиций тех индийских писателей, которые выступали против идеализации и романтизации действительности, создавали образы героев, способных, по их мнению, изменить мир (так называемых адаршвади ятхартхавади). Полемику Чехова с Горьким, как и с Толстым, Р. Ядав завершает известными чеховскими словами, в которых выражено большое уважение к Горькому, к его таланту. Р. Ядав акцентирует внимание на смелом гражданском акте Чехова, отказавшегося от звания академика в знак протеста против лишения Горького этого звания.
Интересными, особенно в свете споров в Индии по вопросам модернизма, являются фрагменты из «Интервью», проливающие свет на отношение Чехова к писателям-декадентам. Опираясь на авторитет Чехова, его известные иронические оценки писателей-декадентов, Р. Ядав выражает свою собственную позицию по отношению к модернистским экспериментам того времени в индийской литературе.
Актуальным вопросом литературной жизни Индии вот уже много лет является стремление писателей найти пути и формы объединения, создать такую организацию, которая бы способствовала подлинному расцвету индийской литературы. Именно поэтому внимание Р. Ядава привлекают мысли Чехова об укреплении творческих связей, взаимопонимания между писателями, которые, по его словам, должны уважительно относиться друг к другу, не завидовать, а радоваться успехам своих коллег, не допускать двуличия, помогать начинающим писателям и т. д. В своем «Интервью» Р. Ядав пишет, что мечта о писательской коммуне, о братстве служителей пера, об ашраме*, сангаме** по индийской традиции, как он считает, возникла у Чехова под влиянием Л. Толстого, озабоченного разбродом, царящим среди писателей его страны.
В начале 50-х гг. наблюдаются кризисные явления в индийской литературе, в определенной степени вызванные искусственным противопоставлением одних писателей другим.
Значительной помехой в сплочении индийских писателей на широкой демократической основе с первых шагов независимого развития Индии явились сектантские настроения в индийском коммунистическом движении. Разделяющие эти настроения догматически настроенные критики пытались искусственно разделить индийских литераторов на прогрессивных и реакционных, зачисляя в разряд последних всех тех, кто не воспринимал социалистические идеи. Принадлежа к тем индийским писателям, которые решительно выступали против подобного рода болезненных явлений в литературной жизни Индии, в подкрепление своих позиций Р. Ядав обращается к авторитету Чехова, пытается сделать его своим союзником. В «Интервью» он стремится показать Чехова в развитии, от сотрудничества в «Новом времени» Суворина к работе в либеральной «Русской мысли», дружбе с Горьким и участию в журнале «Жизнь». При этом Ядав в какой-то степени преувеличивал радикальность его перемен.
Особенно подчеркивает Р. Ядав возражение Чехова по поводу попыток втиснуть его творчество в какие-либо схемы, зачислить его либо в консерваторы, либо в либералы. В ответ на вопрос о том, как Чехов относится к подобного рода оценкам своего творчества, в «Интервью» приводятся слова из его письма Плещееву от 4 октября 1888 г. о том, что он не принадлежит ни к какому направлению и решительно выступает против навешивания на себя всякого рода ярлыков. Р. Ядав акцентирует свое внимание на следующих мыслях Чехова, которые, как нам кажется, считает применимыми к своему собственному творчеству, и передает их так: «Главное направление моего творчества — человеческое. Главная моя задача — служить человеку, думать о его здоровье, уме, таланте, любви, освобождению от лжи, ненависти, злобы»***. Р. Ядав приводит полные горечи и сарказма слова Чехова о критике, которая не принесла ему никакой пользы и из которой он не смог почерпнуть для себя ни одного полезного совета.
В заключение своей «беседы» с Чеховым Р. Ядав обращается к нему с просьбой дать совет молодым индийским писателям, как проникнуть в тайны литературного мастерства. «Индийские писатели очень много пишут и зачастую не критически относятся к своему труду», — говорит Р. Ядав. В ответ на этот вопрос в «Интервью» приводится мысль Чехова из письма Суворину 11 марта 1889 г. о том, что необходимо много работать над совершенством формы. Приводится также совет Чехова, обращенный к начинающим писателям, — не отчаиваться, если издатели отвергают их рукописи, а настойчиво продолжать заниматься своим делом.
Прогрессивные индийские писатели стремятся сделать Чехова своим союзником в борьбе за литературу, служащую цели общественного прогресса, утверждению высоких нравственных идеалов. Чехов близок индийцам прежде всего своим протестом против духовной спячки, против удушающей атмосферы жизни средних слоев предреволюционной России, своим утверждением невозможности жить по-старому, своим ожиданием и предощущением коренных перемен во всем укладе жизни, своей верой в человека, в его способность пробудиться для лучшей жизни. В людях со «дна» жизни Чехов находит проявление подавленной в них человечности, что делало и делает его творчество особенно привлекательным для индийских писателей, пишущих о простом народе, стремящихся раскрыть лучшие черты национального характера своих соотечественников.
Большинство индийских авторов, пишущих о Чехове, решительно возражают против попыток представить его как пессимиста. Горестные раздумья Чехова о современной жизни сливаются с юмором, комедийные элементы у него сосуществуют с трагедийными. Этот сплав смеха и серьезности, сатиры и лирики, позволяющий передавать всю сложную гамму чувств, переживаний и настроений человека делает Чехова неповторимым в мировой литературе художником-новатором. Думается, что эта особенность эстетики Чехова помогла в свое время индийским литераторам, ищущим новые пути и средства художественного осмысления действительности, преодолеть нормативную традиционную эстетику.
Чехов был и остается замечательным художником, создавшим, по словам Л. Толстого, «...новые, совершенно новые, по-моему, для всего мира формы писания, подобных которым я не встречал нигде» (ЛН. Т. 68. С. 875). Индийские литераторы обращают внимание на такие важные атрибуты чеховского мастерства, как простота и естественность, сдержанность и лаконизм, сжатость и конденсированность повествования, т. е. на те качества его творчества, которых зачастую не доставало индийской литературе, особенно на первых этапах ее развития.
Индийской культурной традиции всегда было свойственно стремление глубже проникнуть во внутренний мир человека, именно поэтому индийским литераторам импонирует чеховский глубокий психологизм. Они учатся у Чехова искусству изображения человеческих характеров, раскрытию движения души героя в его борьбе с обстоятельствами.
Индийские литераторы зачастую обращают внимание на близость творчества Чехова индийским культурным традициям. Обращаясь к чеховским произведениям, они связывают их со своими собственными нравственными или социальными проблемами, с моральными принципами индийского общества. Так, например, Манматханатх Гупта отмечает, что «...в рассказе «Милочка»**** образ русской женщины соответствует идеалам ортодоксальной индусской семьи, в которой жена считает мужа высшим существом и подчиняется ему во всем». Не менее типичным для индийского общества, по его мнению, является образ героини рассказа Чехова «Стрекоза»5* — «... женщины из аристократической среды, полностью порывающей с традиционными устоями». Сопоставление этих двух типов чеховских героинь позволяет М. Гупте поставить важную социальную проблему положения женщины в индийском обществе. Рассматривая рассказ «Дама с собачкой», этот литератор ставит вопрос о браках, заключенных по расчету или договоренности родителей, часто обрекающих своих детей на горе и страдания. М. Гупта отмечает актуальность для индийцев чеховского рассказа «Хамелеон». По его словам, в Индии не перевелись еще очумеловы, являющиеся большим социальным злом.
Индийские писатели иногда говорят об общем впечатлении, которое производит на них творчество Чехова, выражая это впечатление в образах природы, эмоционально насыщенных картинах, подчеркивающих, как правило, либо проникновенный лиризм, грустную тональность, тревожные чувства, душевную боль, либо оптимистические ноты, прорывающиеся сквозь грустные, печальные мелодии, свойственные творчеству Чехова. Так, по словам Р. Ядава, произведения Чехова вызывают в его воображении картину залитого лунным светом большого заброшенного дома, расположенного в старинном парке, одинокого человека, в усталой позе сидящего в кресле на веранде. Доносятся тихие звуки музыки. Кто-то в доме играет на скрипке. Слышится затихающий шум отходящего от полустанка поезда, в ночи растворяются его огни. Или другую картину: за окнами холодная осенняя ночь, высокие деревья отбрасывают длинные тени на аллею, спускающуюся к берегу моря. Атмосфера рассказов Чехова «Поцелуй» и «Черный монах», общее настроение грусти и печали, возникающее после прочтения этих рассказов, по мнению Р. Ядава, близки и понятны индийцам, соответствуют их эстетическим вкусам и представлениям.
По словам Б.Д. Чатурведи, произведениям Чехова, несмотря на их часто печальное настроение, свойственно предчувствие больших перемен, лучшего будущего. Для подтверждения этой мысли индийский литератор приводит известный пример: «Если вы живете в каком-либо приморском городе, то даже не видя моря, вы всегда ощущаете его близость, его дыхание. Таким же образом, читая рассказы Чехова, за печалью и грустью вы всегда ощущаете бессмертный трепет дыхания жизни. В глубокой поэтичности произведений Чехова, в их устремленности в будущее, в их музыке мы улавливаем голос красоты и молодости, победы пробуждающихся сил... Нам, индийцам, следует быть благодарными великому русскому писателю, который, несмотря на суровую действительность царской России, свято соблюдал обет создавать произведения, которые пробуждали бы надежду в душах людей, живущих в глубоком мраке отчаяния»29.
Родным и близким в Индии стал Чехов. Индийские авторы, пишущие о нем, часто называют его своим, индийским писателем. Творчество великого русского писателя, пронизанное страстной мечтой о лучшей жизни, об истинной свободе и счастье человека, стало неотъемлемой частью индийской культуры.
Б. Чатурведи и Л.Я. Лазаренко (главный хранитель музея А.П. Чехова в Мелихове). Мелихово, 1959. Собрание О.Ю. Авдеевой, г. Чехов
А.П. Чехов. Три года (на языке хинди). Дели, 1962. Контртитул и титульный лист
А.П. Чехов. ДУЭЛЬ (на языке хинди). Дели, 1985. Суперобложка
Примечания
*. Ашрам (санскр.) — место уединения, лесная обитель; религиозная организация, основанная духовным авторитетом.
**. Сангам (от санскр. сангха) — поэтическая академия, возникшая, по преданию на юге Индии в IX веке н. эры.
***. Имеются в виду слова Чехова: «Мое святая святых — это человеческое тело, здоровье, ум, талант, вдохновение, любовь и абсолютнейшая свобода, свобода от силы и лжи, в чем бы последние две ни выражались» (III, 11).
****. Рассказ «Душечка».
5*. Рассказ «Попрыгунья».
1. Ядав Раджендра. Три пьесы Чехова. Перевод на яз. хинди пьес «Чайка», «Вишневый сад», «Три сестры». Бенарес, 1958. С. 9.
2. Премчанд. Искусство рассказа // Цель литературы. Аллахабад, 1954. С. 37. (На яз. хинди).
3. Джайн Ришибхачаран. Памяти Премчанда, Аллахабад, 1962. С. 42. (На яз. хинди).
4. Из письма Премчанда редактору журнала «Замана» (Время) Даянараяну Нигаму, 21 декабря 1919 г.
5. Фаиз Ахмад Фаиз. Многообразие и жизненная сила // Иностранная литература. 1964. № 4. С. 239.
6. Баранников А.П. Индийская филология. Литературоведение. М., 1959. С. 132.
7. Чатурведи. Б.Д. Мелихово — священная обитель Чехова // Соптахик Хиндустан. Дели. 13 сентября 1959. С. 9—10. (На яз. хинди).
8. Чандар Кришан. Чехов-новеллист // Вишаль-Бхарат. Калькутта, 1960. Март. С. 161. (На яз. хинди).
9. Храпченко М.Б. Художественное творчество, действительность, человек. М., 1978. С. 152—155.
10. Рай Амрит. Новое в «новом» // Иностранная литература. 1965. № 10. С. 210.
11. Баранников А.П. «Саптасародж» Премчанда // Баранников А.П. Индийская филология. Литературоведение. М., 1959. С. 9—10.
12. Бхотточарджо Упендранатх. Рассказы и романы Тагора. Калькутта, 1965. С. 3. (На яз. бенгали).
13. Kripalam Krishna. Rabindranath Tagore. A Biography. London, 1962. P. 153.
14. Mukherji D.P. Tagore. A study. Bombay, 1943.
15. Тагор Р. Письма. 1945. Т. 5. С. 3—9 (На бенгальском яз.).
16. Гарги Балвант. Индийский писатель // Литературная газета. 1955. 27 января.
17. Цит. по: Симонов В. «Чайка» под звездами // Советская культура. 1967. 25 апреля.
18. Гарги Балвант. Театр и танец Индии. М., 1963. С. 148—149.
19. Вишневская Н.М. Индийская одноактная драма. М., 1964. С. 86.
20. Ашк У. Как я пишу пьесы. Цит. по указ. кн. Н.М. Вишневской. С. 90.
21. Халдар Г. Связи между русской и бенгальской литературами // Халдар Г. Проблемы востоковедения. 1959. С. 137.
22. Чаухан Рамгопал Синх. Современная литература хинди. 1947—1962. Агра, 1965. (На яз. хинди).
23. См.: Серебряков И. Пенджабская литература. М., 1963. С. 113.
24. Баруа К.Б. Ассамская литература. М., 1968. С. 115.
25. Джордж К.М. Литература малаялам. М., 1972. С. 156.
26. Глебов Н.В., Сухочев А.С. Литература урду. М., 1967.
27. Вишаль Бхарат. Калькутта, 1960. Чеховский номер журнала.
28. Там же. С. 230.
29. См. примеч. 7.
| Предыдущая страница | К оглавлению | Следующая страница |