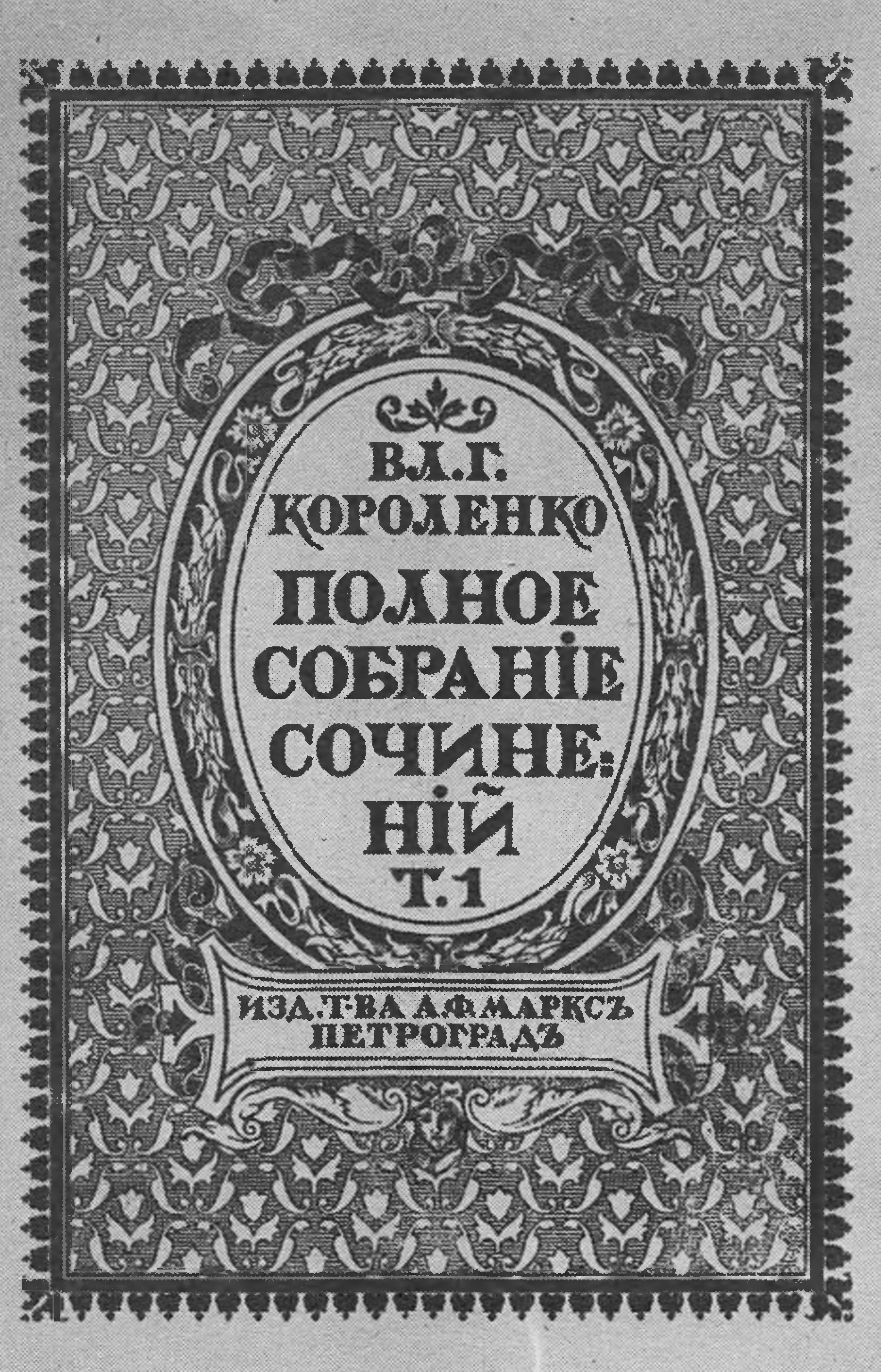Говоря о заслугах Маркса перед отечественной культурой, следует отметить не только его участие в процессе демократизации сочинений русских классиков, но и справедливо приписанную ему современниками роль «творца литературных гонораров», какими бы намерениями он при этом ни руководствовался. Правда, последовательное повышение авторских гонораров, обусловленное в основном соображениями конъюнктуры, неизбежно вызывало и нежелательные последствия. В ажиотаже конкурентной борьбы подчас не учитывались конкретные потребности рынка и интересы отечественного книгоиздания. Известно, например, со слов С.А. Толстой, что издательство «Просвещение» (в значительной степени существовавшее на немецкие капиталы) намеревалось в июле 1902 г. приобрести права на сочинения ее великого мужа «на вечное владение за миллион рублей»1. С.А. Толстая отказалась от этого предложения*. Не исключено, что руководитель фирмы Н.С. Цетлин обуславливал сделку распространением ее юрисдикции на все сочинения писателя. Подробности переговоров остались неизвестны: но свершись она, вопреки первоначальной воле писателя, и судьба его произведений зависела бы от воли зарубежных толстосумов.
Да и Маркс был не безгрешен на этот счет; непрекращающийся процесс скупки его фирмой авторских прав отражал те же монополистические тенденции. Так, в начале нынешнего века он даже вознамерился перекупить у Московской городской думы права на все издания универсальной фирмы К.Т. Солдатенкова, завещанные городу бывшим владельцем2. В то же время наполнение сейфов фирмы приобретенными авторскими правами нельзя объяснить лишь неуемной жаждой наживы. В какой-то мере этот процесс вызывался для фирмы и жизненной необходимостью: приходилось из года в год обновлять ассортимент издаваемой литературы, учитывать веяния времени, вкусы и интересы новых категорий читателей. «Круг читателей в России расширяется за счет так называемого «народа», т. е. крестьянина и рабочего», — писал в начале века Горький3. Именно это обстоятельство заставляло фирму ориентироваться на демократические слои русского общества. Указанная тенденция была всегда ей свойственна, но особенно резко обозначилась к концу века, заставив Маркса обратить внимание на так называемых «молодых» писателей, в первую очередь Чехова. Эти же причины вынуждали его искать контактов с А.М. Горьким, В.Г. Короленко, К.М. Станюковичем, приобрести права на издание сочинений А.К. Шеллера-Михайлова и М.Е. Салтыкова-Щедрина. Особенно его интересовал Горький.
Воспользовавшись своим знакомством с Чеховым, он обратился к нему 13 июня 1901 г. с просьбой сообщить А.М. Пешкову, с которым не был лично знаком, о желании «приобрести право собственности на сочинения М. Горького или, во всяком случае, вступить с ним в переговоры». Не откладывая дела в долгий ящик, Чехов тут же сообщил Горькому о намерениях Маркса. «Сегодня я получил ответ от А.М. Пешкова-Горького, — отвечая издателю, писал Чехов 9 июля 1901 г. — Он просит меня написать Вам, что сочинения его издаются фирмой «Знание», которой он вполне доволен и с которой разрывать не желает, так как находит это неудобным» (10, 51). Марксу ничего не оставалось, как поблагодарить Чехова за хлопоты4.
Указанная Горьким причина имела известные основания, хотя «Знание» еще не в состоянии было выпускать полные собрания сочинений писателя тиражом, равным или хотя бы приближающимся к тому, каким выпускало их издательство Маркса. Но, противопоставив деятельность «Знания» всем «книгорыночным крокодилам» (выражение Горького), к числу которых он, безусловно, относил и Маркса, писатель не только не желал ему в чем-то содействовать, но в том же письме, где содержался ответ Марксу, предлагал Чехову разорвать свой контракт с ним.
Ответ Горького был недвусмысленным, но все же оставлял надежду на возможность каких-то вариантов. Поэтому через год, 17 августа 1902 г., Л.Е. Розинер вновь обратился к писателю с аналогичным предложением, оговорив возможность приобретения авторских прав «только на одно издание в несколько сот тысяч экземпляров», с тем чтобы фирма, издающая его произведения (т. е. «Знание»), «могла бы не только сохранить право продажи уже напечатанных экземпляров, но и беспрепятственно повторять издания»5. Несмотря на исключительно выгодные для автора условия, Горький предложения не принял. По всей вероятности, сыграло свою роль его участие в кампании по расторжению договора Чехова с Марксом.
Переговоры возобновились лишь через десять лет опять по инициативе Розинера. На сей раз Горький переадресовал Розинера к Ивану Павловичу Ладыжникову, уполномоченному им для переговоров подобного рода, ссылаясь на то, что он «чувствует себя совершенно неспособным к этому занятию»6. Хотя Ладыжников, как видно из его письма, относился к предложениям Розинера положительно, ответ писателя не оставлял никаких надежд, и эти переговоры окончились безрезультатно; в начале июля Горький сообщил в контору «Знания» С.П. Боголюбову, что отказался от предложения «Товарищества А.Ф. Маркса» продать свои сочинения для издания их в качестве приложений к «Ниве»7.
По-видимому, Ладыжников все же настаивал на продолжении переговоров с Розинером. Поэтому Горький в сентябре 1912 г. более четко сформулировал причины, по которым его не устраивали предложения «Товарищества А.Ф. Маркса»: «Поставленный «Нивой» десятимесячный срок я не нахожу приемлемым, это свяжет меня по рукам и ногам. За это время может наступить момент, когда потребуется продать авторское право, и я буду лишен возможности сделать это. Я предложил бы «Ниве» такие условия: она покупает на три года все, что опубликовано мною до сего дня и будет опубликовано на первое января 1916 г. — за 75 тысяч. Издание «Полного» собрания в 15 тысяч преждевременно и ничем не оправдывается. Я предложил бы сделать дешевое издание в 5 больших томах осенью 1917 г., когда истечет 25 лет моей литературной работы»8.
Откладывая заключение договора с «Товариществом А.Ф. Маркса», Горький более благожелательно относился к предложениям его конкурента, «Товарищества И.Д. Сытина», одновременно обратившегося к нему с аналогичной просьбой. Да и условия, предложенные Сытиным, были более выгодны. Тем не менее в декабре 1913 г. писатель подписал «Домашнее условие» на издание своих сочинений с социал-демократическим издательством В.Д. Бонч-Бруевича и «Товариществом А.Ф. Маркса». 7 сентября 1916 г. с последним был заключен договор на их выпуск в качестве приложений к «Ниве» на 1917 г.9
Столь же долгим и сложным оказались переговоры Маркса и его наследников с В.Г. Короленко.
12 июня 1902 г. Маркс обратился к писателю с просьбой уступить ему право издания его полного собрания сочинений. «Если Вы не прочь принять это предложение, — писал он, — то не откажите в любезности сообщить мне Ваши условия, т. е. за какую сумму Вы согласитесь передать право литературной собственности на Ваши сочинения». Он изъявлял готовность прислать в Геленджик, где в то лето жил писатель, своего представителя в случае, если возникнет необходимость в личной встрече10. Ответил ли Короленко издателю — неизвестно. Архив А.Ф. Маркса сохранился далеко не полностью, а написанное летом письмо могло было и не быть зарегистрировано в знаменитых копировальных книгах Короленко. Основание для такого рода предположения дает поздравление Маркса и Сементковского, посланное в следующем году писателю по случаю его пятидесятилетия, чрезвычайно любопытное для характеристики симпатий издателя в последние годы жизни:
«Многоуважаемый Владимир Галактионович!
Присылая Вам ко дню Вашего рождения нумер «Нивы», в котором отмечены Ваши заслуги перед родным словом, мы всей душой присоединяемся к многочисленным приветствиям и добрым пожеланиям, которые Вы получите и услышите в этот знаменательный для Вас день**. Добро плодит добро, и если проповедником его является талантливый писатель, то посеянные им семена дают особенно богатую жатву. Приветствуя в Вашем лице такого сеятеля добра, мы крепко жмем вашу руку»11.
Но так как ответ и на это письмо не сохранился (если он был), судить об отношении писателя к изданию не представляется возможным.
Первоначальный проект договора между «Товариществом А.Ф. Маркса» и Короленко о выпуске его собрания сочинений датируется сентябрем 1912 г., договор — 12 декабря того же года12. Издательство намеревалось назвать издание «Полным собранием сочинений»; сам писатель считал, что оно далеко не полное и правильнее было бы его считать просто «Собранием сочинений». Такого же мнения придерживался Н.К. Пиксанов, писавший, что ««полным» издание 1914 года можно называть только условно». Однако это не помешало критику его высоко оценить: «Мы имеем перед собою авторизованный текст, и воля писателя здесь несомненна. От этого издания должны отправляться все посмертные собрания сочинений»13.
Долгие годы пиксановская оценка издания воспринималась как вполне закономерная и отвечающая истинному положению вещей, пока Я.Е. Донской не попытался поколебать эту точку зрения. По его словам, «издательство Маркса в первую очередь преследовавшее коммерческие цели, на эти вопросы (т. е. культуру издания, оформление и т. п. — Е.Д.) очень мало обращало внимания». Как утверждает Донской, писатель неоднократно просил Розинера уменьшить емкость листа, пригласить ответственного редактора, особо обратить внимание на встречающиеся опечатки, качество бумаги. Многие из погрешностей издания исследователь был склонен объяснять тем, что «Товарищество А.Ф. Маркса» «не располагало издательским аппаратом в том виде, как мы это привыкли понимать», отсюда и «много кустарщины» в его работе14.
Все приведенные доводы имеют известные основания, но не учитывают существовавшую в те годы практику и специфику работы такого своеобразного предприятия, как «Товарищество А.Ф. Маркса».
Во-первых, вопреки утверждениям Я.Е. Донского, все приложения к «Ниве», в том числе и собрания сочинений, печатались под наблюдением ответственных сотрудников журнала, весьма малочисленных, но постоянных и достаточно подготовленных для роли редактора. Так, например, художественной стороной этих изданий ведал долгие годы художник М.М. Далькевич, оформитель «Мертвых душ» Гоголя и ряда других книг. Здравствующие писатели в соответствии с договорами сами выполняли функции редакторов. (Хороша или плоха такая постановка дела — вопрос иной.) В последнем случае все зависело от воли автора. Если он отказывался от этой роли, то приглашался опытный литератор, способный выполнить всю текстологическую работу. Он же часто являлся и автором предисловия.
Во-вторых, во всех дореволюционных издательствах, имевших свои типографии, была единая корректорская, причем, как правило, корректура держалась более чем тщательно. Разумную экономию нельзя характеризовать как «кустарщину».
В-третьих, вокруг крупных издательств, выпускающих иллюстрированные издания, подобные «Ниве», всегда группировался значительный круг художников, тесно сотрудничавших с фирмой, но получавших сдельную оплату. Они определяли художественное лицо издания в той же мере, как в наши дни штатные художники. Можно согласиться, что обложка собрания сочинений Короленко, выполненная художником М.И. Соломоновым, не отвечает духу творчества писателя, но нельзя не признать достаточно высокого профессионального уровня ее исполнения.
Полное собрание сочинений В.Г. Короленко было объявлено как приложение к «Ниве» на 1914 г. наряду с собраниями сочинений А.Н. Майкова и Э. Ростана, 12 книгами ежемесячного журнала «Литературные и популярно-научные приложения к «Ниве»», 12 номерами журнала мод и 12 листами схем, содержащих в общей сложности 600 чертежей вырезок, рисунков для выпиливания и т. п. Вышло оно в 27 книгах (9 томах), вопреки практике, без обычной в таких случаях биографии писателя. Сделано это было не по настоянию Короленко, ничего не имевшего против ее помещения в издании, а, скорее всего, из-за стечения обстоятельств, сопутствовавших выпуску собрания сочинений. Во всяком случае, одной юной читательнице, запросившей писателя о причинах случившегося, он отвечал так: «Моей биографии «Нива» действительно не приложила к моим сочинениям, и я не знаю, имеет ли она в виду ее приложить впоследствии. Это дело редакции»15.
Стремясь наиболее полно представить творчество Короленко в своим издании, «Товарищество А.Ф. Маркса» решило значительно увеличить емкость листа комбинацией различных шрифтов. Розинер, например, предложил писателю набирать публицистические произведения так называемым узким корпусом, что увеличило бы объем публикуемого материала «приблизительно на 11 печатных листов в 35 000 букв, не выходя при этом из нормы (27 книг × 9 л.), отчего, понятно, подписчик только выиграет», а некоторые библиографические заметки вообще печатать петитом16.
Писатель, однако, с этим предложением не согласился. Отвечая Розинеру, он писал: «Что же это выйдет? Мне не хотелось бы слишком пренебрегать публицистическими статьями. Для меня это не второстепенный придаток, а половина моей работы и моей литературной личности»17. Путем различных ухищрений издательство сумело довести объем издания до 270 печатных листов, в то время как объем всего написанного писателем составлял примерно 400—450 листов.
Еще большие трудности возникли, когда пришлось решать вопрос о расположении материала. Издательство никак не рассчитывало, что Короленко повторит подвиг Чехова: сам подготовит свои сочинения к изданию и заново их пересмотрит. Поэтому оно предложило К.И. Чуковскому взять на себя труд по составлению и редактированию сочинений Короленко. Он и разработал первоначальный проект размещения материала. Писатель с ним не согласился. «Я разбиваю весь материал на сибирские рассказы, на рассказы из юго-западного края, чисто русские, аллегорические*** и заграничные», — писал он Розинеру 9 ноября 1913 г.18
Речь шла о желании Короленко сгруппировать рассказу по циклам, а внутри тома расположить их в хронологическом порядке. Тематически должны были группироваться и публицистические произведения. Он даже считал, что их следует отделить от беллетристики. Пожелание писателя о компактном размещении сибирских, украинских и волжских рассказов в основном удалось выдержать, чего нельзя сказать о публицистических произведениях, хотя частично и они были сгруппированы в подборки (см., например, тома IV, V, VI и VIII).
Находясь во Франции, отрезанный фронтами от России, Короленко не располагал необходимыми изданиями и материалами для сверки отдельных произведений с первопечатными текстами; присылаемые корректуры часто приходили с большим опозданием, из-за чего некоторые произведения пошли в набор, минуя его; технические трудности во многом усугубили сложность труда писателя, но в конечном счете не сказались на ходе работ по подготовке издания. В малом и большом писатель отстаивал свою точку зрения.
Чуковский же не соглашался с мнением автора. В недатированном письме к Розинеру он категорически отстаивал разумность предложенного им плана: «Пошлите Вл. Г. Короленко мои листки, не смущаясь их тоном. В.Г. меня знает. Я нарочно их подписал. Теперь выходит, как у Грабаря в Третьяковской галерее****. Те же картины, а перевесит их дельный человек — и совсем другое: куда лучше»19.
Грабарь, как известно, произвел перевеску картин после смерти Третьякова, а Чуковский попытался проделать нечто подобное при живом авторе, чем его чрезвычайно огорчил. Пришлось успокаивать писателя и отстаивать свою точку зрения уже не столь категорично:
Многоуважаемый Вл.Г.
Не успел написать в письме, дописываю теперь. Ради бога, не распределяйте материал географически: выйдет как у Тана или Серошевского5*. Разве Вы этнограф, Вы — лирик, не описатель, а писатель; нужно, чтобы в каждом томе было лирическое единство, единство тона и «настроения», а не случайное единство той или иной местности. Умоляю, не делайте этого. Я было попробовал и увидел, что это поведет к умалению и «Сна Макара», и «Мороза» и т. д.
преданный Вам Чуковский
[29.XI.1913 г.]20.
Писателя Чуковский не убедил, и ему ничего не оставалось, как, отказавшись от взятого на себя труда, попросить Розинера перегруппировать материал в том плане, как это предлагал сделать Короленко: «Получаю уже 3-е письмо от Вл. Г.-ча. Право, мне страшно, что мы довели больного 60-летнего писателя до такого беспокойства. Вот его пожелание, которое нужно свято исполнять. ...Пошлите ему телеграмму. Успокойте. Ради бога»21.
Предложенный автором план расположения материала был вызван определенными соображениями, одинаково исключающими как хронологическое, так и жанровое расположение: «Я желал... не создавать неверного представления, будто я сначала писал одну беллетристику, а потом одну публицистику. Моя работа сразу же пошла двумя путями», — аргументируя свою точку зрения, писал он Розинеру 23 ноября 1913 г.22
Фактически, отказавшись от услуг предложенного издательством редактора (не исключено, что по этой причине сочинениям так и не была предпослана биография писателя), Короленко, подобно Чехову, заново пересмотрел все свои произведения, подлежащие публикации в этом издании. Он не только вносил отдельные стилистические изменения и поправки в свои произведения, но многие из них заново переписал от начала до конца. «В некоторые повести и рассказы, — отмечал Донской, — писатель вводил новых героев, углублял характеристику действующих лиц, заострял их идейную направленность». По его мнению, Короленко рассматривал подготовку своего собрания сочинений как «своеобразное генеральное редактирование всего написанного им за многие годы. Он считал, что это должно быть выполнено основательно, прочно и теперь уже навсегда, опасаясь, что обстоятельства жизни не позволят ему в дальнейшем вернуться к этой работе»23. С этим утверждением нельзя не согласиться.
Многие трудности вызывались тем, что издательство анонсировало «Полное собрание сочинений» Короленко. Волей-неволей приходилось включать в него произведения, которые автор не намеревался переиздавать. «Обещание «полного издания» обязывает дать и такие вещи, которые иначе я бы не печатал. Таков и «Ненастоящий город». Я просто удивляюсь, как это плохо написано с внешней стороны. Пришлось пройти весь рассказ почти заново, сохраняя, конечно, те взгляды и общий характер. Таких вещей еще немало», — объясняя сложность своего положения, писал Короленко. Добровольно возложенную на себя работу он считал в то же время исполнением своего долга»24.
Больной писатель с трудом мог придерживаться заданного издательством темпа. «Для меня каждое отдельное издание — это большое дело, — писал он в июле 1914 г., объясняя важность начинания. — Все, что я писал на сроки, от фельетона к фельетону, под давлением редакции, — все это меня не удовлетворяло и лежало на моей совести... А теперь накопилось этого много, № нужно сделать все одним духом. То, что было уже издано отдельно, конечно, идет без перемен (нужно все-таки пересмотреть: от издания к изданию вкралось много ошибок). А над остальным работы много. До сих пор идет изрядно. Вероятно, благодаря тому, что я совершенно отошел от всего, думаю только об одной этой работе — она у меня и идет... Моя задача — появиться перед двухсоттысячной аудиторией без неряшливостей, во-первых, а, во-вторых, по возможности лучше и полнее досказать то, что должно быть сказано уже окончательно»25.
Та же мысль подчеркивается и в других письмах к родственникам, подчас упрекавшим его за отказ от творческой деятельности ради завершения предпринятого издания. Некоторым из них решение писателя казалось неразумным, а издание сочинений делом второстепенным, которое следовало поручить посторонним лицам. «Сейчас мне ни за какую серьезную работу взяться нельзя, — писал Короленко. — И то удивляюсь на себя, — как дотянул издание и сделал все-таки прилично. Над многим пришлось посидеть очень сильно... Многое переделал сплошь. Мои очень настаивали, чтобы я это бросил и печатал так, как было. Но я этого не мог. Ведь не печатал же я в прежних изданиях. На это были причины. Их еще больше, когда приходится печатать окончательно и в 200 тысячах экземпляров6*. Если прочтешь, например, «С двух сторон», то увидишь, что это почти новая вещь. А размер — 672 листов. И иначе я не мог: только закончив все так, как хотелось, я успокоился и теперь могу начать отдыхать»26.
Примерно в тех же тонах он ответил и другой родственнице, указывая на громадный объем проделанной им работы: «Я многое радикально переделал... Многое очень увеличено («Самозванцы») и дополнено новейшими фактами, многое сильно сокращено и тоже дополнено («В пустынных песках»). Вообще, когда я теперь оглядываюсь на то, что сделано в эти полгода, да еще во время серьезной болезни, то я просто удивляюсь, что я мог это сделать. Вдобавок — приходилось много тратить времени на то, чтобы сообразить состав книжек, — ведь это не просто печатается подряд, как попало: нужно пригонять по отдельным книжкам»27.
Наивно было бы полагать, что в столь сложной работе, как подготовка к изданию сочинений писателя, работавшего на протяжении многих лет в различных жанрах, произведения которого раскиданы по многочисленным, в том числе и провинциальным, газетам, не было срывов. Однако возникавшие время от времени конфликты не следует объяснять, как это делает Я.Е. Донской, коммерческой направленностью издательства. Действительно, во время пересылок пропала часть корректуры VI тома, почему она и не была отредактирована автором. Более того, в этот том попали мелкие произведения, которые он не собирался включать в издание. В другой раз в присланной корректуре Короленко обнаружил, что в рассказе «Птицы небесные» нет окончания и никто этого не заметил. «Неужели возможно, что книга так бы и появилась с неоконченной статьей?» — с тревогой запрашивал писатель по этому поводу Розинера. Кстати, корректура последних томов содержала гораздо больше ошибок, чем первых, причем встречались и искажающие смысл. Все объяснялось тем, что заметно сменился состав наборщиков, так как многие опытные рабочие были мобилизованы в армию. Поэтому писатель, естественно, опасался, что корректура часто задерживается и его поправки, неровен час, «запоздают».
Но гораздо больше, чем ошибки в корректуре, волновали его другого рода огрехи. «Известие о цензурном вмешательстве в издание огорчило меня до глубины души: запрещены самые значительные мои публицистические работы», — писал он в ноябре 1914 г. Розинеру. Реабилитируя себя в глазах читателей, издательство в последнем, девятом, томе собрания сочинений Короленко сообщало, что «по независящим от автора и редакции обстоятельствам, не включены в «Полное собрание сочинений» следующие произведения: «Черты военного правосудия», «Дело Глускера», «Бытовое явление», «О свободе печати» и «Судебная речь В.Г. Короленко»». И все же, подытоживая проделанную работу, писатель с полным основанием заметил: «Ну, да слава богу, что и так удалось это дело довести до конца»28.
Уже после свержения царизма, в сентябре 1917 г., издательство попыталось исполнить свой долг перед читателем. Розинер, который, по словам К.И. Чуковского, «благоговел» перед Короленко, предложил ему выпустить в качестве приложения к «Ниве» на 1918 г. две дополнительные книги, включив в них произведения, ранее не пропущенные цензурой и вновь написанные. Писатель охотно принял его предложение. Вдобавок к выплаченным ранее 75 тыс. рублей гонорара издательство уплатило автору за новые две книги еще 10 тыс. руб. Первый том был даже набран (сохранилась его корректура), но из-за прекращения выхода «Нивы» так и не увидел света29.
Полное собрание сочинений В.Г. Короленко шло в ряду сочинений писателей-демократов, начало которому положил еще покойный основатель фирмы. Продолжая намеченную линию, вдова Маркса в декабре 1904 г. выкупила у сына А.Н. Плещеева авторские права отца, в сентябре 1905 г. приобрела в полную собственность сочинения Омулевского (И.Ф. Федорова), которые и издала в следующем году, воспользовавшись цензурными послаблениями. В апреле 1909 г. у наследницы М.И. Михайлова были приобретены все его сочинения, увидевшие свет в 1915 г.30 До этого были изданы собрания сочинений В.М. Гаршина (1910) и Н.Г. Помяловского (1912). В канун Октябрьской революции вышло очередное собрание сочинений С.Я. Надсона (1917). До этого была сделана попытка приобрести права на сочинения Н.А. Некрасова. В апреле 1913 г. в печати появились сообщения о переговорах нескольких издателей с его наследниками. «Вопрос о хорошем издании произведений Некрасова, так сказать, носится в воздухе», — писал в эти дни Н.О. Лернер31. Чуковский советовал Розинеру немедля покупать права на сочинения поэта «за какие угодно деньги». Но не сразу пускать их приложениями к «Ниве», а издавать сначала «отдельными томами», чтобы компенсировать потери32.
Венцом этой весьма примечательной библиотеки должно было стать собрание сочинений А.И. Герцена,
переговоры с наследниками которого были завершены 22 марта 1917 г., уже в то время, когда «Товарищество А.Ф. Маркса» перешло в руки И.Д. Сытина. Сочинения были куплены за весьма значительную сумму — 92,5 тыс. руб. — с оговоренным условием: редактировать издание должен был обязательно М.К. Лемке, получивший право распоряжаться эпистолярным наследием писателя33. Предполагалось, что собрание сочинений Герцена будет напечатано в 1918—1922 гг. Оно и вышло в эти годы, но уже под другой маркой.
А из изданных при Л.Ф. Маркс сочинений писателей-демократов наибольший успех выпал на долю вышедших в 1908 г. сочинений Глеба Ивановича Успенского, являвшихся, по сути дела, перепечаткой вышедшего в 1903—1904 гг. в Киеве первого посмертного издания сочинений писателя, осуществленного при ближайшем участии его сына Александра Глебовича. Приложенное к «Ниве» издание предваряла вступительная статья патриарха народничества Н.К. Михайловского, заимствованная из павленковского, еще прижизненного, издания сочинений писателя. Желая как-то осовременить издание, а может быть, и расширить корпус включаемых произведений, издательство пригласило принять участие в его подготовке Н.А. Рубакина, который охотно на это согласился. Об этом можно судить по ответу Л.Е. Розинера на одно из его писем: «...что же касается документов, характеризующих отношение покойного Глеба Ивановича к изданиям его сочинений, то у нас, собственно, имеются договоры, заключенные уже наследниками Г.И. Успенского <...> Других же каких-либо данных о Г.И. мы, к сожалению, не имеем. Мы полагаем, что все необходимое вам будет сообщено Борисом Глебовичем»34. Неожиданно из-за болезни жены Рубакин был вынужден в начале декабря 1907 г. выехать за границу, успев к этому времени закончить лишь биографию писателя. Поскольку известно, что договор с наследниками Успенского был заключен 6 октября 1907 г., то в столь малый срок ни Рубакин, ни какой-либо другой литератор не мог сделать что-либо существенное по пересмотру и дополнению собрания сочинений Успенского, которое вышло уже в следующем году35.
Во всей этой истории любопытен факт участия в делах «Товарищества А.Ф. Маркса» Н.А. Рубакина, известного популяризатора, человека, близкого в прошлом народническим кругам. Его кандидатура как участника подготовки первого массового издания сочинений Г.И. Успенского обусловливалась установившимися связями с издательством. Незадолго перед тем, как взяться за написание биографии Успенского, Рубакин согласился вести «Общедоступную библиотеку» и составить серию «народных» изданий произведений Чехова (подобно дешевой библиотечке произведений Гоголя, выпущенной еще покойным основателем фирмы).
Произведения Чехова, по мнению Рубакина, следовало издавать в виде ряда небольших книжек, рассчитанных на самых неподготовленных читателей. Он внимательно прочел собрание сочинений писателя и отобрал рассказы, доступные для понимания народного читателя: «Их немного, но тем не менее все же имеются», — писал он Л.Ф. Маркс. Рубакин считал, что и эти рассказы могут быть превратно истолкованы, если их не адаптировать и не придать каждой брошюрке словарик иностранных слов. Он одобрил формат и образцы бумаги, присланные фирмой, предлагал наиболее удобный для этой цели шрифт. Вместе с письмом он посылал список произведений Чехова, рекомендуемых им для включения в серию.
Уехав в Швейцарию, Рубакин не порывал связи с издательством. Сохранившиеся письма свидетельствуют, что он не оставил мысли продолжить работу по чеховской серии. «Половина материала у меня почти готова, — писал он Л.Ф. Маркс, покидая Россию. — Не откажите поскорее уведомить, в каких размерах Вы намерены печатать сборник рассказов Чехова». В 1910 г. в письме к Розинеру он все еще интересовался судьбой этого начинания36.
Трудно с полной определенностью сказать, чем была вызвана тенденция к расширению круга авторов «нивских» собраний сочинений. По сути дела, еще при жизни Адольфа Федоровича, наряду с сочинениями классиков, в качестве приложений стали выходить собрания сочинений писателей, которых нельзя было при всем желании причислить к таковым. Преемникам Маркса ничего не оставалось, как, с одной стороны, восполнить пробелы прошлых лет и выпустить собрания писателей демократического лагеря, ранее не привлекавших внимания издательства, а, с другой, пустить в качестве приложений собрания, сочинений наиболее популярных современников: Л.Н. Андреева, И.А. Бунина, Д.Н. Мамина-Сибиряка, В.В. Вересаева и некоторых других писателей.
В то время как Л.Е. Розинер вел переговоры с Горьким, хотя и не завершившиеся на первых порах заключением договора, его брат Александр действовал более успешно — ему удалось перекупить право на одно издание полного собрания сочинений Леонида Андреева, незадолго до того вышедшего из возглавляемого Горьким издательского товарищества «Знание».
Выйдя из «Знания», Андреев продал 28 декабря 1909 г. авторские права на все свои произведения, опубликованные до заключения договора, и все, что «будет вслед за сим опубликовано в количестве пятнадцати листов, включая и фельетоны и проч.», издательству «Просвещение». Характеризуя действия своего бывшего друга, Горький писал 16 февраля 1910 г. одному из сотрудников «Знания»: «А что касается до Леонида Андреева — это хорошо, — пусть его возьмет свои деньги и уходит. Вы знаете, как я был близок с ним, я хорошо изучил его характер и нисколько не удивлюсь, если он перепродаст... и Марксу»37,
Предчувствия не обманули писателя: 28 сентября 1912 г. Андреев уступил «Товариществу А.Ф. Маркса» права на все свои произведения, как вышедшие после заключения договора с «Просвещением», так и на те, которые будут написаны вплоть до октября 1917 г., для издания их в качестве приложения к «Ниве» (без права их отдельной от журнала продажи). Весьма интересны условия, на которых был заключен договор: гонорар за лист произведений, написанных до ноября 1913 г., составлял 500 руб., до ноября 1914 г. — 600 руб., до января 1916 г. — 700 руб.
Получив согласие Андреева, «Товарищество А.Ф. Маркса» выкупило права на одно издание «Полного собрания сочинений» его у его юридического владельца — издательства «Просвещение» за 35 тыс, руб.38, но не стало ждать 1917 г., а пустило их приложением на следующий же год.
В качестве составителя и редактора сочинений Андреева был приглашен Чуковский. Времени на подготовку издания не оставалось, к тому же автор не высказал никакого желания принять в ней участия, поэтому все делалось наспех. Тем не менее Андреев остался доволен работой редактора: «Распределение, сделанное К.И. Чуковским, — писал он 21 ноября 1912 г. А.Е. Розинеру, — мне очень понравилось. Нахожу разве одну только ошибку: портрет, пейзаж, фельетоны из-под первого тома, и едва ли стоит распространять их, как сыпь, по разным книгам. Кажется, было бы целесообразнее оставить их в одной книжке». Заодно выяснилось, что пропущены три вещи: рассказ «Правила добра» («Русское слово». 1912. №№ 1—3), предисловие к американскому изданию «Семи повешенных» и сказка «Храбрый волк»39».
Расчет издателей оказался верен: имя пользовавшегося в те годы особой популярностью писателя привлекло внимание читателей. Благодаря его сочинениям тираж журнала увеличился на 23,5 тыс. экз.
В отличие от своих предшественников, Иван Алексеевич Бунин, как давний автор «Нивы», сам предложил «Товариществу А.Ф. Маркса» издать собрание своих сочинений. «Условия мои, опять-таки по многим исключительным причинам, будут весьма скромные, — писал он Л.Ф. Маркс 14 апреля 1913 г. — У меня имеется 10 довольно больших томов, из которых легко, особенно благодаря добавлениям, кои я намереваюсь сделать для этого первого полного собрания моих сочинений, — составить 12 <томов>. Если бы Вы ничего не имели против моего предложения принципиально, я мог бы приехать в Петербург для начала переговоров».
Последующие письма адресованы непосредственно А.Е. Розинеру и свидетельствуют о трудностях, возникших в непосредственной связи с начавшимися переговорами.
Многоуважаемый Александр Евсеевич,
сейчас удалось достать маленькое купе на 9.30, и я уезжаю, ибо надежды на то, что мы столкуемся, у меня весьма мало. Все же подумайте. Ведь мы расходимся только из-за года!
В Москве7* пробуду всего 2—3 дня. Затем Большой Фонтан, Херсонской губ., дача Ковалевского, мне. Но, конечно, из-под Одессы трудно столковаться. Если что, подумайте, — т. е. сдадитесь — поспешите черкнуть, задержите меня в Москве.
Ваш Ив. Бунин.
И «всесильный управитель» сдался. «Упустить» Бунина он не мог не только потому, что в период между выпуском собраний сочинений Короленко и Горького образовался явный вакуум, грозивший сбить темп подписки, но, скорее, из-за самой возможности выпустить первым собрание сочинений почетного академика.
В ответ на поднятый белый флаг из Москвы последовала срочная телеграмма: «Понедельник буду в Петербурге. Установите точно детали условия. Бунин»40.
7 мая 1913 г. между Буниным и «Товариществом А.Ф. Маркса» был подписан договор, согласно которому писатель предоставил Товариществу «исключительное право издания» своих произведений «для выдачи бесплатным приложением к журналу «Нива» в течение одного года в период времени между первым января 1914 и 31 декабря 1916 г. включительно»8*. Уступил Розинер и в другом пункте, согласившись на требование Бунина поместить в Полном собрании сочинений только те произведения, которые были ранее опубликованы в его сборниках, а из публикаций, появившихся в периодической печати, отобрать те, которые автор сам «найдет нужным включать».
И еще одно условие поставил требовательный автор, но оно устраивало издательство: «Все мои произведения собираются и редактируются мною, Буниным, с тем, что я вправе включать в них необходимые с моей точки зрения поправки и изменения».
Издательство не возражало против параллельного издания сборников новых и переиздания старых произведений Бунина, но, со своей стороны, обязывало писателя в течение пяти лет предоставлять «Товариществу А.Ф. Маркса» «преимущественное право приобретения своих новых сочинений».
Что же касается гонорара, то Бунин выставил действительно скромные условия. При подписании договора ему были выплачены 20 тыс. руб. и установлена ставка за новые произведения — 300 руб. за лист с тем, чтобы сумма доплаты не превышала 5 тыс. руб.41
Подписав договор, Бунин уехал в Одессу, где получил в самом начале мая следующего года письмо от Розинера, в котором тот просил прислать план собрания сочинении, а если возможно, то и «материалы для набора в готовом виде». Издательство явно не посягало на какое-либо нарушение авторской воли, вполне полагаясь на авторедактуру и желая только несколько увеличить объем издания, с тем чтобы окончить его выпуск в следующем году и таким образом гарантировать подписку еще на один срок. 15 марта 1914 г. автор послал Розинеру план издания, по которому тома собрания сочинений строились не по хронологическому или жанровому принципу, а по вышедшим ранее сборникам, причем Бунин начисто исключал возможность публикации целого ряда своих ранних произведений. Обращаясь к Розинеру, он писал:
«Я несколько раз перечитал то небольшое количество прозы, которое или совсем еще ни разу не входило в отдельные издания моих сочинений, или входило в книжки, издававшиеся для детей, для подростков, и которые я хотел бы включить в Ваше издание, — и пришел к заключению, что делать этого совсем не стоит: эти рассказы, эти юношеские наброски необыкновенно слабы, мне весьма стыдно, что я когда-то тискал их. Мало и стихов хочу добавить я: какой смысл напоминать публике, что когда-то я очень плохо писал стихи. Надеюсь, что Вы ничего не будете иметь против моего решения, что Вы напишите мне, что согласны со мной, и удовлетворитесь тем, что перечислено у нас в условии, и тем, что написано и напечатано мною после него — книгой «Иоанн Рыдалец» и стихами и рассказами 1913—1914 гг. (еще не бывшими в отдельном издании). <...>
Очень прошу Вас высказаться, одобряете ли Вы этот план, и сообщите, когда именно доставлен должен быть Вам весь материал. Думаю, что недели через 2—3 смогу выслать Вам все (Ведь не поздно, конечно?). Еще раз все перечитываю и немного правлю. <...> Хорош ли портрет, посл<анный> мною для воспроизведения? Кому заказываете статью обо мне?»42
Свое мнение писатель высказывал не без иронии, но категорично, и адресату ничего не оставалось, как согласиться с ним. Волю автора в определении корпуса первого собрания сочинений в то же время можно рассматривать и как самооценку всего им сделанного. Ведь и Чехов исключил из своего собрания сочинений многие произведения, которые не только издателю, но и читателям представлялись и представляются совершенными!
В отличие от Андреева, Бунин просмотрел все произведения, отобранные им для включения в собрание сочинений, отдельные из них заново отредактировал и даже переработал. С глубокой заинтересованностью отнесся он к подготовке своего собрания сочинений. В последующих письмах к Розинеру то и дело встречаются фразы, свидетельствующие о переживаниях автора за судьбу своего детища. После ряда сокращений текста, потребовавшего переверстки одной из книг, он просил Розинера: «Для успокоения моего (не для новых правок, а только для успокоения) прикажите прислать мне — после всех исправлений — весь том прозы» (23 января 1915 г.). Подписав листы корректуры очередного тома к печати, Бунин считает нужным обратить внимание Розинера на возможные ошибки: «Ужасно боюсь, не напутали бы в них, уж очень я их измарал». Те же опасения возникают после просмотра корректуры следующего тома: «В них много поправок, — пишет он Розинеру, — боюсь, что напутают, и посему очень прошу прислать мне еще раз их». Бунин придавал серьезное значение любой частности, касавшейся оформления книги, особенно если речь шла о форме подачи текста: «В «Деревне» всего три главы (вернее, части). Они все еще велики. Я бы очень хотел, чтобы каждая из них начиналась с новой страницы», — высказывает он свое пожелание Розинеру и подчеркивает последнюю фразу9*.
Особенно огорчало писателя то обстоятельство, что он не послушал в свое время Розинера и настоял на своем, плане издания, исключив из него многие ранние произведения: «Книжки мои выходят так страшно жидки, что, может быть, нужно добавить материалу? Пожалуйста, сообщите, — спрашивает он своего адресата, — нужно ли? Я думаю, что смогу дать Вам в сентябре или даже раньше несколько листов новой беллетристики»43.
По ходу дела кое-что удалось исправить; например, первый том; содержавший поэтические произведения, открывался ранними стихотворениями. Последний, шестой, включал рассказы 1913—1915 гг., статьи и заметки, часть которых ранее не намечалась к публикации в этом издании. Да и структурно оно претерпело некоторые изменения сравнительно с первоначальным планом. Заключали последний том «Автобиографические заметки», что исключало необходимость помещения в издании специальной биографической статьи.
В конечном счете Бунин высоко оценил содружество с «Товариществом А.Ф. Маркса», особенно отметив благожелательность и помощь управляющего фирмой. «Так как дело наше с Вами приходит к концу, — писал он ему в одном из последних писем, — то позвольте просить Вас принять от меня искреннюю благодарность за все то внимание, которое Вы неизменно проявляли ко мне»44.
Издание собраний сочинений крупнейших (точнее, самых известных) писателей начала века еще не свидетельствует о том, что фирме удалось реализовать все свои намерения. Такого еще не удавалось ни одному издателю, даже Сытину, наиболее близко стоявшему к заветной цели. Так, например, «Товарищество А.Ф. Маркса» не сумело приобрести права на издание собрания сочинений одного из крупнейших русских публицистов — А.В. Амфитеатрова. Розинер даже подключил к своим переговорам жену писателя, но и она не смогла уговорить мужа согласиться с гонораром, предложенным издательством45.
«Товарищество» предполагало вторично издать в 1915 г. полное собрание сочинений Достоевского, с тем чтобы пустить в продажу за очень скромную цену сверх комплекта бесплатных приложений. Но этому, видимо, «помешало» собрание сочинений Бунина, гарантировавшее подписку на второй год войны, а может быть, не удалось в конечном счете договориться с «Книгоиздательским Товариществом «Просвещение»», владевшим правами на сочинения писателя46.
В том же 1915 г. «Товарищество А.Ф. Маркса» через А.А. Измайлова предложило К.Д. Бальмонту уступить авторские права на «Собрание» его стихов, которые были изданы перед тем С.А. Поляковым и издательством «Скорпион», но переговоры не увенчались успехом47.
Бальмонт был первым из русских модернистов, сочинения которого «Товарищество А.Ф. Маркса» вознамерилось издать. Что определило неудачу этой попытки: несговорчивость автора или иные причины — сказать трудно, так как никаких следов, кроме ответного письма самого Бальмонта, не сохранилось. Тем не менее факт этот сам по себе весьма знаменателен, так как свидетельствует о желании редакции «Нивы», оставаясь верной реалистическому искусству, расширить круг авторов за счет писателей, придерживающихся иных эстетических позиций. В одном из рекламных проспектов на 1910 г. редакция, соглашаясь с тем, что «духовные запросы современного общества разрастаются с каждым годом», обещала объективно отражать эти тенденции на страницах «Нивы» и иных своих изданий, особенно «в отделе изящной словесности, с ее новыми словами и веяниями, и в очерках нашего политического и общественного самосознания»48.
Сказанное реализовывалось в первую очередь в «нивской» библиотеке собраний сочинений крупнейших русских писателей. Именно русских, поскольку подбор издававшихся одновременно с ними в одном и том же годовом комплекте приложений сочинений зарубежных писателей носил случайный характер, хотя речь всегда шла о широко известных авторах. Отвечая поэту Н.М. Минскому, предложившему подготовить для издательства собрание сочинений Метерлинка, Лидия Филипповна писала, что «вопрос о приложении иностранного автора у нас решается только в самую последнюю минуту — накануне самого открытия подписки, зависимо от того, каких русских авторов, в каком объеме и проч. даем»49.
Время обесценило многие из выпущенных Марксом и его наследниками сочинений; вышедшие в наши дни издания значительно полнее, несопоставимо выше уровень их текстологической подготовки. Однако некоторые из «нивских» изданий никогда не потеряют своего значения, поскольку подготовлены самими авторами и выражают их последнюю волю (Чехов, Короленко), другие и по сей день служат основой для советских изданий (Бунин и Фет). Нельзя забывать, что некоторая часть включенных в издания Маркса произведений не вошла в современные собрания сочинений (Лесков, Полонский). Немалое число выпущенных фирмой собраний сочинений писателей так называемого второго ряда вообще не издавалось за годы Советской власти.
Но главную заслугу издателя следует видеть прежде всего в том, что выпущенные им книги послужили развитию отечественной культуры в те годы, когда дело просвещения народа в значительной мере было предоставлено частной инициативе.
И уж никто, понятно, не мог предположить, что с переиздания «марксовских» собраний сочинений русских классиков начнет свою деятельность Литературно-издательский отдел Народного комиссариата просвещения, гордо заявив пропечатанными на их титуле строками, что настало наконец время,
когда мужик не Блюхера
И не Милорда глупого —
Белинского и Гоголя
С базара понесет.
Адольф Федорович Маркс в немалой степени содействовал осуществлению этой мечты поэта.
Короленко В.Г. Полное собрание сочинений. Переплет
Экслибрис А.Ф. Маркса
Примечания
*. Права на произведения Л.Н. Толстого, написанные до 1881 г., остались собственностью семьи писателя.
**. В журнале «Нива» (1903. № 46. С. 923—924) была опубликована биография Короленко и помещен его портрет. До этого, в 1901 г. (№ 14) в журнале был помещен портрет писателя.
***. Под «аллегорическими» подразумевались вошедшие в IV том произведения: «Сказание о Флоре, Агриппе и Менахеме, сыне Иегуды», «Тени», «Мгновение», «Необходимость (Восточная сказка)» и др.
****. И.Э. Грабарь, став руководителем Третьяковской галереи, нарушил волю завещателя. Он изменил план развески картин, опираясь на строго научные основания, чем вызвал широкую дискуссию. Подробнее об этом см. письмо Чуковского Короленко от октября 1913 г. — Лит. газета. 1982. 31 марта.
5*. Тан Н.А. (псевд. Владимира Германовича Богораза. 1865—1936), советский этнограф, один из зачинателей изучения народов Севера. Серошевский Вацлав (1858—1945), польский этнограф-сибировед.
6*. Собрание сочинений Короленко было издано тиражом в 179 тыс. экз. (ГБЛ, ф. 135, разд. II, к. 39, д. 51, л. 4).
7*. Столовый пер. (Близ Поварской), д. 11 (Н.А. Муромцевой).
8*. Вероятно, Бунина не устраивал растянутый срок публикации сочинений, но он с ним согласился, поставив непременным условием включать только произведения, «появившиеся в печати до 1 ноября 1913 г.»
9*. Эта просьба писателя не была выполнена.
1. Толстая С.А. Дневники. В 2 т. Т. 2. М., 1978. С. 499.
2. Известия книжных магазинов Товарищества М.О. Вольф. 1904. № 2. С. 25; 1901. № 9—10. С. 97—100; 1903. № 7. С. 102.
3. Храбровицкий А.В. Горький и Имре Мадач // Новый мир. 1958. № 6. С. 275.
4. ГБЛ, ф. 331, к. 5, д. 37 в, л. 16, 17, 19, 46.
5. Арх. Г. Кг—П. 50—11—2.
6. ГБЛ, ф. 360, к. 3, д. 8, л. 1.
7. ЦГАЛИ, ф. 335, оп. 1, д. 63, л. 1; Летопись жизни и творчества А.М. Горького. М., 1958. Вып. 2. С. 282.
8. Арх. Г. ПГ—РЛ, 22—1—120.
9. Динерштейн Е.А. И.Д. Сытин. М., 1983. С. 168—170; Летопись жизни и творчества А.М. Горького. Вып. 2. С. 571.
10. ГБЛ, ф. 135, разд. 11, к. 39, д. 59, л. 1—2.
11. Там же, к. 42, д. 18, л. 11.
12. ЦГАЛИ, ф. 234, оп. 1, д. 177, л. 21—24; Короленко В.Г. Полн. собр. соч., Посмертное изд. Харьков, 1929. Т. 5. С. 241.
13. Пиксанов Н.К. Обзор литературы о В.Г. Короленко // Печать и революция. 1922. № 2. С. 184—185.
14. Донской Я.Е. В.Г. Короленко. Очерк полтавского периода жизни и деятельности писателя. 1900—1921. Харьков. 1963. С. 171; Он же. В.Г. Короленко и издательство А.Ф. Маркса // Книга: Исслед. и материалы. М., 1973. Сб. 27. С. 119—131.
15. ГБЛ, ф. 135, разд. 11, к. 2, д. 34, л. 1.
16. Там же, разд. 1, к. 43, д. 19, л. 1—7.
17. Короленко В.Г. Избр. письма. М., 1932. Т. 2. С. 7.
18. ЦГАЛИ, ф. 335, оп. 3, д. 10, л. 1. Сообщено А.В. Храбровицким.
19. ГЛМ, оф 5911/9, л. 1.
20. Сообщено А.В. Храбровицким.
21. ГЛМ, оф 5821/5.
22. Короленко В.Г. Избр. письма. Т. 2. С. 6.
23. Донской Я.Е. Указ. соч. С. 122, 123.
24. Храбровицкий А.В. Нарушение авторской воли // Рус. лит. 1962. № 1. С. 239.
25. Короленко В.Г. О литературе. М., 1957. С. 597.
26. ГБЛ, ф. 135, разд. II, к. 7, д. 19. (Сообщено А.В. Храбровицким).
27. Короленко В.Г. Указ. соч. С. 598.
28. ГБЛ, ф. 135, разд. II, к. 7, д. 19; Короленко В.Г. Собр. соч.: В 10 т. М., 1956. Т. 10. С. 506.
29. ГБЛ, ф. 135, разд. II, к. 39, д. 51, л. 4—9; д. 24, к. 43.
30. ЦГАЛИ, ф. 378, оп. 1, д. 40; ф. 371, оп. 2, д. 2; ф. 1111, оп. 3, д. 5.
31. Речь. 1913. 10 (23) апр.
32. Лит. обозрение. 1982. № 4. С. 101.
33. ЦГАЛИ, ф. 129, оп. 2, д. 27.
34. ГБЛ, ф. 358, к. 267, д. 77, л. 1.
35. ЦГАЛИ, ф. 513, оп. 2, д. 9, л. 3—6; ГБЛ, ф. 360, к. 3, д. 17, л. 6.
36. Там же, л. 1—2, 6; ф. 358, к. 183, д. 18, л. 3.
37. Арх. Г. ПГ—РЛ. 21—2—120, л. 1.
38. ЦГАЛИ, ф. 335, оп. 1, д. 58, л. 1, 2.
39. ГБЛ, ф. 360, к. 1, д. 3, л. 1; д. 4, л. 1.
40. ГБЛ, ф. 360, к. 1, д. 15, л. 1—2, 3; д. 16, л. 1,2.
41. Там же, д. 75, л. 1—7.
42. Вопр. литературы. 1969. № 7. С. 187.
43. Там же, л. 10, 11, 12; Вопр. лит. 1969. № 7. С. 188.
44. Там же, л. 13.
45. ЦГАЛИ, ф. 335, оп. 1, д. 24, л. 14.
46. ГБЛ, ф. 360, к. 1, д. 82, л. 1—2.
47. Там же, д. 7, л. 1—2.
48. Архив автора.
49. ИРЛИ, 33.275, л. 2.
| Предыдущая страница | К оглавлению | Следующая страница |