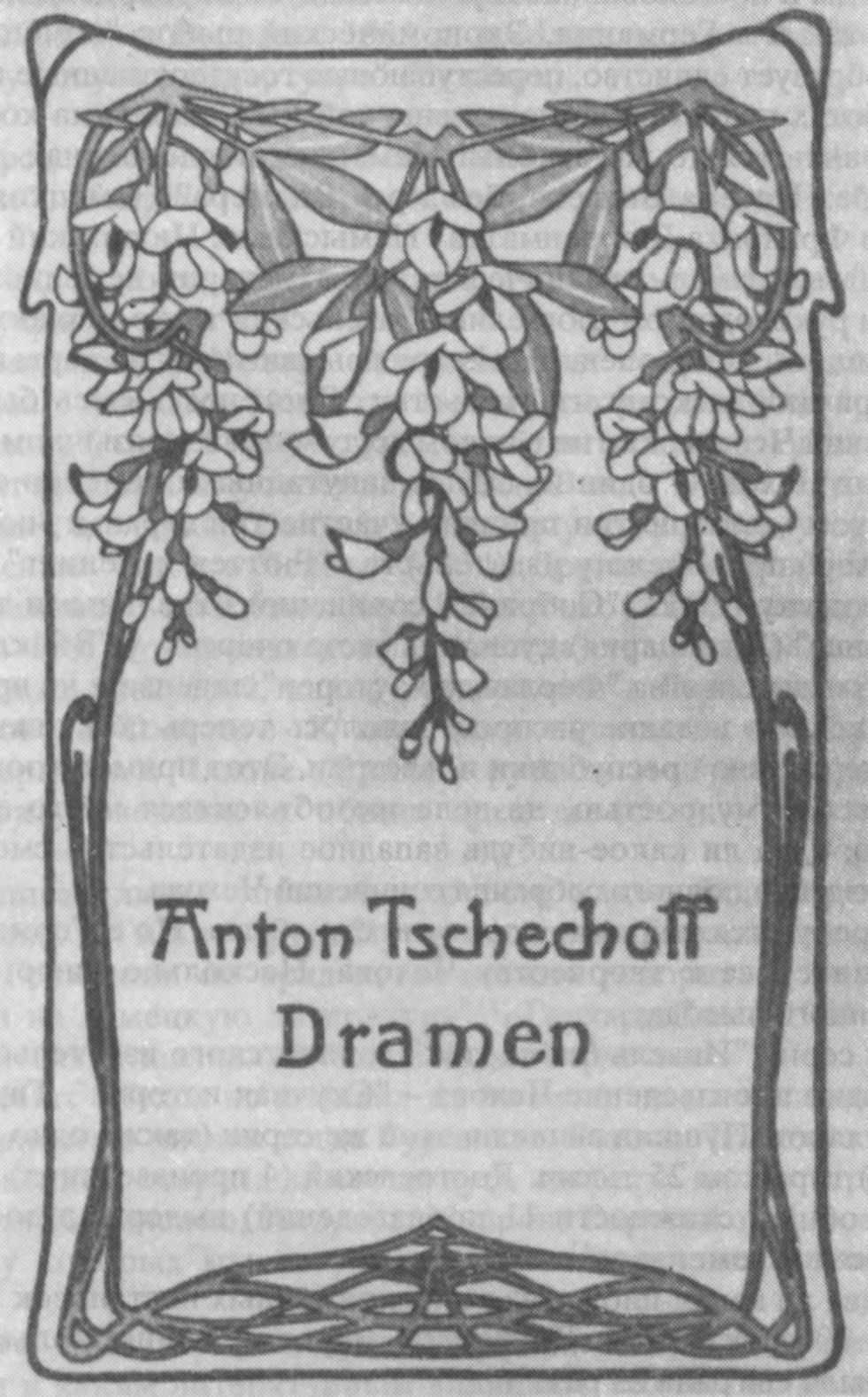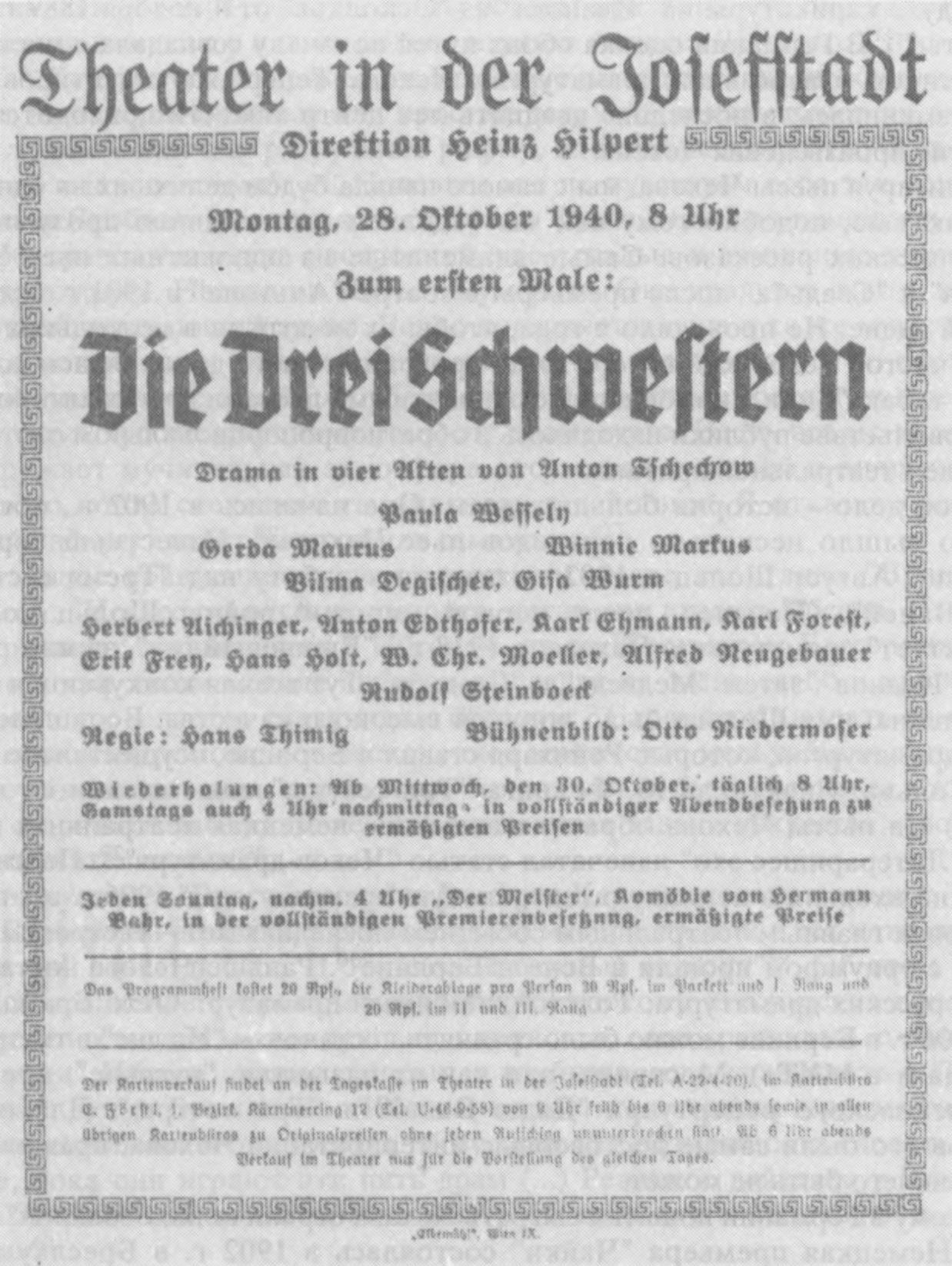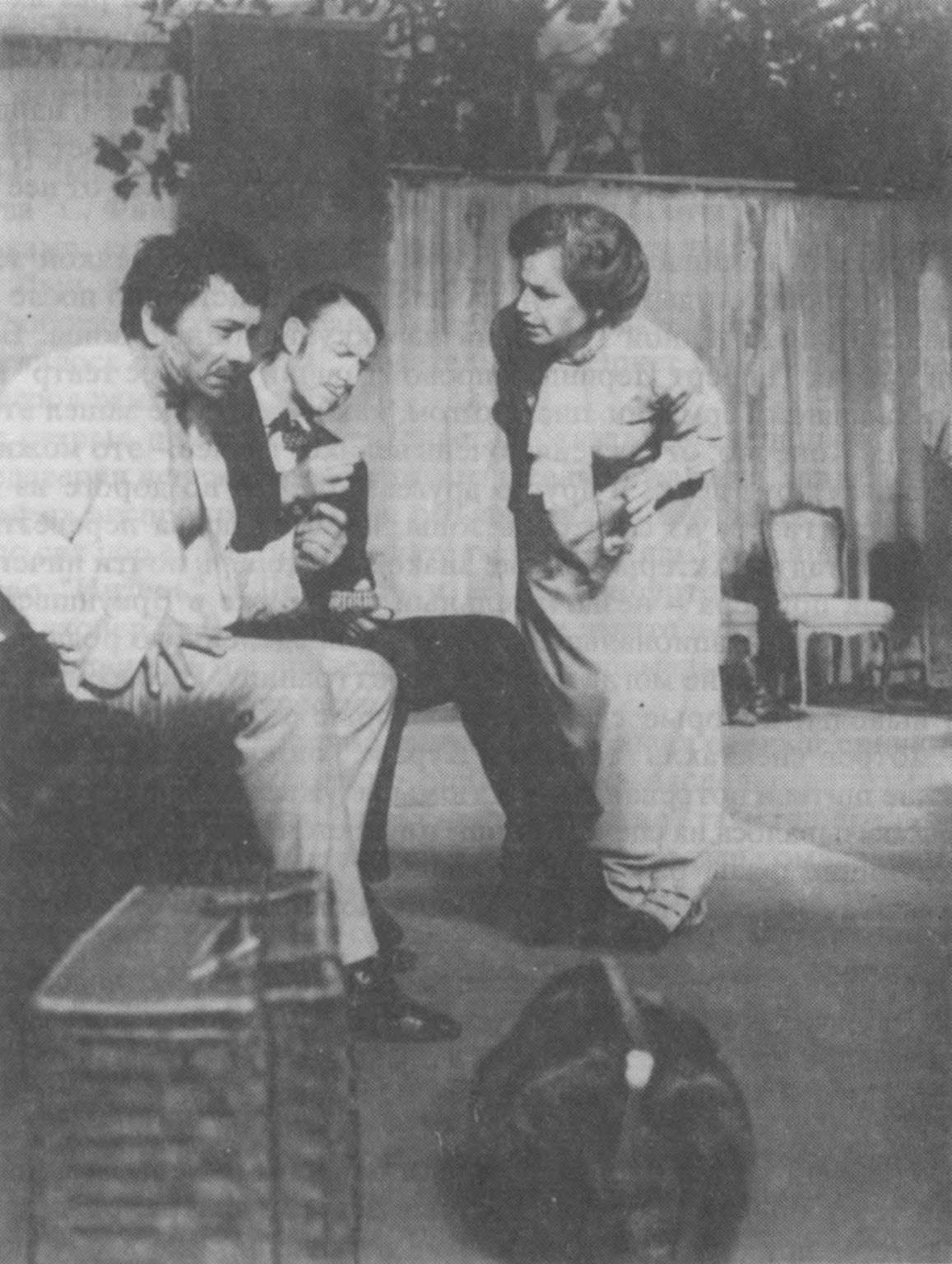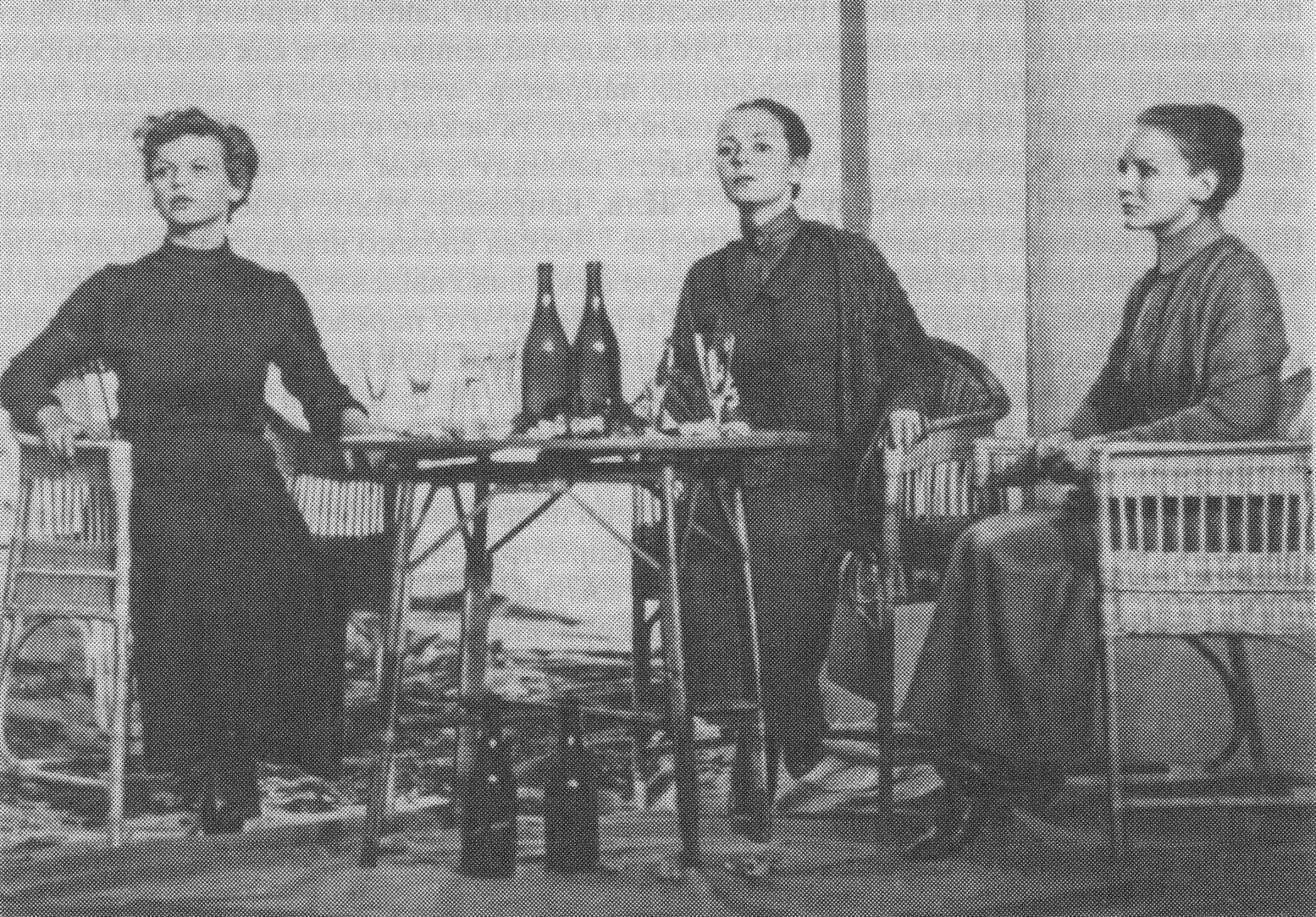Как приняли Чехова немецкие читатели и зрители, описали пока только два автора: в 1956 г. — Герхард Дик в кандидатской диссертации (Институт славистики при Берлинском университете им. Гумбольдта ГДР)1 и в 1969 г. — Клаус Бернарц, в кандидатской диссертации о драматургии Чехова (Театральный институт при Венском университете)2.
Несмотря на различную постановку вопроса, мнения авторов совпали. Оба пришли к единому выводу: в ФРГ влияние Чехова было и остается ничтожным. Г. Дик констатировал: «В ФРГ творчество Чехова доныне не получило достойной оценки. Хотя и сам писатель предполагал, что в Германии ему не суждены успехи», нет надежды на то, «что влияние Чехова в Германии может существенно углубиться»3. К. Беднарц писал: «Место, которое до сих пор отводилось Чехову на немецкоязычных сценах, несоизмеримо с действительным значением этого драматурга для театра XX в. Чехов остается камнем преткновения не только для немецкой литературной критики: театр также не смог отдать должное его творчеству»4. С тех пор многое изменилось.
Обратимся сначала к театральной жизни. В 1982 г. театровед, критик и издатель журнала «Театр хойте» в беседе с советскими и западногерманскими театральными деятелями отмечал: репертуары немецкоязычных сцен уже невозможно себе представить без драм Чехова. Более того. За последнее десятилетие ни одного из русских драматургов (ни Гоголя, ни Горького) не ставят в немецких театрах столько, сколько Чехова: «Последние десять сезонов в театрах Федеративной Республики, Австрии и немецкоязычной Швейцарии около трети всех постановок русских и советских пьес приходится на его произведения»5.
Статья театрального обозревателя журнала «Шпигель» Урса Йенни о новой постановке Чехова начинается словами: «Когда поднимается занавес и перед нашим взором предстают люди в светлых летних платьях рубежа веков, которые так расслабленно-безмятежно сидят в плетеных креслах на террасе, слушая пение птиц, пока кто-нибудь из них в странном отчаянье не воскликнет, что жизнь все-таки ужасно скучна, — тогда каждый театрал знает и без программки: «Ага! Чехов!» И «когда наступает осень, то есть последнее действие, и ничто не может больше предотвратить банкротства и вынужденной продажи имения с аукциона — «Finita la commedia», цитирует какой-то эстет, мир изысканно рушится, преисполненный меланхолии: Ага, Чехов»6.
Положение на книжном рынке описывает рецензент «Штутгартер цайтунг»: «Издательство «Диогенес» издает писателя Антона Чехова. В 8-ми томах изданы драматические произведения, проза — в 10-ти томах и самое большое нерусскоязычное 5-томное издание писем Чехова. В 1981 г. издательство выпустило «Чеховскую хронику», — толстый том в 466 страниц, который содержит материалы для еще ненаписанной у нас серьезной биографии Чехова. Теперь швейцарское издательство пополнило свой чеховский выпуск книгой «Дневники — Записные книжки»7. В той же связи рецензент «Франкфуртер альгемайне» отмечает, что немецкие читатели «знакомятся с произведениями и биографией Антона Чехова. Он постепенно становится в один ряд с Достоевским и Толстым»8.
Итак, немецкую историю Чехова продолжают писать.
Однако осмысленно писать эту историю можно только, учитывая предысторию, а она, как показали уже работы Дика и Бернарца, была неотделима от проблем взаимоотношений между ФРГ и ГДР.
Различия обеих работ многообразны и обусловлены самой постановкой вопроса. В первую очередь, авторы по-разному понимают, что такое Германия и немецкая культура. Один из авторов решает вопрос о влиянии Чехова в пределах немецких государственных границ. С 1945, самое позднее с 1949 г., он вынужден писать о двух немецких государствах. Метод только кажется корректным, но он формален. Немецкая литература и немецкий театр никогда не укладывались в рамки политических границ — ни в Германии времен Вильгельма, ни в период Веймарской республики или существования двух немецких государств. В начале столетия Берлин был бесспорной театральной немецкоязычной столицей, но взгляд берлинцев был постепенно обращен к Вене, второй театральной столице. От этих двух театральных столиц сильно отставала немецкая провинция. У многочисленных немецких издательств были филиалы в Австрии и Швейцарии, как и у австрийских издательств — в немецких городах. Без австрийских писателей Кафки, Броха, Музиля немыслима история немецкой литературы. Публиковались они в немецких издательствах. Другой автор, подданный ФРГ, студент из Вены, разумеется, включает Австрию в поле своих исследований. За этим не скрывается «претензия на единоличное представительство» времен Аденауэра, это абсолютно оправдано:
немецкие переводы и постановки, которые исследует Бернарц, имели рынок сбыта как в Австрии, так и в Германии. Экономический рынок «немецкой культуры» образовывал и образует единство, переступающее государственные границы.
В обеих работах недостает немецкоязычной Швейцарии, на которую, в принципе, распространяются те же законы. Немецкая послевоенная литература без Макса Фриша, без Петера Бихселя, без Урса Видмера? Немецкоязычный театр после 1945 г. без Фридриха Дюрренматта? Немыслимо. Цюрихский драматический театр во времена нацизма — органическая часть истории немецкого театра. Под художественным руководством Дюггелина Базельский театр выработал настоящую чеховскую традицию9. И наконец, Швейцария выдвигается на первый план данного обзора благодаря цюрихскому издательству «Диогенес»: здесь было издано так много произведений Чехова, как ни в каком другом немецкоязычном издательстве.
Издание книг Чехова один из самых запутанных примеров сотрудничества ГДР и ФРГ. В этом мероприятии приняло участие три страны: мюнхенское издательство «Винклер» приобрело у издательства «Рюттен и Лёнинг» (Берлин, ГДР) лицензию на продажу в ФРГ «Собрания сочинений отдельными томами». Издательство «Диогенес» (Швейцария) купило, в свою очередь, у «Винклера» а также у франкфуртского издательства «Ферлаг дер ауторен» лицензию на продажу изданий в мягкой обложке. Это издание распространилось теперь по книжным магазинам Швейцарии, Федеративной республики и Австрии. Этот пример кооперации, казавшийся политической мудростью, на деле же объяснялся чисто экономической необходимостью: едва ли какое-нибудь западное издательство смогло бы сейчас финансировать издание полного собрания сочинений Чехова.
Для этого требуются широкие возможности сбыта. Но в Германии не было и нет массового интереса к творчеству Чехова. Несколько цифр подтверждают правильность данного вывода:
В известной серии «Инзель библиотек» лейпцигского издательства «Инзель» в 1919 г. вышло одно произведение Чехова — «Скучная история». Тираж до 1925 г. — 15 тысяч экземпляров. Пушкин вышел в этой же серии (также одно произведение — «Пиковая дама») тиражом 25 тысяч. Достоевский (4 произведения) — 250 тысяч. И Лев Толстой (в общей сложности 11 произведений) выдержал до 1945 г. общий тираж до 462 тысяч экземпляров10.
До 1945 г. едва ли какая-нибудь из немецкоязычных постановок Чехова продержалась больше 20 спектаклей. До первой мировой войны только мюнхенская «Чайка» (1911) была сыграна 25 раз.
Для сравнения посмотрим, как обстояли дела с постановками Горького. Знаменитая постановка «На дне» Макса Рейнхарда принесла мировую известность как режиссеру, так и Горькому. Премьера состоялась 23 января 1903 г., а 4 мая играли уже сотый спектакль; 5 мая 1905 г. состоялось 500-е представление. В течение 1904 г. да только одна эта пьеса Горького ставилась в 52 немецких драматических театрах. Ни одна из пьес Генриха Зудермана, самого популярного немецкого драматурга тех лет, не имела такого успеха. Правда, вскоре после этого популярность Горького стала быстро падать. Но такого успеха, как «На дне», не знала ни одна из пьес Чехова, ни в кайзеровской Германии, ни в Веймарской республике. И все же успех Чехова в Германии можно графически изобразить с помощью постоянно возрастающей кривой.
Многие ведущие режиссеры немецкоязычных театров не ставили пьес Чехова. Отто Брам, добившийся признания для Гауптмана, в русской драматургии был абсолютным приверженцем Толстого. «Власть тьмы» он ставил в Берлине три раза, Чехова — ни разу. Макс Рейнхард тоже никогда не ставил Чехова. В его театре в 1905 г. шел «Медведь», а в 1919 — «Иванов», но в постановке других режиссеров. Этот перечень можно было бы продолжить. Некоторые режиссеры единожды ставили одну из пьес Чехова, но после этого — никогда к нему не возвращались (Йесснер, Фелинг, Грюндгенс и другие). Такие режиссеры, как Гейнц Гильперт, которые неоднократно ставили пьесы Чехова, до 1970 г. оставались исключением.
Рассмотрим постановки каждой пьесы Чехова:
«Чайка» — 1909 г. в Берлине, 1911 г. в Мюнхене, потом «больше чем три десятилетия отсутствует в репертуаре» (Беднарц);
«Дядя Ваня» — после 1906 г. «в течение последующих сорока лет ни одна постановка не продержалась больше 6 спектаклей»;
«Три сестры» — «играют очень редко, хотя каждый раз — примечательные постановки»;
«Вишневый сад» — после многообещающего старта в Берлине «на двадцать лет исчез из репертуара»11.
Нет воспоминаний о Чехове его немецких современников, отсутствует переписка Чехова с немцами. Известно письмо, с которым Райнер Мария Рильке обратился к Чехову 5 марта 1900 г., дабы сообщить ему, что он закончил перевод «Чайки» и просит прислать ему экземпляр «Дяди Вани». Ответ Чехова неизвестен12. А перевод «Чайки», сделанный Рильке, к великому сожалению, утерян. Томас Манн написал прекрасные «Опыт о Чехове» (1954). Других заметных статей о Чехове-рассказчике в немецкой эссэистике нет. Несколько больше литературы о драматургии Чехова. Но его произведения никогда не обсуждались так широко, не вызывали таких дискуссий, какие разгорались в Германии из-за произведений Достоевского и Толстого. К немецким читателям попадала в основном переводная литература о Чехове. (Влияние русских эмигрантов на литературную критику, литературоведение и общие представления о России было очень значительным.)
Немецкие писатели не упоминали о том, какое влияние оказало на них творчество Чехова. В 1928 г. Артур Лутер писал, что Чехова тоже «много читают и переводят в Германии: но вряд ли возможно говорить о непосредственном влиянии Чехова на немецкую литературу»13. Герхард Дик в 1955 г. задал вопрос нескольким писателям, повлиял ли Чехов на их творчество.
Арнольд Цвейг: «Чехов не повлиял ни на меня, ни на писателей моего поколения. Мы с жадностью читали тогда Тургенева, Гоголя, Толстого и Достоевского и с большим рвением старались постигнуть секреты их мастерства. Молодые русские писатели Короленко, Андреев, Куприн, Горький и Чехов были нашими сверстниками, у которых мы не учились, но с которыми мы могли и хотели соревноваться».
Герман Гессе: «Когда я лучше узнал творчество Чехова, я уже давно не был восприимчив ни к каким литературным влияниям. Но тем не менее я обязан ему очень многим. С тех пор, как я его знаю, он относится к моим любимцам. Такие его шедевры, как «Палата № 6» или описание путешествия по степи мальчика Егорушки, я периодически перечитываю».
Оскар Мария Граф тоже отрицает влияние Чехова, приводя похожие обоснования. Но говорит: «Я настолько люблю Чехова, что вновь и вновь перечитываю его рассказы и не уверен в том, не превосходит ли он пластичностью и подлинностью изображения, меткостью слова другого признанного мастера европейской новеллы — Ги де Мопассана? Чувство социальной справедливости, — столь выраженное у Чехова, нам ближе». В 1955 г. Граф советовал молодым писателям «читать Чехова и учиться его выразительной простоте, его откровенной социальной тоске, стремлению сделать людей лучше, и его глубокой меланхолии, которой не чужды и юмор и ирония»14.
По-иному сложились отношения Гауптмана и Чехова. На это, как и на связь «Трех сестер» и «Сестер из Бишхофоберга», указал Г. Дик15. Однако в целом Гауптман больше значил для Чехова, нежели наоборот. Эту точку зрения отстаивал Альфред Керр. В речи памяти Отто Брама он сказал: «Только потом пришел великий русский — Станиславский и стал учиться у Гауптмана, как Чехов»16. Об этом писал Гауптману и Станиславский в 1932 г. в юбилейном адресе к его 70-летию: ««Одинокие люди» побудили Чехова писать для театра»17. Не совсем понятная фраза, так как Чехов писал для театра с начала 80-х годов. Вероятно, следует читать так: «для нашего театра» («Три сестры» были первой пьесой, которую Чехов написал специально для Художественного театра).
До 1955 г. можно не искать примеров определяющего влияния Чехова. Это не означает, что поиск полностью завершен, напротив: именно в последние годы в дневниках, переписке были обнаружены очень интересные высказывания о Чехове, которые должны быть здесь упомянуты и которые заслуживают отдельного подробного исследования.
Всем известно отношение Б. Брехта к натурализму. Он отвергает «систему Станиславского» как заблуждение театра и связывает «театр иллюзий» Станиславского с Чеховым: «Натуралистские спектакли порождают иллюзию, будто бы ты находишься в каком-то реальном месте. Стоит зрителям увидеть на сцене комнату, как они уже улавливают запах вишневого сада за домом; а если видят каюту корабля — то ощущают морскую качку»18. Брехт никогда не скрывал своей неприязни к Станиславскому, чьи постановки пьес Чехова немцы в течение многих десятилетий считали наиболее достоверными.
В письме Брехта 1945 г. читаем: «Довольно интересно сравнивать драмы Чехова и Ибсена: Ибсен видел возможности решения противоречий внутри господствующей системы, а Чехов не видел. Скандинавская буржуазия на несколько десятилетий переживет русскую»19. Общественность узнала про это письмо в 1981 г., когда были изданы письма Брехта.
Артур Шницлер, которого русская критика еще при жизни Чехова называла «немецким Чеховым»20, в 1906 г. сказал своему русскому посетителю Е. Норвежскому21: «Я люблю вашего писателя Чехова. Он — один из лучших современных писателей. Какое настроение, какая глубина мысли и как благородно его отношение к людям!». В Берлине, продолжает Норвежский, как раз проходили гастроли МХТа. «Я опасаюсь, — сказал мне Шницлер, что немцы не в состоянии будут полностью оценить изысканность и красоту «Дяди Вани» и «Трех сестер». Они ведь восхищаются Горьким. Но на мой взгляд, Горький стоит ниже Чехова. Горький интересен как личность, но как писатель он скорее эффектен, нежели высокохудожественен»22. Немцы смогли прочитать эти слова только в 1982 г., когда Хереш написала исследование о влиянии на Шницлера русской культуры. Дневники Шницлера содержат много упоминаний о Чехове23.
Известны (но тоже только с 1960-х годов) блестящие театральные рецензии Роберта Музиля, написанные в 1921—1924 гг. для газеты «Прагер прессе». Уже в 1906 г. Музиль был свидетелем первых гастролей МХТа в Вене. В 1922 г. он с восторгом писал о вторых гастролях, казалось, игра москвичей воплощала его собственные представления о театре. «Чехов означает: мудрое, тихое, самоотреченное искусство, не титаническое. Ясный взгляд, прозорливость, тоска, конец»24.
Такие высказывания — редкие находки. Они свидетельствуют о разном отношении к Чехову: и о восхищении, и о категорическом неприятии его, но в них нет и намека на возможность влияния. Сегодня читатели ведут себя так же. В школе Чехова не читают, книги Чехова не те, в которых молодой человек может жить, обосноваться и провести недели три, как в «Войне и мире» или романах Достоевского (их едва ли пропустит гимназист в возрасте от 15 до 20). «Ах, Чехов, эти коротенькие штучки...», — говорит моя дочь. Ей 15 лет, она читала Диккенса, «Анну Каренину», «Мадам Бовари», «Унесенные ветром», «Убить пересмешника» Харпера Ли, Чендлера и даже «Сто лет одиночества» Гарсия Маркеса. Чехова — лучше как-нибудь потом.
Запомним, что восприятие в Германии этого «мудрого, тихого искусства» проходило в очень скромных рамках, в тиши. Чехов знал об этом. С 1890 г., когда вышел сборник «Русские люди» (первый сборник рассказов Чехова в переводе Иоханнеса Треймана, объемом 133 страницы), он был свидетелем своей «немецкой истории». «Кстати, — писал он 22 февраля 1892 г. В.А. Тихонову, — немцы давно меня уже перевели». И он не напрасно гордился, потому что второй сборник (также в переводах Треймана) вышел в признанной «Универсаль библиотек», в издательстве, которое добилось признания Ибсена в Германии. Но потом становится все тише и тише на фоне возрастающей популярности Горького. 4 сентября 1902 г. Суворин помечает в своем дневнике: «Чехов удивился, что Горького считают за границей предводителем социализма. — «Не социализма, а революции», — заметил я. Чехов этого не понимал. Я, напротив, понимаю. В его повестях везде слышится протест и бодрость. Его босяки как будто говорят: «мы чувствуем в себе огромную силу и мы победим». Популярность Горького задевает самолюбие Чехова: «Прежде говорили: Чехов и Потапенко, я это пережил. Теперь говорят: Чехов и Горький». Он хотел сказать, что и это переживет. По его словам, Горький через три года ничего не будет значить, потому что ему не о чем будет писать. Я этого не думаю»25.
Но растущая популярность Горького была не единственным препятствием для Чехова в Германии. Перипетии в отношениях с переводчиками, издательским правом и театральной практикой26 могли бы составить самостоятельную историю.
Как в России, так и в Германии, восприятие Чехова проходило в традиционно разделенных областях: с одной стороны, книжный рынок, с другой — театр, абсолютно в духе карикатуры на «Иванова» из «Осколков» от 4 ноября 1889 г. («Чехов на распутье»). В Германии оценка обоих путей поначалу совпадала с мнением русских критиков, отвергавших драматургию Чехова. Теперь же акцентировка решительно изменилась: в последние двадцать лет центр тяжести приходится на драматические произведения Чехова.
Анализируя пьесы Чехова, мы с самого начала будем делить их на одноактные и многоактные, подобно тому как мы отделяем его позднюю прозу от ранних юмористических рассказов. Самые знаменитые из одноактных пьес Чехова — «Медведь» и «Свадьба» после премьеры в театре «Альтона» в 1901 г. остались на немецкой сцене. Не проходило и года, чтобы их не играли в нескольких городах, будь то «чисто» Чеховский вечер (тогда программа часто дополнялась монологом «О вреде табака») или в комбинации с одноактными пьесами других авторов. Очень часто удовольствие публики находилось в обратнопропорциональном соотношении с вниманием театральной критики.
Другое дело — история больших драм. Она началась в 1902 г., когда одновременно вышло несколько переводов пьес Чехова27. Известный берлинский переводчик Август Шольц в 1902 г. завершил работу над «Тремя сестрами» и «Дядей Ваней». (Позднее, после первой мировой войны Шольц полностью «комплектует» драматургию Чехова: в 1918 г. — «Вишневый сад», за ним следует в 1919 г. — «Иванов», затем «Медведь» и «Свадьба». Тут всякая конкуренция была бы бессмысленна: имя Шольца было порукой высокого качества. Большинство пьес русских драматургов, которые Рейнхард ставил в Берлине, осуществлено по переводам Шольца. Спектакль Ю. Фелинга «Три сестры» тоже сделан по переводу Шольца.) На пьесы Чехова обратила внимание немецкая театральная критика: журнал «Литераришес эхо» напечатал статью «Чехов-драматург»28. Пьесы Чехова постепенно входили в немецкую театральную практику, но в 1906 г. этот процесс был прерван главным театральным событием последних лет — гастролями МХТа, которые с триумфом прошли в Вене и Берлине29. Раньше Чехова «оставляли» в тени два русских драматурга: Толстой, любимый драматург Отто Брама, и Горький (в 1906 г. в Берлине можно было сравнить постановки «На дне» в театре Макса Рейнхарда и в МХТе). Москвичи, или как их называли, «русские», привезли из своего чеховского репертуара «Дядю Ваню» и «Три сестры». Для немецких театралов это были самые достоверные интерпретации Чехова, правдоподобнее которых ничего быть не может.
Поэтому в Германии попытки сыграть Чехова ограничились «Чайкой» и «Дядей Ваней». Немецкая премьера «Чайки» состоялась в 1902 г. в Бреслау в театре «Лобе»30. В 1909 г., после гастролей Станиславского, «Чайку» поставили в Берлине31. Премьера «Дяди Вани» — в Мюнхене в 1903 г.32, а спустя год спектакль шел уже в Берлине — до гастролей москвичей33. На первую постановку «Трех сестер» в Германии отважились только в 1926 г. (Режиссер — Юрген Фелинг).
Больше всего немцы восхищались искусством актерского ансамбля. Москвичи заставили их забыть даже Отто Брама из «Дойчес театер». Альфред Керр: «Это самый лучший образец сыгранности, который мне приводилось видеть на сцене. Иногда, когда кто-нибудь из русских актеров выходит на авансцену, его ярче освещают, ты говоришь себе: «Ну да, он — отдельный исполнитель, скромная единичная величина... но если взять все вкупе, то кажется, что смотришь, как домовой, через запертые двери в закрытые квартиры. Это — правда, правда»»34.
И еще — постановка безмолвной игры, знаменитая звуковая кулиса Станиславского. Опять Керр: «Если выражаться музыкально, то москвичи преуспели в ферматах. Они умеют заставить зазвучать тишину бытия. Они умеют открыть даль пространства в своей игре; даль, неприметное скольжение, которое проходит сквозь все детали их совместной игры. Они — художники развеянной, бесшумно ускользающей жизни», но не «этой», берлинской жизни, «а другой ее стороны: пассивной жизни»35.
Сдержанный Зигфрид Якобсон писал: «Если русские так же хорошо вернут нам Гауптмана, как мы им Горького, то мы готовы признать, что они нас стоят. Пока они показали нам, как у них на родине играют Алексея Толстого, Чехова и Горького». У А.К. Толстого, например, не зная немецкого перевода, невозможно понять, «решают ли актеры сложные или простые задачи», «декламируют ли они стихи — и стихи ли это — или они разрушают рифму, или они нашли нечто среднее между котурнами и шлепанцами». «С Чеховым мы не чувствуем себя так неуверенно, — продолжает Якобсон. Мы читали и смотрели «Дядю Ваню» по-немецки и знаем, что это — пространная картина настроений, где усталые и замшелые люди взаимно грызут друг друга. Нельзя ни жить, ни умереть. Они крадутся сквозь жизнь, как через густой, удушающий туман. Вечно повторяется одна и та же мука; вдруг кто-то вскакивает, кричит, стреляет и промахивается — и все остается по-прежнему... В немецкой постановке мы были убеждены, что вызываемое ощущение скуки не соответствует художественному замыслу драматурга. Здесь все по-иному. Дом и двор окружает мучительная атмосфера отсутствия желаний и энергии <...> Но с начала и до конца спектакля ты прикован к действию. Я отказываюсь решать, причиной ли тому талант актеров или сама пьеса»36.
Решающее сравнение стало возможным после спектакля «Враг народа». З. Якобсон; «Искусство русских умирает, когда они играют Ибсена. Их Штокман не выдерживает сравнения ни с Ибсеном, ни со Штокманом Вассермана. В этом ансамбле и при таком методе игры он выглядит на сцене слабо и криво». Метод москвичей определяется следующим образом: «Стремятся вызвать самое живое впечатление и нагромождают бесконечное множество мельчайших деталей, у которых нет иного значения, кроме того, что они могли бы встретиться в жизни. Они впали в старинное заблуждение, что наивысшая задача искусства — воспроизведение действительности»37.
После русского «Врага народа» и Альфред Керр несколько охладел; «Для сравнения с Брамом им не хватает равноценного материала, как в тех пяти спектаклях, которые они здесь давали. И это самый важный момент»38. Об этом Керр уже упомянул: сравнение с Брамом невозможно, «потому что русские воплощают в чеховских спектаклях малые духовные ценности, если сравнивать с содержанием «Дикой утки» Ибсена; малые душевные глубины, если сравнивать с «Михаэлем Крамером». Когда Брам ставил Ибсена, он достигал вершин серьезного, душевно глубокого европейского искусства. У русских нет возможности сделать что-либо похожее, пока они играют эти пять драм <...> Реальное действие у Чехова — это случайные эпизоды, в то время как у Ибсена это — эпизоды с дыханием вечности»39.
«Случайные эпизоды» списывались за счет режиссуры; постановка Станиславского загораживала пьесу, как щит. И там, где уже не было необходимости считаться с личностью Станиславского, например, на берлинской премьере «Чайки», Керр становится еще более откровенным: «Едва ли можно высоко оценивать драматургию Чехова (действующие лица настолько схематичны, что он попадает в самый конец второго уровня). Но я вполне могу понять, что Чехова можно любить»40.
Прямолинейный Якобсон говорит в той же связи: «Спектакль по Чехову. А значит не спектакль, а последовательность сумеречных настроений, или вернее: повторение единственного настроения — тяжелой тоски». Никак невозможно, продолжает Якобсон свою мысль, «ни жить, ни умереть, даже проще умереть, чем жить. Они стремятся к другому, лучшему, более прекрасному и легкому миру, стремятся вырваться из печальной щели в радостные дали, имеют лишь одно желание, но нет силы, чтобы его осуществить и высвободиться. Они любят; но если любишь глубоко и серьезно, то уж обязательно и несчастливо». Якобсон считает, что драмы Чехова воспринимаются скорее как пьесы для чтения. «Читать, а не смотреть. Потому что в берлинской постановке действовал режиссер, у которого хватило литературного вкуса, чтобы взяться за такую спокойную пьесу, но не хватило театрального опыта, чтобы понять, что сцена обладает собственной оптикой и акустикой. Самый здоровый цвет лица без грима выглядит на сцене мертвенно бледным. Драма или антидрама, естественный тон которой монотонен, кажется на сцене невыносимо скучной, если ее монотонно играть. В театре Хеббеля чеховский спектакль <...> похоронили в сером однообразии»41. И после пятого представления сняли. Так обошлись в немецких театрах с большинством спектаклей по Чехову. За исключением мюнхенской постановки «Чайки» (1911), которая выдержала 25 представлений и по поводу которой критика писала о Чехове как о «большом мастере, драматурге удивительной мощи»42. «Чайка», в среднем, выдерживала не больше двух, а «Дядя Ваня» — не больше четырех спектаклей43.
Отто Брам уже в 1901 г. писал переводчику Аугусту Шольцу:
«Милостивый государь! Любезно представленный Вами перевод сцен из сельской жизни «Дядя Ваня» Антона Чехова живо заинтересовал нас как изображение разрушенных семейных отношений в русском поместье. К сожалению, драматическое действие очень незначительно, тонко намеченные характеры проступают недостаточно рельефно и раскрывают себя в длинных, недраматических монологах. А целый ряд неудачников, начиная с фразера-профессора и его молодой скучающей жены и кончая тупо работающим владельцем поместья и его племянницей, сельским врачом, неудовлетворенным своей работой и их неудачными любовными опытами составляют печальную картину отречения от жизни, которая не облегчается намеченным вознаграждением в мире ином.
Поэтому к нашему глубочайшему сожалению мы не можем надеяться на успех этой пьесы в нашем «Немецком театре», несмотря на ее бесспорные литературные достоинства. Мы благодарим Вас за оказанную нам честь и высылаем Вам обратно рукопись.
С уважением,
Преданный Вам О. Брам,
Немецкий театр, Берлин»44.
Открытие «Вишневого сада» немецкоязычными театрами пришлось на период первой мировой войны45.
Если бы мы захотели подвести итог первому периоду немецкой истории Чехова, нам бы пришлось «вооружиться» скромностью: с 1904 г., самое позднее с 1906, после гастролей москвичей, Чехов становится известным в Германии. Чехова теперь знают.
Его знают по 5-томному собранию сочинений, по двум томам «Избранного» и по бесчисленным разрозненным публикациям, этим неупорядоченным эпизодам, продуктам случая. Из энциклопедического словаря, куда вошел Чехов, знают названия его новых произведений, но не переводят их.
Знают о путешествии Чехова на Сахалин, но не интересуются этим. Единственным, кто откликнулся на путешествие, был О. Цабель. Но и он предпочитает Чехову жалостливо-многословную автобиографию Л. Мельшина «В мире отверженных» (на немецком языке книга вышла в издательстве «Инзель» в 1903 г.). Довод Цабеля очень прост: «По выходе, в 1896 г., книга Мельшина была несравнимо выше оценена русской прессой»46.
Что же касается драматургии, то общественное мнение гласит: «спектакль Чехова — значит неспектакль»: нет ибсеновского «дыхания вечности», нет «европейского искусства», нет титанических жестов, нет христианско-социалистических призывов к борьбе, нет будоражащих вопросов Карамазова, зато есть сумеречные настроения, усталые, ворчащие люди, которые толком не могут ни жить, ни умереть, бессильные, пассивные. И разочарование, тупо повисшее над всем и всеми. Славянская душа, русские — «зимний народ» (А. Керр). Справочная литература сообщает о Чехове как о писателе уходящего века, тонущей старой России, как о пессимисте, который в молодости обладал свежим юмором.
Чехов умер и потому в дискуссиях о современной литературе имя его появлялось редко, писали о Горьком, Леониде Андрееве, Евгении Чирикове и др. В Германии пользуется успехом роман Арцыбашева «Санин», Куприн меньше, Иван Бунин.
И Дмитрий Мережковский, романист. Но большее влияние он оказал как эссэист, критик и проповедник новой религии. Он принимает участие в подготовке полного собрания сочинений Достоевского (издательство Р. Пипера в Мюнхене)47 — гигантского издательского мероприятия, представляющего огромный мировоззренческий интерес. В этом издании Достоевский соотнесен с образом России. Здесь дано представление о русском как о мистике, одержимом богоискателе, который может найти свое освобождение только в Боге и в вере.
С этим образом России у Чехова нет ничего общего, но зато для защитников этого образа Чехов был и остается большим недоразумением.
Если когда-нибудь — а это тема для самостоятельного исследования — напишут о влиянии русской эмиграции на формирование образа России, то надо начинать не позднее Мережковского. В этом исследовании обязательно отметят, что Мережковский в эссе «Грядущий хам» (1907 г. — дата издания по-немецки), оставив религиозное рвение, написал о Чехове и Горьком, о каждом в отдельности, и сравнивал их так блестяще, на таком уровне, которого никогда не достигал ни один из немецких интерпретаторов Чехова.
«Простота Чехова такова, что от нее порою становится жутко: кажется, еще шаг по этому пути — и конец искусству, конец самой жизни; простота будет пустота-небытие; так просто, что как будто и нет ничего, и надо пристально вглядываться, чтобы увидеть в этом почти ничего — все»48.
Когда началась первая мировая война, в немецких театрах еще «обкатывали» пьесы Чехова. И даже когда в 1922—1924 гг. немецкие театральные критики вынесли Чехову «окончательный смертный приговор», связи немецких театров с Чеховым не порывались. Их не нарушила даже война с Россией: в 1916 г. состоялась премьера «Вишневого сада»; за Веной в 1917 г. потянулся мюнхенский театр «Каммершпиле», в Берлине в 1917 г. поставили еще раз «Чайку», а в 1918 г. Фридрих Кайслер показал берлинцам «Вишневый сад»49. Когда в 1916 г. Лион Фейхтвангер писал о «Вишневом саде», он опасался, что «немецкие шовинисты обрадуются, когда это произведение поставят в Германии: они будут смаковать монологи Трофимова из второго акта — так русский осуждает Россию. Распад семьи символизирует распад нации»50. Но реакция немецкой театральной критики на постановки в Вене и Берлине не подтвердила опасений Фейхтвангера.
Фейхтвангер, с 1908 г. — корреспондент мюнхенского журнала «Шаубюне», пробующий свои силы в драматургии, следует за общепринятым мнением, что в этой пьесе «почти ничего не происходит». И тем не менее, эту бедную действием пьесу он считает «самой богатой и зрелой, сладостной и горькой, самой мудрой из всех, что были написаны Чеховым. Эта трагикомедия51 одиноко стоит на творческом пути Чехова, она насквозь пронизана улыбкой, мягкой, грустной и одновременно язвительной52. Анализируя все двенадцать действующих лиц, Фейхтвангер приходит к заключению, что Чехов отдает должное каждому из них, признавая, что каждый из них прав по-своему: «Лопахин, для которого сад — просто земельный участок; Раневская, для которой он — символ ее юности и чистоты, величественного и прекрасного прошлого; даже «студент-мечтатель, для которого сад становится символом кровавой деспотии».
«Сад становится у Чехова не только образом его народа, нравственно чистого, прекрасного и великого, беспомощно бредущего из непонятного прошлого в глухое и такое же непонятное будущее <...> все относительно, все земное преходяще, как для мудреца, так и для глупца».
Фейхтвангер первым стал исследовать драматургические приемы Чехова, его кажущуюся «непреднамеренность»: «Он избегает кричащих контрастов, освещения. Чехов изображает то, что изобразить невозможно». И именно эти «полутона» и «приглушенные движения» кажутся Фейхтвангеру «много убедительней громких воплей и преувеличенной жестикуляции солидных драматургов», таких, как Ибсен и Стриндберг. «У тех — жесткие, четкие, светлые контуры должны как можно более наглядно подчеркивать намерения авторов; у Чехова все окутано в мягкий, мерцающий свет, и человек никогда не появляется без этой окружающей его атмосферы». И эти «люди — страшное нарушение всех солидных драматургических приемов! — не развиваются. Ни на йоту. В конце пьесы они точно такие же, какими были в начале. Автор просто довольствуется тем, что заставляет их, в каком-то смысле, повернуться вокруг собственной оси, сделаться такими «прозрачными», чтобы зритель их увидел насквозь».
Итог: «Вблизи все это кажется бессмысленным нагромождением световых пятен, но издалека мы видим завершенную значительную картину, обобщающую без навязчивой и нарочитой символики».
Анализ Фейхтвангера психологического и символического аспекта произведений Чехова, а также его «импрессионистской техники» долгое время определял немецкую театральную критику: многие критики «заимствовали» у Фейхтвангера, и даже в рецензиях на берлинскую постановку «Вишневого сада» слышны его отголоски.
В 1916 г. «Вишневый сад» поставили в Вене. Альфред Польгар описывает постановку и называет сад «образом, символизирующим жизнь обедневшего дворянства». У него мы можем прочитать несколько удачных фраз про амбивалентность персонажей, населяющих вишневый сад. Все они «половинчаты: наполовину трогательны — наполовину комичны; справа — жестокие, а слева — сентиментальные; спереди — гениальные, а сзади — глупые. Их веселье вскормлено тоской, их щедрость — легкомыслием, их честолюбие — безразличием, их решимость — философией самоотречения, их сила — бессилием. Они очень великодушны в отношениях друг с другом, но от этого, как ни странно, никто не выигрывает, все остаются в проигрыше. Они интенсивно излучают тепло, которое никого не греет. Их сердца открыты для любви, но любовь их остается одинокой. Их ум позволяет им видеть будущее и спотыкаться о настоящее».
Правда, Польгар намекает, что «Чехов-драматург остается для него выдающимся новеллистом» и что «эти легкие новеллистические мазки» не совсем в его вкусе, но: «Не возникает никаких сомнений в том, что все это — творения великого духа. Это — писатель, который может из мельчайших деталей собрать судьбу, в нескольких фразах обрисовать характер человека; это — литератор, в каждом наброске которого бродит особый сок, пламенеющая капля, созданная из бурлящей трагической смехотворности бытия»53.
Я не стал бы объяснять успех берлинской постановки «Вишневого сада» преддверием немецкой ноябрьской революции54. Напротив, в 1918 г. зрители явно соотносили пьесу с крахом царизма и падением русской аристократии. Но этот политический аспект восприятия и тогда не был основным, хотя он позволил многим критикам пересмотреть свое отношение к Чехову, увидеть в нем классика, не утратившего свою «свежесть» и современное звучание: «Те, кто вчера смотрел в театре «Шаубюне» тихую комедию Чехова «Вишневый сад», поняли обманчивость классификаций экспрессионистов... Если экспрессионистская доктрина была бы абсолютной, то эта нежная техника намеков и сдержанных чувств сегодня не сработала бы. Но нет! Проходят полчаса «вживания» в действие, и мы уже в плену этого деликатного сочинения, наш слух настроен на самый тихий нюанс, незаметное становится важным»55.
Критик из газеты «Тагеблатт» добавляет: «Все драматургические теории разбиваются об эту русскую элегию... Теории распадаются и теряют всяческий смысл, когда касаются этой пьесы, лишенной драматического действия, но оживленной поэтическим дыханием. В пьесе нет никакого развития действия, и тем не менее в сменах состояний душевного напряжения и покоя нам рисуется судьба, отмеченная трагическим предопределением»56. Комизм этого предопределения охарактеризовал Н. Фальк: «Четыре действия равнодушные разлагающиеся люди с болезненной печалью и тихой насмешкой стоят, засунув руки в карманы, и наблюдают за собственным крахом»57.
Якобсон, левый критик, переименовавший журнал «Шаубюне» в «Вельтбюне» и откликавшийся на самые злободневные политические вопросы, тоже не увидел существенных политических аспектов в «Вишневом саде». В обзоре «Ибсен и Чехов» он называет «Столпы общества» Ибсена «пьесой темного прошлого», затем он переходит к анализу Чехова: «Трудно представить себе, что спустя еще тридцать лет «Вишневый сад» Чехова отцветает окончательно. Эта безыскусность переживет все искусные поделки и литературные моды. Это — образец вечной поэзии». Якобсон ссылается на работы Фейхтвангера и Польгара, прежде чем продолжить свое сравнение: «Под вишневым садом многие подразумевают юность Земли; колыбель человечества; безвозвратно потерянный рай; Россию времен «доброго, старого царизма»; жизнь вообще. Но что бы мы ни подразумевали под вишневым садом, то ли, другое ли, или все это вместе, или просто вишневый сад: от этого ничего не меняется. Тут Чехов выгодно отличается от Ибсена: его персонажи есть, и для этого им не надо ничего «обозначать». Но поскольку они существуют, они одновременно и что-то значат. А у персонажей знаменитого скандинава уже сегодня совершенно ссохлись губы, и вместо них свисают листки с пояснениями. Пояснения эти излишни там, где они необходимы».
Якобсон указывает на еще один, на мой взгляд, важный аспект драматургии Чехова. Действующие лица «Вишневого сада» — «русские до такой степени, что жизнеспособному немцу трудно представить себе одновременно столько уровней и подуровней нежизнеспособности, пассивности и разочарования». Но все эти двенадцать русских Чехова, «помимо специфически русских черт, обладают еще и общечеловеческими свойствами, на которых с мудрой улыбкой покоится глаз поэта. И этот покой передается всему, что он видит... Это маленькие судьбы, судьбы сплошь и рядом будничные, и поэтому в разговорах не заключается никакой высшей духовный смысл: как велик, значит, поэтический талант Чехова, чуткость, знание человеческой души, проницательность, способность сочувствовать боли ближнего, если пьесы его нас трогают и волнуют, хотя там нет ни драматических жестов и акцентов, ни конфликтов и контрастов. Эта атмосфера распада захватывает. И разве возможно, слушая нежный траурный марш Шопена, требовать страстные аккорды пятой симфонии Бетховена»58.
В Берлине это была первая успешная постановка Чехова. Кайслер, режиссер-постановщик, играл Гаева, Ю. Фелинг — Трофимова59. За этим спектаклем в 1919 г. последовала премьера «Иванова» в «Дойчес театер»60, которая полностью провалилась. Альфред Керр писал о спектакле: «Пьеса из предбольшевистской России. Преждевременная пьеса Чехова. Выкидыш. Иванов — ванька-встанька. Он застрелился перед второй свадьбой. Ну и пожалуйста, согласен. Он и сам признается, что не может по-другому. Одним ничтожеством меньше. Из пяти пьес Чехова эта — самая пустая»61.
Якобсон редко соглашался с Керром, но тут их мнения совпали: «Единственно, что он заслуживает, это ту пулю, которая нас от него избавила». Кто хочет спасти Иванова, протягивает руку в пустоту. Правда, об этих «тяжелых, тягучих буднях невозможно было рассказать так великодушно, прекрасно и глубоко, как это сделал Чехов всего в четырех действиях; правда, после трех часов с трудом отрываешься от действия, жалко прощаться с таким живым театром»62, но этот русский, Иванов, был для немцев 20-х годов еще слишком русским, слишком чужим. До 1961 г. о пьесе не вспоминали63. В 1965 г. она появилась вновь в Вене, в студии «Бургтеатра».
В декабре 1921 — январе 1922 г. проходили вторые гастроли «москвичей», той части труппы МХТа, которая в 1919 г. начала свою большую одиссею через юг России, Кавказ, через границу в Константинополь, Загреб, Белград, Вену и Прагу, и, наконец, Берлин64. Отсутствие Станиславского было отмечено всеми. Гастролеры дали три спектакля Чехова: «Три сестры», «Вишневый сад» и «Дядя Ваня»65. Альфред Керр резюмирует: «Прекрасное остается. Постановка... — в худшем случае превосходная»66. И хотя Зигфрид Якобсон пытался умерить всеобщие восторги, спектакли пользовались колоссальным успехом у публики. И опять последующие немецкие постановки Чехова сравниваются с игрой москвичей.
Это подтверждают отклики берлинских критиков на премьеру «Трех сестер» в постановке Юргена Фелинга67. Газета «Берлинер бёрзенкурьер»: «Они играют печальную пьесу Чехова, соревнуясь с актерами Станиславского. В этом нет необходимости. Хотя Юрген Фелинг осторожно пользовался дирижерской палочкой, но пьеса продолжается неполные четыре часа»68. Почти никому не известно, что Фелинг намеренно провоцировал сравнение с москвичами69.
В вечернем выпуске газеты «Бёрзенкурьер» критик Эмиль Фактор объясняет, почему он не видит необходимости в немецкой постановке «Трех сестер». Он обращается к теме, которая так или иначе обсуждается почти во всех критических обзорах за 1926 г.: актуален ли Чехов. Эмиль Фактор пишет: «Эту пьесу заслонили от нас картины новой России, которые не оставили места изнеженной проблематике мелких чувств и раздутой важности собственной персоны». Барон говорит в пьесе, что через 30 лет все будут работать. Фактор комментирует, намекая на безработицу в Германии: «Эта ирония приелась. Если бы Чехов был пророком, то он вложил бы в уста своего персонажа другие слова: настанут времена, когда талантливые и опытные люди будут безрезультатно искать работу»70.
Курт Пинтус называет пьесу исторической и далекой: «Душа средней прослойки провинции, безнадежно, беззащитно размазанной между гнетом царизма сверху и все усиливающимися толчками пролетариата снизу. Это все касается нас не больше, чем доисторические мифы. Чехов сочинил пьесу в 1901 г., и она уже исчерпала себя, потому что исчерпало себя то состояние, которое в ней описывается, хотя, может быть, оно и сейчас витает где-нибудь в провинции»71. Франц Сарвес: «Следует, наверное, говорить о втором, верхнеславянском Бидермейере, сильно потрепанном морально, но вообще-то остроумном и чувствительном эстете. Однако мы поторопились бы, если бы сделали это литературно-историческое открытие сейчас». И тут критик бросает пророческую фразу: «Наши внуки в 1950-м — 1960-м году будут, возможно, наслаждаться этой пьесой»72.
Альфред Керр: «Как превосходна эта дремотная пьеса-новелла об угнетенных, согнувшихся, безвольных провинциалах. Они так и не получают благой вести, и их медленно поглощают пески пустыни. Поэтому сегодня эта пьеса стала для нас историей: добольшевистской историей»73.
Зигфрид Якобсон уже не видел этой постановки «Трех сестер». Он умер 3 декабря 1926 г.
Постановку «Трех сестер» в Вене (премьера состоялась в сентябре 1928 г., режиссер Робин Роберт) тоже сравнивали со спектаклями «русских гастролеров»: режиссер-постановщик не достиг той «человеческой подлинности и силы настроений, которые присутствовали в спектаклях москвичей. И поэтому благодарность публики выражалась не в аплодисментах, а в уважении, которое заставило ее высидеть весь этот долгий вечер»74.
Неизвестно, имела ли успех премьера «Платонова», которая состоялась в 1928 г. в Гере, в «Ройсишер театер». С 1928 г. и до захвата власти Гитлером на немецкую сцену не попала ни одна из больших драм Чехова.
В мае 1933 г. во всех немецких университетах пылали костры. Немецкие студенты под руководством людей в форме СА сжигали книги, которые они считали «ненемецкой разложившейся писаниной». Немецкие университетские профессора произносили торжественные речи.
Но жгли книги не только немецких авторов. На костре — книги почти всех русских писателей, вышедших серией в берлинском издательстве «Малик»75, множество произведений Горького, даже Ф. Сологуб оказался среди изгоев76.
Этот варварский акт миновал книги Чехова, так как его надежно защищал статус классика. Газета «Мюнхнер нойстен нахрихтен» комментировала: «У литературы интеллектуального нигилизма имеются не только еврейские представители, хотя последние явно находятся в преимущественном большинстве. Не каждый русский писатель — большевик от культуры. Достоевского и Толстого тоже нельзя подвести под этот индекс. Русские новоприобретения нам не нужны, но так же нет никакой необходимости уничтожать все новые русские книги»77.
Вполне понятно, что перестали появляться новые переводы и постановки Чехова78.
Фр. Бетге, нацистский драматург и одновременно начальник областного отдела культуры, главный драматург государственных театров Франкфурта-на-Майне, во «Внутренней рецензии на изысканно-нежную драму Л. Бергнера «Душа, попавшая в беду»» следующим образом классифицирует Чехова: «Я передаю решение областному и земельному руководству отдела пропаганды. Хотя я и являюсь начальником отдела культуры области, но, как национал-социалист, я не могу рекомендовать это произведение, невзирая на его бесспорные художественные достоинства. Перед нами — изящная душевная драма, атмосферой похожая на пьесы Йенса Петера Якобсенса, Германна Бенгса, Ибсена, Чехова или на «Одиноких» Герхарда Гауптмана, т. е. здесь нашли выражение такой тип искусства и человеческий, тип, существование которых мы отрицаем». Рецензент приводит цитату из пьесы: «Сейчас слишком много сломанных людей». И продолжает: «Все это — вымирающие семьи из недалекого прошлого, сам факт существования которых будит призраки нашей памяти и вызывает неприятную дрожь. Война, а за ней наш фюрер вымели из нашего общества всех этих больных. Если эти люди еще живут, то на самом деле они уже давно мертвы, хотя и не знают этого. Нет больше «одиноких людей», есть народный коллектив»79.
В 1939 г. заключение пакта о ненападении резко изменило ситуацию: в театральных репертуарах гитлеровской Германии появились русские авторы, поставили «Ревизора», играли комедии Островского, Толстого, в некоторых немецких театрах опять можно было увидеть драмы Чехова80.
Самой важной постановкой Чехова за этот короткий период был «Вишневый сад» Гейнца Гильперта в «Дойчес театер» в 1938 г. И не только потому, что этот спектакль характеризуют как «абсолютно завершенную, совершенную в своем роде камерную постановку». И не потому, что эта была первая работа Гильперта по Чехову. Самое главное заключается в том, что эта постановка не осталась без последствий: в 1940 г. Ганс Тимиг, который играл в спектакле Гильперта Трофимова, поставил «Трех сестер» в венском театре «Ан дер Йозефштадт»; в 1941 г. Бруно Хюбнер, игравший у Гильперта Фирса, поставил «Трех сестер» в «Дойчес театер» в Берлине; и Хюбнер, и Гильперт участвовали после 1945 г. во многих постановках Чехова.
Как странно: в критических откликах на берлинский «Вишневый сад» мы не встретили ни единого слова из нацистского словаря, ни одного расистского тезиса, ни единого лозунга из «Штюрмера», напротив, всеобщее счастье от встречи с классиком и великим писателем. Когда читаешь эти статьи, то создается впечатление, что все в унисон благодарят за человеческое слово, за возможность вспомнить... И критики вспоминают статьи из давно запрещенного журнала «Вельтбюне». И если они прямо не интерпретируют статью Фейхтвангера о «Вишневом саде», то все-таки их работы перекликаются и с Фейхтвангером, и с Якобсоном.
Критик Диценшмидт пишет о комическом, о сарказме в «Вишневом саде»: «Что за горькая трагикомедия — эти четыре действия! Юмор Чехова, самого пессимистичного из всех юмористов, никогда не был таким самоубийственным, как здесь. И как странно, что при этом мы явственно ощущаем, как в пьесе бьется сердце, преисполненное любви к людям. Так и такими, вероятно, видят и любят нас, людей, жестокосердные боги. Мы сами так не умеем, но, потрясенные, смотрим на это, содрогаясь: что за смертельный юмор! какой убийственный комизм!
Вспомним мысль Якобсона о чеховских персонажах: это — люди, которые существуют. И вернемся к Диценшмидту: Чехов — настоящий поэт, и поэтому его персонажи — настоящие, живые люди, даже в самой маленькой своей реплике (которая, как нам иногда кажется, уплывает в ничто, в пустую трату времени). И Гейнц Гильперт не дает ни утонуть, ни улететь ни одному колебанию: он дает им возможность оформиться в звук и стать действительностью»81.
О тихом, невысказанном у Чехова: «И вообще: мы не можем искать у Чехова возвышенных идей. Любовь к своему дому и двору охватывает нас в момент утраты. Но за этим скрывается невысказанная мысль о том, что справедливо лишиться той земли, на которой ты не живешь и которую ты не обрабатываешь»82.
В 1938 г. в берлинском издательстве «Густав Кипенхойер» вышла книга избранной прозы Чехова «Рассказы о буднях». Ее выпустил Лео Борхард и написал к ней предисловие, «удивительно объективное для тех времен», далекое от нацистской идеологии. В 1920-х годах и вплоть до эмиграции в 1933 г. литературного руководителя издательства Германа Кестена, издательство Кипенхойера было одним из самых интересных. Но и после 1933 г. «Кипенхойер» остается в числе тех издательств, которые стараются продолжать в своих программах либеральную линию и как можно реже идти на компромиссы с нацистами. Г. Дик считает, что предисловие Лео Борхарда — шаг вперед в понимании Чехова. Самое примечательное, что в его предисловии ни одного раза не встречается слово «пессимизм». Сравнивая Чехова с Короленко, автор называет Чехова «глубоко жизнерадостным» человеком. И хотя его описания русских будней затуманены тоской, «все, что он изображает, даже самое печальное, никогда не кажется отталкивающим или безнадежным, как, например, у Салтыкова или Достоевского. Чехов смотрит на своих героев с любовью, мягко и бережно рисует их ошибки и грехи, и даже в самом тяжелом страдании он видит возможность улучшения положения в будущем, возможность лучшей жизни»83.
Через несколько месяцев после выхода сборника началась война. В этой связи особенно нелепо читается подзаголовок единственной новой публикации Чехова: «Степь. Рассказ о поездке по русской земле». Интересно и нацистское предисловие к рассказу, в котором говорится о «чуждой миру атмосфере пространства, населенного русскими» (кто тут не вспомнит о пропагандистской работе «Народ без пространства»?), о «судьбе русского пространства», в котором «эпизодически появляются враждебные народу и стране элементы, и каждый раз их пожирает, поглощает беспредельность этого же самого пространства. В пространстве, отданном русским судьбой, бьется избыточная полнота природы»84. И лишь читатель, которому с первых же строк не станет дурно от нацистских словес, найдет на этих трех страницах, которые не содержат, в сущности, никаких антисоветских выпадов, скрытое предупреждение: тот, кто играет с опасностью, погибает от нее же.
Раздел Германии начинается не в 1949-м г., когда на немецкой земле образовались два немецких государства. Он начался непосредственно после окончания войны, с раздела побежденной Германии на оккупационные зоны. Берлинский театральный критик Герберт Йеринг, сопровождавший «Дойчес театр» в 1949 г. на гастролях по Западной Германии, писал о том, как далеко уже зашел этот процесс к тому времени: «Конечно, отчуждение очень велико, точнее — это можно было бы назвать незнанием друг друга и друг о друге. Тот, кто по дороге из Берлина в Брауншвейг читал газету из советской зоны, не имел права перевезти ее через границу в Гельмштадте. Актеры, старые знакомые, теперь почти ничего не знали друг о друге. Для примера — незначительный факт: уже в Брауншвейге85 никто ничего не слышал про Национальные премии. Определенного рода информация, судя по всему, теперь уже не могла перейти через границу. И совсем невероятными кажутся те выводы, которые сделали некоторые театралы из Брауншвейга и Кёльна: посмотрев спектакль «Мамаша Кураж», они объяснили простоту декораций, помятые щиты и потрепанные костюмы не ужасами Тридцатилетней войны, о которых рассказывалось на сцене, а «нищетой восточного сектора»86.
В последующие фазы развития отношений между ГДР и ФРГ была сформулирована и иная мысль: «У нас есть общий немецкий язык и общая немецкая литература»87.
Раскол Германии, проведенный с чисто немецкой тщательностью, последовательностью и упорством, означал не только раскол национального самосознания. За ним последовали глубокие изменения во многих областях культурной жизни, в издательском деле и в топографии театров. И эти перемены начались задолго до 1949 г.
Берлин, который всегда был бесспорным центром немецкоязычных театров, утратил свой театральный статус. Известные деятели театра, режиссеры, любимые всеми актеры покинули Берлин, многие из них так и не вернулись обратно: Густав Грюндгенс в 1947 г. принял руководство дюссельдорфским театром «Шаушпильхаус»; Гейнц Гильперт, побывав во Франкфурте-на-Майне и в Констанце, обосновался в Геттингене: Юрген Фелинг в 1948 г. перешел в мюнхенский театр «Байрише Штатсшаушпиль»; в 1947 г. Эрих Энгель принял приглашение мюнхенского Камерного театра88; Фриц Кортнер в 1947 г. вернулся из эмиграции и в 1950 г. покинул Берлин; Эрвин Пискатор вернулся в Берлин только в начале 1960-х годов.
Западногерманский театр искал себе новые центры в надежном тылу, в провинции, и таким образом невольно соответствовал провинциализму боннской политики. Временной столицей становится Бонн, а не Франкфурт, бывшая имперская столица с собором Святого Павла и значительными республиканско-демократическими традициями. Гамбург, Дюссельдорф, Бохум, Штутгарт, Франкфурт, Мюнхен, иногда Бремен и Ульм были и оставались до недавнего прошлого основными очагами западногерманской театральной жизни. Особое место, на стыке двух систем, всегда занимал Берлин. Но лишь недавно он опять превратился в Мекку театрального мира, когда Петер Штайн возглавил театр «Шаубюне ам Галлешен уфер».
В годы холодной войны театры Восточного Берлина выпали из поля зрения западногерманской общественности, невзирая на «Дойчес театер», на «Берлинер ансамбль», на Брехта или, может быть именно из-за него: консервативные круги Западной Германии долго не могли простить Брехту, как и Генриху Манну, Анне Зегерс, Арнольду Цвейгу, что по возвращении из эмиграции в 1949 г. они выбрали социалистическую Германию.
Еще более значительные, даже, вероятно, коренные перемены произошли в Берлине — центре издательского дела и, таким образом, в литературной жизни Германии. Исчезли издательства, в которых до 1933 г. выходили книги по истории литературы: «Малик», «Кассирер», «Курт Вольф». Самуэль Фишер, основатель издательства «С. Фишер», умер в 1934 г., а его зять Готфрид Берман эмигрировал. Петер Зуркамп, которому удалось сохранить издательства во времена нацизма, вынужден был в 1943 г. сменить фирму. Вновь основанное издательство «С. Фишер» обосновалось во Франкфурте, как и издательство «Зуркамп», которое в 1950 г. отделилось от «Фишера». Издательство «Эрнст Ровольт», вновь основанное в 1945 г., расположилось в Гамбурге.
Другие старые немецкие издательства оказались буквально разорванными, когда в преддверии денежной реформы издатели бежали на Запад, чтобы спастись от пугавшей их экспроприации, т. е. объявления их имущества народным достоянием. Так до сих пор существуют издательство «Реклам» в Лейпциге и Штутгарте; издательство «Инзель» в Лейпциге и во Франкфурте-на-Майне; издательство «Густав Кипенхойер» в Веймаре и театральное издательство «Густав Кипенхойер» в Западном Берлине. И мы привели еще не все примеры. Легко представить себе, какие здесь возникали юридические проблемы.
С 1945 г. во всех оккупационных зонах действовал единый принцип: дальнейшее развитие культуры не должно опираться на наследие нацизма, но так же невозможно было продолжить «культурное развитие» там, где его прервали руки нацистов. Для бесчисленных деятелей немецкой культуры эмиграция не прошла бесследно. Кроме того, за 12 лет тысячелетнего рейха немецкая публика оказалась полностью отрезанной от всех современных литератур, в том числе и от собственной. Всех мучила колоссальная, сегодня едва ли представимая, жажда возместить утраченное и упущенное. Одной из задач было перечитать классическую литературу, среди прочих и Чехова. Знакомый неизвестный опять удостоился скромных почестей как в Восточной, так и в Западной Германии.
Главным ориентиром, если не меркой, для немецких театров первых послевоенных лет служил репертуар цюрихского театра «Шаушпильхаус», единственного немецкоязычного театра, который не нуждался в денацификации.
С 1933 по 1945 г. Цюрих служит не только прибежищем для многих значительных немецких актеров и режиссеров. В Цюрихе, кроме того, состоялись на немецком языке премьеры: «Генерал-дьявол» Карла Цукмайера, «Пунтила» Брехта, первых пьес Макса Фриша и Фридриха Дюрренматта, а также Торнтона Уайдлера, Теннесси Уильямса, О'Нила, Жироду, Клоделя и Сартра — изысканная смесь лучших драматургов, немецких и зарубежных, «вечных» классиков — Шекспира, Мольера, Гёте и Шиллера, и «младших» братьев — Стриндберга, Ибсена, Гауптмана, Шоу и — раз в сезон — обязательно «русская позиция», которую обычно держали Гоголь, Толстой, Островский, Горький, и дважды до 1945 г. — Чехов89.
До 1949 г. Чехова довольно часто ставили в Берлине, а также в Вене, Мюнхене, Дюссельдорфе и других городах в провинции, вплоть до Грейца, Тюбингена, Констанца. Однако успехом пользовалась только постановка «Чайки» Густава Грюндгенса в Дюссельдорфе90: «высокохудожественный концерт, которым дирижировал маэстро Грюндгенс»91. Когда 12 лет спустя Ганс Шалла поставил эту же пьесу на сцене Бохумского театра, раздраженный критик сердито написал: «Последний чеховский вечер состоялся в Рейнланде 10 лет назад; он назывался «Чайка» и поставил его Густав Грюндгенс»92.
Отзывы на постановки трех больших драм Чехова, поступавшие из Берлина, свидетельствуют не только об изменении взглядов публики и театральной критики, но и об общеполитическом климате: в 1945 г. — «Дядя Ваня» в «Дойчес театер», в 1947 г. — «Вишневый сад» и в 1949 г. — камерная постановка «Чайки» там же93. «Дядю Ваню» критика единодушно приветствовала как удивительно своевременную постановку. Пьесу связывали с собственной вынужденной бездеятельностью в период гитлеризма. Несколько «слабокрылую» «Чайку» приняли сдержанно. В 1947 г. в рецензиях на «Вишневый сад» появились уже политически полярные оценки.
Западноберлинская газета «Тагесшпигель» писала: «Имение продается с аукциона... вишневый сад переходит к сыну бывшего крепостного, а старые владельцы разъезжаются по свету. Все это не может служить поводом для того, чтобы показывать такое множество вариаций нежизнеспособности, пассивности и разочарованности русских на определенном этапе исторического развития их общества, который давно уже отошел в прошлое. Вишневый сад становится символом юности, умершей любви, разбитых идеалов, бесплотных призраков, всего того, с чем каждый из нас рано или поздно прощается. Постановка не затронула внутреннего ядра комедии, она целиком основана на внешнем драматургическом содержании. Особенно наглядно это проявилось в образе студента: режиссер сделал его бунтарем, одержимым проповедником нового счастья; хотя он так же неспособен воплотить свои идеи в жизнь, как и остальные, как и они, он бессилен перед жизнью и судьбой»94.
В 1947 г. газета «Нойес дойчланд» писала: «Чехов был непримиримым врагом декадентствующей аристократии и мещанствующего филистерства, врагом тупости и реакции». Далее следует переход к Горькому, признанному основателю социалистического реализма: «Он, как и Горький, боролся с декадентами, защищая право человека на высокие благородные мечтания во имя прогрессивного преобразования жизни. Но Чехов решительно отвергает такие мечтания, которые служат лишь трусливым бегством от противоречий и сложностей действительности. Грандиозные заслуги революционного писателя Чехова заключаются в понимании им необходимости коренных общественных перемен. Поэтому он был и остается интересным не только своим современникам и соотечественникам, но и нам»95.
Чтобы понять положение на книжном рынке, можно сравнить два серьезных сборника Чехова, которые вышли сразу после войны (не считая множества маленьких сборников юмористических рассказов Чехова): один из них вышел в Цюрихе, другой — в Лейпциге.
Цюрихское издательство «Манессе» выпустило сборник «Лучшие новеллы Чехова». Это был один из первых томов ныне знаменитой серии «Библиотека мировой литературы». Составителем его и автором послесловия был русский писатель, живущий в Париже, Иван Шмелев96. Он пишет о религиозности Чехова, которая всегда глубоко коренится в русской душе: «Литература — это служение и при этом, служение религиозное. Поэтому творчество Чехова так тесно связано с народной душой. Как и народ, он — всегда мыслитель, всегда искатель, он пишет сердцем, и поэтому пишет поэтически-религиозно, в смысле Достоевского. Чехов чтит ту «правду», которая кроется в народной душе и о которой говорил Достоевский на открытии памятника Пушкину»97. Такое понимание творчества Чехова, его религиозности идет даже дальше Мережковского. Во времена аденауэровской реставрации оно получило самое широкое распространение.
Другой сборник «Лучших новелл Чехова» вышел в 1947 г. в лейпцигском издательстве «Дитерих». Его составил славист Рейнхольд Траутман, а в 1949 г. он дополнил его сборником «Новые рассказы Чехова»98.
Уже в 1946 г. Р. Траутман написал эссе «Чехов-новеллист99, где предпринял попытку освободить писателя от приставших к нему традиционных ярлыков и клише. Траутман бережно и осторожно определяет Чехова как реалиста. Но действует он не так идеологически открыто, как некоторые слависты ГДР или В. Ермилов (монография Ермилова о Чехове вышла в 1949 г., а два года спустя ее уже читали в ГДР100). Траутман предуведомляет: «Чтобы никого не разочаровать и не создать ложных представлений о предмете, хочу сразу предупредить: Чехов не был другом массы и толпы... Он был последовательным почитателем западной культуры и поэтому выраженным индивидуалистом». Траутман пытается защитить Чехова от старых упреков, что у него, де, «нет рецепта от превратностей судьбы». Траутман пишет, что «неправомерно требовать от художника решения проблем; его задача заключается в том, чтобы описать увиденное и пережитое»101.
Работа Траутмана о Чехове в то время мало кому знакома в Западной Германии. Но зато сборник, который он составил, выдержал до 1970 г. 5 изданий (тиражи сборника издательства «Манессе» не идут с этим ни в какое сравнение).
Стоит упомянуть и о том, что в эти же годы Хильда Ангарова заново перевела четыре больших драмы Чехова. Они вышли в 1947 г. в Москве в издательстве «Иностранная литература»102: только 13 лет спустя в Западной Германии появилось аналогичное издание драм Чехова. Пьесы Чехова в переводе Хильды Ангаровой неоднократно играли на сценах западной Германии.
Невзирая на все различия, все идеологические, культурно-политические, эстетические противоречия, несмотря на политику раскола, у нас имеются веские причины не выпускать ГДР из поля зрения нашего исследования, особенно если речь идет об издательской деятельности, или конкретнее, об изданиях русской классики.
Сразу после окончания войны победители развернули бурную издательскую деятельность, которая протекала параллельно работе немецких издательств и шла под знаком денацификации. Помимо политического просвещения эти издательства давали немецким читателям возможность ознакомиться с собственной современной литературой, а кроме того, и с классической литературой. В советской зоне — с Пушкиным, Лермонтовым, Горьким и Н. Островским. Позже издательства ГДР взяли эту задачу на себя: западногерманские издательства не могли конкурировать с ними в выпуске русской классики (особое место занимает издание Достоевского, выпущенное мюнхенским издательством «Пипер»).
Даже в годы холодной войны в Западной Германии можно было раздобыть книги из ГДР. Они были, к тому же, еще и очень дешевыми из-за низкого курса марки ГДР. Всегда существовала информация о новых изданиях, хотя и несколько односторонняя: с Востока на Запад. Тем, кто интересовался русской литературой, часто ничего другого не оставалось, как воспользоваться этой возможностью: на западном рынке подобные издания отсутствовали.
Когда отношения между ГДР и ФРГ стали улучшаться, книги из ГДР смогли распространяться в ФРГ официальными путями. Например, двухтомник Чехова, составленный Р. Траутманом: в 1958 г. «Научное книжное общество Дармштадт» купило на него лицензию. В конце 70-х годов издательство «Инзель» сделало на его основе трехтомное карманное издание.
В Федеративной Республике не было ни одного издательства, которое так систематически, энергично, так целеустремленно и самозабвенно посвятило бы свою деятельность изданию произведений Чехова, как издательство «Рюттен и Лёнинг» (Берлин, ГДР). Это издательство постаралось подарить немцам нового Чехова. Работа растянулась на два десятилетия, с 1949 по 1969 год. Из ГДР пришло тогда в ФРГ первое полное собрание сочинений Чехова. Шел 1968-й год.
Следующий этап «немецкой истории» Чехова (1949—1963) целиком посвящен его прозе. Чехову-драматургу отводится скромное место в репертуарах немецких театров. Он проходит там по разделу «Классика XIX века» под рубрикой «Русская литература». Главной особенностью его творчества считают «русскую душу», каждый волен понимать под этим, что хочет.
Эта тенденция сохраняется до середины 1960-х годов. В 1960 г. уже наметились кое-какие предпосылки для перелома в отношении к творчеству Чехова. К этому времени было подготовлено самое полное издание Чехова на немецком языке. Западногерманских читателей и зрителей тоже порадовали кое-какими новинками: новыми переводами и новыми постановками Чехова; нельзя не вспомнить и о том, что к началу театрального сезона 1960/61 гг. вышел первый номер журнала «Театер хойте», которому предстояло сыграть важную роль в «деле Чехова». Но все-таки мы не можем назвать 1960 год — годом коренных перемен.
Пьесы Чехова довольно быстро исчезли из репертуара театров ГДР, и в этом есть своя логика: пьесы «Дядя Ваня» и «Три сестры» вряд ли соответствовали лозунгам тех лет, призванным формировать социалистическое сознание. К тому времени в ГДР еще не успели стилизовать Чехова; он еще не стал «певцом рассвета, утренней зари»103.
Анализируя репертуары берлинских театров в 1948 г., Герберт Йеринг писал: «Русские и советские пьесы — благородный материал как для режиссеров, так и для актеров». «Театральные возможности» Чехова Йеринг ограничивает: «Чехов требует очень точного подбора актерского ансамбля, так как воздействие его пьес на зрителей носит более спокойный характер»104. Но в те времена ни на Западе, ни на Востоке не нуждались в «тихом воздействии». В 1950-х годах в репертуар «Дойчес театер», расположенного в восточной части Берлина, вошли 4 постановки Горького, 2 постановки А. Островского, 1 постановка Гоголя и 4 постановки современной советской драматургии — и всего лишь одна постановка Чехова105.
На сценах театров ФРГ, Австрии и Швейцарии Чехова тоже время от времени играли, даже, может быть несколько чаще, чем раньше. Вероятно, чтобы утолить голод публики по классике и «русским краскам». В репертуарной статистике Чехов обошел Гоголя, Горького и Островского106.
В 1961 г. берлинский театральный критик Фридрих Луфт выпустил собрание своих рецензий107 и не включил в него ни одну рецензию на берлинские постановки Чехова. Когда Хеннинг Ришбитер составлял сборник критических статей Альберта Шульца-Веллингхаузена, он выделил небольшой уголок и под русскую драматургию, куда вошли две рецензии на постановки Чехова в Рурской области108. В 1958 г. Эрнст Шумахер озаглавил свою рецензию на мюнхенскую постановку «Дяди Вани» «Дядя Лишний»109. Он объясняет это следующим образом: «Сегодня невероятно сложно поставить и играть Чехова <...> У нас уже иное ощущение жизни, чем у Чехова, поэтому мы стали друг другу чужими». Шумахер делает из этого вывод, что надо всячески стараться понимать Чехова «исторически»: «Из контекста его, а не нашего времени»110. А Вольфганг Древс решается утверждать, что «чеховские персонажи утратили свою актуальность»: «драматические эллегии, славянские меланхолии, атмосфера судеб растерянных и растративших себя людей. Стихотворения в виде драм. Один шаг — в сторону, потом два шага вперед»111.
На немецкоязычных сценах оставались «вечные классики» и современная немецкая драматургия: Цукмайер, Брехт, Вайзенборн, Макс Фриш и Фридрих Дюрренматт. Но в целом в репертуарах доминировали еще малоизвестные «современные классики»: американские — О'Нил, Т. Уайльдер, Т. Уильямс, А. Миллер; из Англии — Пристли, Т.С. Элиот; из Франции — Ануй, Жироду, П. Клодель. К этому добавилась экзистенциалистская драматургия Сартра и Камю; потом пришли и «абсурдные пьесы» Э. Ионеско и С. Беккета. Позже выяснится, что театр Беккета сыграл весьма существенную роль в деле «возрождения» Чехова.
Критик Зигфрид Мельхингер обратил внимание на этот парадокс только в 1968 г.: «Совершенно очевидно влияние Чехова на американскую драматургию». На Бродвее только в 1929 г. шло пять постановок Чехова; Артур Миллер, как, впрочем, и Шоу, открыто называл себя учеником Чехова. Роберт Тейлор в своей книге «Яростный театр» неоднократно указывает на то, как «непрямые», опосредованные драматургические приемы Чехова влияют на современную английскую драматургию, на Пинтера, Ардена, Мортимера, Вескера. В 1961 г. французский журнал «Артс» назвал Чехова «самым играемым автором года». «Мы поняли, какое влияние оказал Чехов на Джойса, на Пиранделло, — говорилось в журнале, — Жироду и Ануй сплошь и рядом учатся у Чехова. Мориак сравнивал его с Моцартом. Имело бы смысл исследовать влияние Чехова на Беккета»112.
Немцы достаточно поздно обратили внимание на эти взаимодействия, взаимовлияния и творческий обмен. Они узнавали мастера через обширный круг его учеников, долго довольствовались копиями с доступным для них колоритом, прежде чем заинтересовались оригиналом.
Среди театральных деятелей тех лет было и исключение — Гейнц Гильперт. Он вновь и вновь обращался к Чехову после первого большого успеха «Вишневого сада» в «Дойчес театер» в 1938 г. И ставил он почти исключительно две последние драмы Чехова: в 1947 г. — «Вишневый сад» в «Штадттеатер» в Констанце; в 1954 г. — «Вишневый сад» в Геттингене; в 1956 г. — «Три сестры» в Базеле и Геттингене, в 1958 г. «Дойчес театер» пригласил Гильперта, чтобы он опять, двадцать лет спустя, поставил там Чехова («Три сестры»); за этим в 1961 г. последовала «Чайка» в Геттингене, в 1962 г. «Вишневый сад» в Дармштадте и, наконец, за несколько месяцев до его смерти, в 1967 г., — «Три сестры» в мюнхенском «Резиденцтеатер».
Постановки Г. Гильперта преследуют одну единственную цель: верность оригиналу. Их отличают юмор, берлинское трезвомыслие, музыкальность. «Мы пытаемся во имя самого писателя увидеть мир его глазами... Мы стремимся к самому произведению, а не к его толкованию», — так уже в 1938 г. Г. Гильперт писал о своем понимании задач режиссера. «Чистое выражение драматического произведения путем чистейшего воплощения персонажей в чистейшем их ансамбле отводит режиссеру его настоящее место — полную анонимность»113.
Свою рецензию в «Зюддойче цайтунг» на последнюю постановку «Вишневого сада» Гильперта в 1967 г. Йоахим Кайзер озаглавил: «Чехов: сдержанный, правдивый, волнующий». Нечасто в зале «Резиденцтеатер» царила «такая тишина сочувствия», как в тот вечер. «При этом в постановке не было и намека на блеск, на твердость, на отточенность, которая губит импровизацию. Да, он отказался даже от выигрышного подчеркивая тихого, болезненного, сладкообнадеживающего. Актеры Гильперта говорили неожиданно сочными голосами. И тут он был прав, так как, во-первых, он таким образом создает определенную высоту падения для мещанских душ персонажей этой пьесы, а не топит их сразу же в меланхолическом потоке слез; во-вторых, в отличие от других интерпретаций, ощущение печали рождается здесь не от того, что актеры печально говорят или печально играют. Печаль в постановке Гильперта — это результат противопоставлений, высказываний и одиночеств... Гильперт сознательно не хотел экспериментировать с пьесой и модернизировать ее. Он хотел «просто» сыграть ее верно и выдержанно. Но одновременно он смог показать, как в конце провинциальный город, в котором и остаются только три сестринские души, превращается в символ беккетского ада»114.
Следует назвать и режиссера Петера Шароффа115, поставившего на немецкоязычных сценах две пьесы Чехова, которые остались в памяти у зрителей: в 1956 г. — «Три сестры» в венском «Фолькстеатер» и в 1958 г. в дюссельдорфском «Шаушпильхаус» — «Вишневый сад». Шарофф живо отстаивал точку зрения, что «Чехов был оптимистом». В отличие от Гильперта, который, скорее, вытеснял комедийные элементы из пьес Чехова, Шарофф, напротив, старался подчеркнуть гротеск надломов и комичность положений у Чехова. Постановки Шароффа также единодушно признаются вершинами ансамблевой игры.
Мережковский уже в 1907 г. рекомендовал: «В Чехова нужно вглядываться внимательно». Лейпцигский славист Р. Траутман сформулировал задачи для следующего этапа «немецкой истории» Чехова: «Литературный портрет Чехова, нарисованный в Германии несколько десятилетий назад, сейчас уже потускнел и побледнел: его должен заменить другой, более достоверный, который опирался бы на хорошее знание фактов и соответствовал бы непреходящему значению великого писателя»116.
Траутман решил лучше познакомить немецких читателей с творчеством Чехова и выпустил двухтомную антологию его произведений. Издательство «Рюттен и Лёнинг» подхватило эту идею. В 1949 г. там начали издавать собрание сочинений Чехова. В анонсах писали: «Мы приступили к новому изданию прозы и драматургии Чехова, гуманиста, борца за достоинство нового человека. Мы печатаем переводы Йоханнеса фон Гюнтера, глубокого знатока русской классической литературы»117.
Том 1-й этого издания — «Юмористические рассказы», за ним в 1952 и 1955 гг. последовали два тома — «Малые романы»; в 1955 г. вышли также том «Драм» и два тома «Рассказов». В 1958 г. вышел том писем Чехова (420 страниц). Газета «Франкфуртер рундшау» в 1960 г. сообщала своим читателям: «Мы получили самое полное на сегодняшний день собрание сочинений Чехова на немецком языке. Готовится первый полный перевод «Путешествия на Сахалин». Над переводом работает Герхард Дик»118.
И действительно, «Остров Сахалин»119 вышел в том же году. Теперь Чехов был представлен на немецком языке так полно, как никогда прежде. И наши следующие замечания тут ничего не изменят.
В этом издании проводится разделение по литературным родам, а прозаические произведения подразделяются еще и по жанровым признакам на рассказы и «малые романы» (повести). Однако в издание не вошел целый ряд очень важных поздних рассказов Чехова: например, «Невеста», «Архиерей», «В овраге», «У знакомых», «На подводе», «Печенег» и другие, а главное — «Рассказ неизвестного человека».
В этом издании нет комментариев. Вместо них читателям предлагается послесловие Армина Г. Кукхофа, в котором он с точки зрения идеологии интерпретирует творчество Чехова, т. е., иными словами, пересказывает монографию В. Ермилова о Чехове120.
Некоторые тексты вошли в это издание с сокращениями. Письма, например, сокращали до отдельных «важных» высказываний, в которых наиболее ясно проявилось мировоззрение Чехова, его взгляды на искусство, творчество. В предисловии к «Острову Сахалин» (кстати, в этот же том вошли также заметки «Из Сибири») Г. Дик объясняет читателям: «Для этого издания мы несколько сократили путевые заметки «Остров Сахалин». Сюда не вошли статистические и биографические данные, таблицы, а также целый ряд примечаний. На сегодняшний день эти данные для нас не столь существенны, а «читабельность» произведения значительно улучшилась»121. Позже Г. Дик отказался от этого издательского принципа.
Но главный недостаток этого издания — само звучание немецких текстов, т. е. переводы Йоханнеса фон Гюнтера. Переводы эти, несмотря на непререкаемый авторитет Гюнтера, довольно сомнительного свойства. Неизвестно, заметили ли это позже и в ГДР, но с 1958 г. произведения Чехова стали выходить в издательстве «Рюттен и Лёнинг» в переводах Ады Книппер и Герхарда Дика. Эта дата означала принципиальную «смену караула».
Если вначале издательства ГДР вынуждены были использовать переводы, сделанные раньше, иными словами, заливать старое вино в новые меха, то где-то с 1955 г. к работе приступает новое поколение славистов. Они не поленились проверить качество старых переводов, отложить неудовлетворительные и заменить их новыми. За этим последовала глобальная ревизия «Собрания сочинений», которую возглавил Герхард Дик и Вольф Дювель122. Это издание было потом полностью переработано.
В те годы западногерманским издательствам нечего было противопоставить этому изданию. Обратимся к таким издательствам, как «Ровольт», «С. Фишер», «Зуркамп». После изобретения карманных изданий и вступления в век массовой продукции, что привело к революции на книжном рынке, эти издательства продолжают оставаться в центре внимания литературной общественности. Их каталоги отражают издательскую продуктивность во многих областях литературы, за исключением Чехова. Даже в каталогах традиционных издателей классиков, таких, как «Артемис», «Винклер», «Индель», а позже и «Ханзер», мы бы тщетно искали имя Чехова.
Никто из выпускавших карманные издания не позаботился о Чехове — ни «Ровольт», ни «Фишер», ни другие. Исключение составляет только мюнхенское издательство «Гольдман». С 1954 г. там начинают издавать серию «Желтые карманные издания», ядром которой стала русская литература. Первыми вышли «Русские рассказы о любви» Достоевского и «Юмористические рассказы» Чехова123. Однако других сборников Чехова там издавать не собирались. Кроме того, эта серия пользовалась не лучшей славой по части качества переводов и обращения с текстами.
Что касается западногерманской истории Чехова в целом, то в 1950-е годы примечательно следующее. В 1959 г. издательство «Фишер» решило заново осмыслить каноны мировой литературы и выпустить карманными изданиями 100 томов «Fischer exempla classica». Широкой публике за низкие цены предлагали 100 «вечножителей» мировой литературы. В этой программе были представлены почти все великие русские литераторы XIX в.: Пушкин, Лермонтов, Гончаров, Тургенев, Гоголь, Толстой, Достоевский, даже Лесков. Чехова среди них не было.
Тем выше мы должны оценить очередную попытку издать собрание сочинений Чехова, которую предпринял в 1950 г. венский переводчик и критик Рихард Гофман. Немецкие читатели 1920-х годов обязаны Гофману многими новыми переводами и публикациями важнейших рассказов Чехова. В 1950-х годах Гофман переработал свои старые переводы, которые давно уже исчезли из продажи, дополнил их непереводившимися ранее рассказами, составил сборник (объем 1135 страниц)124 и предложил его издательству «Курт Деш», переиздававшему тогда классиков мировой литературы.
Но издательство «Деш» было еще новичком в этом деле. Книги серии «Деш классикер» больше походили на книжные макеты в мебельных магазинах: настолько помпезно они были оформлены, ну прямо под стать гостиным времен «экономического чуда». Это издание Чехова как-то не дошло до серьезных читателей. А жаль, так как на тот момент это была единственная серьезная попытка взглянуть на творчество Чехова как на некую целостность, и взглянуть на нее по-новому, другими глазами. Гофман не включил в свой сборник почти ничего из ранних юмористических рассказов. Он делает основной упор на зрелую позднюю прозу. Естественно, ограниченный объем в 1100 страниц требует жертв; его рамки очень узки, а потому провалы особо чувствительны. И тем не менее в сборнике Гофмана есть тексты, которых не хватает даже в многотомном издании «Рюттена и Лёнинга», к примеру: «В овраге», «В родном углу», «Супруга», «Моя она», «Именины». Гофман включил в сборник всего несколько пьес Чехова125, но среди них первый перевод одноактной пьесы «На большой дороге».
Кроме того, или, лучше сказать, прежде всего, переводы Р. Гофмана задавали другой, более свежий и точный филологический тон, чем переводы Гюнтера. Это весьма существенно, так как в этот момент происходил следующий парадокс: в то время как издательства ГДР отходили от переводов Гюнтера в поисках новых, на западногерманском книжном рынке его переводы стали преобладать. Где бы ни «появлялся» Чехов в ФРГ, это почти всегда связывалось с именем Йоханнеса фон Гюнтера.
Это относится к редким сборникам, которые выходили в маленьких провинциальных издательствах, а также и к книгам Чехова, которые последовали за первым карманным изданием у «Гольдмана», это касается также и сборников, выпущенных издательством «Реклам» в Штутгарте. Когда на книжном рынке повсеместно началось триумфальное шествие карманных изданий, «Реклам» утратил свою монополию на дешевые издания классической литературы; эти издания Чехова той поры являют собой и поныне образцы отсутствия общей идеи и беспомощности126. Это проявляется не только в «случайном» подборе произведений для сборников, но и в том представлении о Чехове, которое сообщают широкому кругу читателей короткие послесловия этих книжонок.
В своей диссертации 1955 г. Г. Дик сопоставляет господствующие представления о Чехове у массового читателя ФРГ с некомпетентностью и плохой осведомленностью западногерманских специалистов по Чехову; Дик, скорее, вежливо преуменьшает последнее: «В этой области мы можем наблюдать реставрацию частично устаревших представлений, которую теперь нельзя уже извинять недостаточным знанием материала. Если для русских эмигрантов предпочтительнее обволакиваться «сладкой грустью», чем признать результаты современных исследований источников, то это, по крайней мере, можно объяснить особенностями их частной судьбы. Но если немецкие авторы, Гюнтер, Леттенбауэр и другие, все еще говорят о Чехове, употребляя старые вокабулы, такие как «пессимизм», «тоска», «безысходная печаль» и пр., устаревшие уже к концу 30-х годов, то сегодня мы не можем уже расценивать это как выражение личного субъективного мнения, а только лишь как результат объективной неосведомленности»127.
С неосведомленностью, на которую намекает Дик, мы столкнемся например, в очередной книжке издательства «Реклам». В послесловии к ранним юмористическим рассказам (послесловие озаглавлено «Дырка в мешке»!) читаем: «Его (Чехова) называли «поэтом тьмы» и «поэтом сумерек», «любящим пессимистом», были еще и другие определения. В общем и целом, это соответствует действительности: тень легкой грусти падает на его творчество. Знание людей и глубокая человечность подарили нашему поэту меланхолическую улыбку всепонимания и всепрощения»128.
Автор послесловия продолжает свои спекуляции, ссылаясь на воспоминания И.А. Бунина, что Чехов в последние годы жизни говорил о мечте Вари («Вишневый сад») уйти в монастырь как о самом ее заветном желании129. Так вот, «эти слова нельзя считать просто старческой слабостью, потому что глубоко скрытая любовь вновь и вновь толкала Чехова к изображению жизни духовенства. В двух его последних рассказах описывается пасхальная ночь в русском монастыре на берегу большой реки и кончина архиерея. В других рассказах затронуты многие периферийные религиозные проблемы. А любимый рассказ Чехова, «Студент», — это воистину религиозная поэзия»130.
«Любящий пессимист с меланхолической улыбкой» — вне всякого сомнения, продолжение штампов 1920-х годов. А вот образ глубоко, хоть и бессознательно религиозного Чехова, верующего атеиста — это достижение эры Аденауэра. Этот образ не так уж и нов, еще перед войной эмигрант Н. Арсеньев говорил о религиозных наклонностях Чехова131; но такая характеристика теперь стала закономерным продуктом эпохи. В католико-реставрированной затхлости эры Аденауэра, легко перенявшей антикоммунизм нацистов, религиозный русский считался положительным противовесом советскому человеку — атеисту и служил как бы доказательством победы над политической системой. На этой почве процветали спекуляции о бессознательной религиозности Чехова, тем более, что в нее верили русские эмигранты132, в ФРГ же никто не мог перепроверить источники: не было компетентных критиков, отсутствовали научные, достоверные издания, в издательствах не было специалистов, которые могли бы опровергнуть попытки таких стилизаций. А про письма Чехова, которые процитировал Мережковский в своем эссе 1906 г., забыли, как и про самого Мережковского, который никогда бы не отважился на подобную фальсификацию133.
Памятный 1960-й год — год 100-летия со дня рождения Чехова примечателен тем, что общественность стала уделять Чехову несколько больше внимания, но, что касается западногерманской общественности, то коренной поворот в этом вопросе для нее еще не наступил.
Все крупные газеты в той или иной форме откликнулись на юбилей Чехова, напечатав его фотографии и биографии, ранние юмористические рассказы или сообщения о том, как празднуют его юбилей в Советском Союзе. Примечательно, что именно журнал «Вельт», флагман Шпрингера, напечатал статью, где было предложено пересмотреть сложившиеся представления о Чехове. В этой статье явно звучат отголоски «Слова о Чехове» Томаса Манна (1954), которое было хорошо известны и на Западе134.
Литературный критик Марсель Рейх-Раницки хоть и называет Чехова «самым грустным из юмористов мировой литературы», но тем не менее уводит его далеко от эпитетов «тоска, меланхолия и атмосфера конца света». Рейх-Раницки указывает на требование Чехова, чтобы писатели были такими же объективными, как химики, требование, «которому сам автор, к великому счастью, никогда не следовал»: «Мы чувствуем сострадание всякой твари, даже грешникам. В конокрадах, пьяницах, обманщиках и бюрократах он видит жертвы времени и социальных отношений».
Критик соотносит Чехова с великими, с гигантами русского романа: «Другие русские писатели стонали, кричали, проповедовали — он же только шептал». Раницки нашел преимущества в том, что «проза Чехова не являет собой философской системы»: «Едва ли сегодня у кого-нибудь хватает терпения на пространные размышления по аграрному вопросу в блистательной «Анне Карениной», которые мы вынуждены читать. А с какой охотой мы бы от них отказались! У Чехова же не надо ничего сокращать». Наверное, поэтому пьесы и рассказы Чехова и «не утратили своей свежести, что он с умной скромностью не предлагает решений больших проблем России. Свою задачу он видел <...> в постановке вопроса и определении диагноза».
И, наконец, о пьесах: «Драматургия Чехова — это замечательная реалистическая критика общества <...> Но эти сцены из русской жизни рубежа веков все время перерастают в бесконечное. Так как они созданы настоящим поэтом, они становятся воплощением человеческого бытия. Ведь речь идет не только о том, что, например, в «Трех сестрах» изображена нищета русской провинции. Намного важнее, что в тоске сестер по Москве отражается вся тоска человека по лучшей действительности»135.
Здесь наметился новый взгляд на творчество Чехова, попытка увидеть и оценить его более трезво, с точки зрения нашего сегодняшнего дня, забыв о повторяющихся цветастых штампах. Но не стоит думать, что такого рода суждения сразу же закрепились в сознании литературной критики. Примечательно также, что Рейх-Раницки в нескольких предложениях глубже охарактеризовал драматургию Чехова, чем славист Светлана Гейер в информативном послесловии к сборнику драм издательства «Ровольт» (1960). Как и сборник «Рюттена и Лёнинга» (1955), драматургия Чехова представлена здесь монолитно, и как таковая впервые стала доступна широкому кругу читателей ФРГ136.
В том же году и в том же издательстве отдельной книгой вышла работа С. Гейер о Чехове, с уточнениями и сокращениями. (Ее дополнил перевод на немецкий язык монографии о Чехове Софи Лаффит137.)
В этой работе много неточностей, масса фактических ошибок из-за перевода с французского она еще и увеличилась. Эта монография повинна во многих ошибках и полуистинах, которые позже встречаются у критиков и литературоведов.
Помимо нескольких постановок в известных театрах138 и в провинции, о которых, правда, нам известно немного, в празднование юбилея Чехова включилось новое средство массовой информации: в январе 1960 г. немецкое телевидение выпустило телеспектакль «Свадьба» в постановке Курта Горвитца. За год до этого Гурт Горвитц поставил эту пьесу и пьесу «Медведь» в мюнхенском «Резидентцтеатер».
Телевидению, поначалу мучительно искавшему свое собственное лицо и пытавшемуся не повторять язык театра, не очень-то везло с экранизациями Чехова. Однако именно телевидению мы обязаны изрядным числом известных постановок Чехова, которые, хотя и сохранились в записи, все же не могут заменить впечатления театрального представления, но которые познакомили с Чеховым несравненно более широкую публику.
В 1962 г. в мюнхенском издательстве «Эллерманн» в серии «Малая библиотека русской литературы», вышел сборник Чехова «Религиозные рассказы атеиста». Составитель — И. фон Гюнтер. Спустя год он выпускает там же «Собрание сочинений» Чехова в трех томах139. Сам Гюнтер называет это издание — между прочим, самое полное в ФРГ — плодом «более чем четырех десятилетий работы над творчеством этого русского писателя», «своеобразным итогом своей творческой жизни»140. Мы же можем назвать это издание вершиной литературного дилетантства и идеологического затмения.
Заслуги Гюнтера как посредника между русской классической и современной литературой и немцами велики, вне всякого сомнения. Они достойны самостоятельного и подробного исследования. Друг Гюнтера как-то сравнил его роль с ролью Жуковского в истории русской литературы141. В 1912 г. Гюнтер выпустил первую антологию современной русской лирики. И с тех пор он неутомимо и неразборчиво переводил все подряд: лирику, прозу, драматургию, почти целиком всю русскую классику, но также и многочисленных писателей рубежа веков, вплоть до 1920-х годов. Гюнтер превратился в некое учреждение, в непререкаемый авторитет хотя бы уже из-за количества переведенных и изданных им произведений. Его издание Чехова было «делом жизни» в ряду прочих дел.
Гюнтер принимал участие в переводе и составлении «Собрания сочинений» Чехова в издательстве «Рюттен и Лёнинг» (1949—1960). Он наверняка знал, хотя и не переводил сам, о дополнительных томах (письма, «Остров Сахалин»). И было, мягко говоря, самонадеянностью, когда он, «забыв» об этом издании, заявил западногерманским читателям по поводу своего трехтомника: «Мир не видел еще собрания сочинений Чехова, которое было бы более полным, чем это». Он, видите ли, сравнивает трехтомник с изданием Элиасберга, «которое составляет лишь 2/5 объема нашего трехтомника». Пытаясь закамуфлировать провалы в своей подборке, он сознательно вводит в заблуждение читателя, объявляет все произведения, не вошедшие в сборник, «ранними редакциями или драматическими поделками, от которых Чехов сам же потом отказался»142, и ссылается при этом на Томаса Манна и Ивана Бунина. В трехтомнике нет «Невесты» — несущественное произведение?; «Случая из практики» — Чехов отказался от этого рассказа? «На подводе» — неинтересный рассказ? «Супруги» — Чехов вычеркнул этот рассказ из списка? «Рассказа неизвестного человека» — малая величина?
Мы нигде не найдем ни единой ссылки на русское издание, по которому осуществлялся перевод. Стиль работы характеризует следующее утверждение автора: «Последнее русское 12-томное собрание сочинений, которое, правда, еще не полностью закончено, — настоящий всемирный поток из новых и дополнительных, по сравнению с предшествующими публикациями, текстов. Но после детальной проверки мы решили, что можем от них отказаться, тем более что сам Чехов считал их художественно несовершенными и не включал их в свои сборники»143. Здесь ничто не названо своим настоящим именем, все расплывается в тумане неясностей; но эта мешанина из замечаний, вводящих читателя в заблуждение, неправильной информации и авторитарного упрямства, которое никогда в себе не усомнится, порождает уверенность: это дело рук компетентного специалиста, который в курсе последних событий, добросовестного и точного.
На самом же деле, перед нами — стопка уже имевшихся ранее переводов. В издании «Эллерманна» не хватало тех же текстов, что и в издании «Рюттена и Лёнинга» (1949—1960). Элегантный трехтомник — дублет, с опозданием поданный западным читателям.
Хронологический порядок, о котором автор сообщает своим читателям, так и остается невыполненным обещанием. Тексты не снабжены комментарием и не датированы, поэтому никто не замечает, что хронология то тут, то там произвольно нарушается.
Послесловие Гюнтер заканчивает ссылкой на сборник «Религиозные рассказы атеиста», в котором автор отдал должное «религиозному содержанию творчества Чехова, значение которого обычно или преуменьшают, или забывают о нем»144.
Этой сомнительной интерпретации возразила только гамбургская газета «Цайт», поставившая над трехтомником большой знак вопроса145. Консервативные листки, например, «Франкфуртер альгемайне», восхваляли «классический перевод полного собрания сочинений», называли трехтомник «прекрасным монументом духа»146.
Осталось сказать еще о двух попытках современной теории драмы увидеть в драматургии Чехова не частность из главы о натурализме XIX в., а фундамент современной драмы. Занялись этим не слависты, а теоретик Петер Сцонди, а за ним Марианнэ Кестинг147.
В своем исследовании «Об эпическом театре» Кестинг характеризует диалог у Чехова как «невозможность взаимопонимания»: «Разговор делается пустым, становится абсурдным и приближается к тем монологам в пустоту, которые позже, в драмах Беккета, будут определяющим видом высказываний». Кестинг считал Беккета «последователем и наследником» тематики Чехова: «Беккет доводит эту тематику до ее последнего и благодарного предела. То, что выглядело у Чехова как усталость от жизни, отсутствие контактов, «выхолащивание» разговоров, бессмысленная деятельность, скука наконец, Беккет собирает в единый образ, который мы можем назвать «Fin de Partie», как его пьесу, или «Конец», как его рассказ»148.
Этот вывод подготовлялся работой П. Сцонди «Теория современной драмы», где он посвящает Чехову главу «Кризис драмы». Анализируя «Трех сестер», Сцонди указывает на следующее: «Персонажи Чехова живут под знаком отречения. Им в первую очередь свойственен отказ от настоящего <...> Отречение от настоящего — это жизнь в воспоминаниях, в утопии, отказ от встречи — это одиночество»149. Формально, пьесы Чехова также являются «отказом от действия, от диалога, самых важных формальных категорий драмы. То есть этот отказ от самой драматической формы соответствует двойному отречению чеховских персонажей». Автор обращает внимание на монологизированную структуру диалога у Чехова: монолог Андрея (с глуховатым Ферапонтом) возникает не из диалога; он возникает из его отрицания. Экспрессивность этих разговоров мимо-друг-друга коренится в болезненно-парадоксальном контрасте с настоящим диалогом, который таким образом отодвигается в утопию... Формальное вычеркивание беседы неизбежно приводит к эпичности. И поэтому чеховский глухой указывает в будущее».
Сцонди прослеживает эту мысль не только в эпическом театре в духе теории Брехта, он анализирует также «представление из-за невозможности драмы» (на примере Пиранделло), внутренний монолог (на примере Геббеля и О'Нила) и, наконец, «эпическое я», которое вмешивается в представление и руководит им (на примере «Городка» Торнтона Уайльдера и драм Чехова)150.
Оба автора имеют одинаковые посылки, а именно, опыт современного театра: Чехов начинал вызывать самый актуальный интерес, и не как автор уходящего XIX в., а XX, как основоположник театральной современности.
К концу 1960-х годов внутригерманский раскол сознания стал еще более заметен. Раньше многие немцы считали существование ФРГ и ГДР временным явлением. Когда в 1961 г. построили берлинскую стену, или, как называли это сооружение по его восточную сторону, «антифашистский вал защиты мира», оборвались все оставшиеся связи между этими государствами. Отчуждение достигло своей высшей точки. Раздел Германии воплотился в бетоне.
Но в ФРГ завершалась эра Аденауэра, в ГДР близилась к закату звезда Ульбрихта. Постепенно зарождались, формировались принципы нового общения друг с другом. И хотя после 1961 г. на Западе фактически игнорировали книжные новинки ГДР, потому что они были якобы трудно доступны, издательства ФРГ и ГДР постепенно начинают торговлю лицензиями. Это сыграло важную роль в истории Чехова на немецкоязычном Западе.
В 1964 г. в Берлине издательство «Рюттен и Лёнинг» начинает выпускать «Собрание сочинений» Чехова, заново составленное и в новых переводах151. Издание полностью завершили к 1969 г.: «Собрание сочинений в восьми томах». С 1968 г. в мюнхенском издательстве «Винклер» в известной серии «Тонкая печать» начинают выпускать «Собрание сочинений Чехова», приобретенное по лицензии у издательства «Рюттен и Лёнинг» и рассчитанное изначально на 4 тома (3 тома — проза и 1 том — драмы). В 1969 г. издание завершили, а в 1971 дополнили его двумя томами: «Письма» и «Остров Сахалин»152.
В ФРГ к тому времени постепенно назревает потребность в другом Чехове, особенно остро — в театре. Ее обосновывают постановочной практикой, с одной стороны, и сомнениями в качестве переводов имеющихся в наличии пьес, с другой. Два новых перевода попытались приблизить к нам Чехова: коллектив славистов университета города Киля под руководством Ульриха Буша153 и Сигизмунд фон Радецки, выпустивший в цюрихском издательстве «Диогенес» сборник «Драматические произведения Чехова»154.
Тогда уже наметилось смещение акцентов в пользу Чехова-драматурга, что подчеркивается в упомянутой диссертации К. Беднарца. Автор внимательно исследует все переводы пьес Чехова до 1969 г.
Для немецкоязычного театра первостепенно важны две постановки Чехова: в 1965 г. — «Три сестры», режиссер Рудольф Нёльте155, в 1968 г. — «Вишневый сад» Петера Цадека156. Оба спектакля были поставлены в Штутгарте в «Вюртембергишер штаатстеатер». Оба режиссера не использовали полностью ни один перевод, а играли по своим переработкам имевшихся переводов.
100-й выпуск журнала «Театер хойте» (декабрь 1968) начинается с утверждения: «Близится ревизия творчества Чехова»157. Статья Зигфрида Мельхингера в юбилейном выпуске озаглавлена вопросом: «Исказил ли Станиславский Чехова?»158. Тогда же выходит монография Мельхингера о Чехове, в которой впервые на немецком языке полностью исследуется вся драматургия русского писателя и из-за которой тоже впервые в Германии вспыхнул спор о Чехове.
Новый Чехов издательства «Рюттен и Лёнинг» (ГДР) представляет собой оптимальное решение того, что можно было сделать к концу 1950-х годов, опираясь на 20-томное издание ОГИЗа и новое 12-томное издание (1954—1957).
Здесь представлены все поздние повести и рассказы. Впервые по-немецки были опубликованы «На подводе» и «Рассказ Неизвестного человека»; впервые Чехова можно полностью прочитать с 1888 по 1903 г.159 Его ранние рассказы тоже представлены в этом издании шире, чем в предыдущих. Если прежние переводы оказывались неудовлетворительными, то специально для этого издания готовили новый перевод.
Том драматических произведений Чехова, в новых переводах Гудрун Дювель, кроме всем известных пьес, содержит еще и первую публикацию комедии «Леший»160. В общей сложности в него вошли восемь одноактных пьес, среди них новый перевод «На большой дороге», а также монолога «О вреде табака». Таким образом, в этот том не были включены, кроме фрагментов и ранних редакций монолога «О вреде табака», только «Татьяна Репина» и «Безотцовщина».
В это издание впервые вошел полный текст «Острова Сахалина», равно как и прилагающиеся к нему путевые заметки «Из Сибири». Кроме этого, здесь было несколько фельетонов Чехова и его «Литературные записные книжки».
Том писем был значительно дополнен; он содержит больше материала, чем раньше. Письма уже сокращают не так неожиданно резко. Из примечания составителя: «Мы сокращали то, что казалось нам менее важным, трудным для понимания, или то, что было уже выпущено в оригинальном издании». Эти сокращения все же огорчают и будят недоверие.
Оба тома, «Остров Сахалин» и «Письма», снабжены послесловием, необходимыми примечаниями и указателями: в «Острове Сахалине» — именной указатель, в «Письмах», помимо именного указателя, еще и указатель произведений Чехова и упомянутых органов печати.
Составители расположили прозаические произведения в строго хронологическом порядке; они уже больше не разделяют рассказы и повести. Каждое произведение снабжено коротким комментарием. Здесь же приводятся материалы из записных книжек Чехова, а также исторические и биографические справки, сообщаются сведения об истории публикации текста и даже — о других переводах данного текста на немецкий язык161.
Единственный недостаток этого издания — «новая, социалистическая трактовка образа Чехова» в предисловии и комментариях составителя Дювеля. Там, где это только возможно, он пытается изобразить Чехова «соратником русских социалистов в борьбе против общества эксплуататоров и царизма», гуманистом, «который ясно осознавал, что хорошее победит в жизни человека только тогда, когда будут устранены угнетение и эксплуатация и будут созданы новые, человечные условия жизни»162, или, как минимум, видит в нем «врага мещанства». Эта навязчивая тенденция снижает достоверность комментария, который, в целом очень хорош.
Мюнхенское издательство «Винклер» повторило это издание Чехова. Здесь те же тексты переводов и никаких сокращений в самих произведениях, которые расположены в том же порядке. Но все комментарии были вычеркнуты, а другими их не заменили.
В томе «Остров Сахалин» не было больше путевых заметок, фельетонов, не было и записных книжек, не было даже указателей. В томе «Письма» издательство оставило только примечания Г. Дика, но не послесловие; были сняты все указатели, что сильно усложнило пользование томом. Издательство отказалось от всего текстологического аппарата к томам прозы и драматургии, и даже оставленные примечания в страхе перед идеологической атакой энергично сокращаются.
Послесловие о жизни и творчестве Чехова напечатано в конце тома «Драматургия». Автор послесловия — Петер Редер, славист из Мюнхена. Его послесловие не может заменить отсутствие информационного аппарата163.
Интерес западногерманских читателей к изданию «Винклера» сохраняется до сих пор. Причем рассказы Чехова быстрее расходятся в книжных магазинах, чем, например, его драмы. Газеты же откликнулись на тома прозы Чехова лишь короткими заметками.
На книжном рынке к этому изданию добавилось «Полное собрание драматических произведений Чехова» (1968) в новых переводах Сигизмунда фон Радецки.
Судьба Чехова-драматурга в Германии предстает на страницах журнала «Театр хойте». Находясь вдали от перипетий книжного рынка, но зато непосредственно участвуя в театральных буднях ФРГ, этот журнал с середины 1960-х годов стал привлекать внимание публики к драматургии Чехова, учитывая изменения театральных мод и направлений и не закрывая глаза на важнейшие события международной театральной жизни. И когда в 1968 г. авторы журнала З. Мельхингер и Х. Ришбитер утверждали, что намечается ревизия творчества Чехова, сами они участвовали в ее подготовке. Невозможно подробно описать все этапы публицистической кампании за Чехова. Рецензии, сообщения, аналитические обзоры и дискуссии о Чехове, напечатанные в «Театер хойте» с 1960 по 1969 г. составили бы очень живую антологию, среднего объема.
После юбилейных годов (сезоны 1959/1960; 1960/1961) количество постановок Чехова опять сократилось до привычных цифр: с сезона 1962/1963 гг. опять преобладают постановки одноактных пьес; было поставлено только несколько больших пьес, из них едва ли найдется две-три запомнившихся постановки164.
Но «Театер хойте» не ставил вопрос о «количестве Чехова»; вопрос журнала начинался с «как»: как мы раньше видели Чехова? как мы его видели и как его следует играть? Действительно ли адекватны этому драматургу понятия тоска, растроганность, разочарование, жизненная усталость и скука, которые всегда связывались с Чеховым? Соответствует ли ему элегический театр настроений, когда немецкие актеры «изображали» русскую душу с помощью высоких сапог, косовороток и окладистой бороды? Не отдаляют ли от нас самовар и гитара, непременные атрибуты в постановках русских драматургов, чеховских персонажей?
Заслуга журнала уже в самой постановке вопроса. Настало его время, хотя у немецкого театра были тогда и другие важные проблемы: продолжалась дискуссия о Брехте, о принципах работы с классиками (как мы играем Шекспира? Мольера?), дискуссия о Беккете, серьезные споры об Ионеско, шел поиск современной немецкой драмы, которую, казалось, нашли у Рольфа Хоххута («Заместитель») и у Петера Вайса («Марат/Сад», 1964). В 1963 г. в Гамбурге завершилась эра Грюндгенса; началась захватывающая история бременского театра: там ставили свои замечательные спектакли Петер Цадек и Вильфрид Минкс. Намечалась смена поколений. Какую роль мог тут сыграть Чехов, если в 1965 г. критик из «Театер хойте» назвал устаревшими даже драмы Ибсена: «Сегодняшнему зрителю уже недостаточно чествовать в театре имена великих прошлого. Ибсен кажется им сухим, чужим и устаревшим»165. Почему же не устарел Чехов?
Интересно, что речи Мельхингера и Ришбитера в защиту Чехова не содержат ссылок на работу З. Якобсона «Ибсен и Чехов» (1918), в которой были уже сформулированы основные положения для такого сопоставления. Мельхингер нашел за рубежом целый ряд знаменитых свидетелей, чьи постановки Чехова вошли в историю театра: постановка «Вишневого сада» Жана-Луи Барро в Париже (1954); «Платонов» Жана Вилара (1965)166; Италия — Джоджио Штрелер в 1948/1949 гг. поставил «Чайку» и с тех пор вновь и вновь возвращался к Чехову, в 1955 г. он впервые поставил «Вишневый сад», а в 1959 г. — «Платонова»167; Швеция — Ингмар Бергман в 1961 г. поставил в стокгольмском «Драматен» «Чайку»168; Англия — Лоуренс Оливье в 1962 г. поставил «Дядю Ваню». В статьях о театральной жизни Англии часто слышны укоры немецким театралам. Например, статью М. Эсслина редакция снабдила таким комментарием: «Чехов как наивысший критерий. Его драмы для современного мирового театра — такой же пробный камень, как и драмы Шекспира. «Три сестры» Чехова очаровали многих великих режиссеров. В предыдущем журнале Е. Брок-Шульце сравнивал постановки чеха Отомара Крейчи и Рудольфа Нёльте. В этой статье Эсслина сопоставляются два спектакля по Чехову, которые (одновременно!) идут сейчас в Лондоне»169. Имеются в виду «Три сестры» Лоуренса Оливье в «Нэшинл» и «Три сестры» Вильяма Гэскилла в «Роял Коурт Тиатр», оба спектакля 1967 г.170
Постановки «Трех сестер» Рудольфа Нёльте (1964)171 и Отомара Крейчи (1966)172 снискали международную известность. Особенно последняя: в 1967 г. этот спектакль обошел почти все театральные столицы мира. Его неспокойный, почти захлестывающий темп ярко контрастировал с интерпретацией Нёльте.
В 1966 г. Вилли Шмидт поставил «Чайку» в мюнхенском театре «Каммершпиле». Южногерманская критика приняла спектакль очень сдержанно. Это послужило для журнала «Театер хойте» поводом впервые декларативно заявить о «деле Чехова»173. В статье «Опыты с Чеховым» В. Шмидт говорит не только от лица приверженцев Чехова: «Изображая человеческую несостоятельность критически, но участливо, иронично, но с нежной пунктуальностью, драматургия Чехова рождает глубокую симпатию к тщетности всех человеческих стремлений и потребность все-таки продолжать свои попытки. Мы должны это играть, несмотря на прохладную реакцию публики, потому что Чехову требуется свой собственный читатель, свой собственный слушатель. Его произведения говорят нам сегодня больше, чем когда бы то ни было, ведь мы недалеко ушли с тех пор, как он умолк»174.
В 1968 г. Петер Цадек опять появился в штутгартском «Штатстеатер», на этот раз со своей интерпретацией «Вишневого сада»175. Если сравнивать ее с выводами В. Шмидта, то нельзя не отметить сочность, витальность штутгартской постановки; она включала Чехова в контекст современности, отодвигая от него расхожие клише «русской души». В те годы Цадек и Нёльте были своего рода антиподами немецкого театра в «деле Чехова». А если иметь в виду дальнейшее развитие «дела», то следует сказать, что если постановка Нёльте имела большой успех, то постановка Цадека — далеко идущие последствия.
Обе постановки были спорными хотя бы по манере обращения с классическим текстом. Оба режиссера противостоят друг другу как в выборе эстетических средств, так и в своих теоретических высказываниях. Но оба они являются представителями направления, которое позже обозначат «театром режиссера»: пьеса подчиняется интерпретаторскому видению режиссера, приспосабливается к нему, подлаживается под него. Решающую роль играет теперь не сама пьеса, а представления режиссера о ней. Критики, которые считали краеугольным камнем верность оригиналу, испытывали с такими постановками определенные сложности, особенно с интерпретацией Нёльте176.
Хеннинг Ришбитер считает вмешательство Нёльте в пьесу Чехова необходимым, поскольку это дает ему «возможность раскрыть свое немыслимое представление о прерывистости, пустоте и ничтожности жизни»177. Ришбитер называет постановку Нёльте односторонней, а посему обреченной: «Правда, которую сообщает нам Нёльте на сцене, это не вся правда Чехова. Если мне будет позволена такая формулировка, то Нёльте сокращает Чехова до Беккета. Но этот сжатый в современность Чехов решительнее, требовательнее того, что мы раньше видели на немецких сценах. Я надеюсь, что радикальная хватка Нёльте обозначает новое начало в наших взаимоотношениях с драмами Чехова».
Перелистывая главы истории драм Чехова на немецкой сцене, Ришбитер приходит к выводу, что все предыдущие постановки несли в себе «слишком много настроений и мягкости, слишком много фольклора, слишком много «типично русского стиля», слишком много «театральности» и «слишком мало реализма». Интерпретация Нёльте не подходит под расхожие определения мира Чехова: здесь нам показывают не скептицизм, не меланхолию, не робкие чувства, — «навстречу зрителям сухо и неумолимо выступает нигилизм (трагическое мировосприятие). То, что говорит спектакль, едва ли можно вынести».
Но этим еще ничего не сказано о «богатствах» этой постановки, об удивительно организованном пространстве: о режиссуре света, о мастерском ведении актеров, о естественной правде разговора, лишенного театральных интонаций. Штутгартские «Три сестры» имели шумный успех. Это был «спектакль года», подробно отраженный в годовом альманахе «Театер хойте». Его показывали на Берлинских театральных встречах, после этого зарубежный обозреватель Эрик Бентли сформулировал свои впечатления для журнала «Театер хойте»: «Нёльте слишком навязчив. Он принадлежит к тем режиссерам, которые ни на минуту не дают забыть о своем присутствии. У него даже хватило смелости извратить текст «Трех сестер». А ведь у Чехова каждое предложение является необходимой частью структуры и видения его произведения. Если, как Нёльте, вырезать из финальной сцена разглагольствования Доктора, то это будет таким же болезненным вмешательством, как если бы мы вырезали все вульгарные вставки из трагедий Шекспира». Более того: «Нёльте изменил весь порядок сцен. Он обрекает пьесу не только на единство места, но добавляет еще и другое единство: единство настроения. Для того чтобы реализовать свое собственное представление о Чехове, он ищет и находит прибежище в самой типичной из всех распространенных ошибок: что пьесы Чехова якобы являются не чем иным, как выкрутасами отчаяния и поражения». Его постановка является «последовательно проведенным и в общем вполне понятным заблуждением», которое «удивляет своим качеством. Но это удивление, в отличие от большинства театральных неожиданностей, не исчерпывается в первые несколько минут, а держится до последнего занавеса. Если бы «Три сестры» были той пьесой, которую увидел в них Нёльте, то постановка была бы очень значительной». Потому что прежде всего: «Что бы ни говорили против интерпретации Нёльте — один из самых важных чеховских принципов он осуществил: такой драматургический материал удачнее всего выражается средствами, которые кажутся нам не драматическими — самое тихое оказывается в конце самым громким, самое нежное прикосновение порождает самые бурные последствия»178.
Петер Цадек почти три года спустя (между ними пролегли события «Трех сестер» Отомара Крейчи) почти с тем же ансамблем179 попытался найти другой путь: это уже не был путь тихой, но невыносимой правды, неизбежной безысходности, это был путь трезвомыслии. Цадек — режиссер, «на которого все колеблющееся, приглушенно-атмосферное, иллюзионистское, «станиславскиподобное» нагоняет ужас». «Вместо атмосферы — ее негатив; вместо суггестивной тяги — дистанцированная строгость, сдержанность; не исключение побочного действия, как у Нёльте, а его выделение, что «придает хрупкой, изящно сплетенной драматургии «Вишневого сада» сходство с оперой-серией»180. Цадек тоже исключил смену места действия, спектакль шел в одной-единственной декорации В. Минкса. У Цадека — никакого волшебства со светом; постоянный, ровный свет прожекторов, как в прозекторской. Вместо тонкого изображения характеров — склонность к их односторонней фиксации, учитывая при этом риск огрубления, обеднения персонажей. Трофимов — «уже будущий профессиональный революционер, неопрятный, грубый, невнимательный, в зимнем пальто, а не в студенческой форме». Образ Лопахина, «с его ощутимой тяжестью, непричесанной грубостью» вызвал у Ришбитера вопрос: «Не является ли Лопахин более богатым, дифференцированным персонажем? Не находится ли его чувство к Раневской, к ее близким в конфликте с его расчетом? Может быть, он более чувствительный, глубже осознает собственную разорванность? Не страдает ли и он тоже?».
Ришбитер приходит к следующему выводу: «Единственный доступ к пьесам Чехова <...> лежит, в конце концов, только в богатстве образов, созданных актерами. И как бы ни была продумана и оформлена постановка Цадека, в этом главном пункте она — шаг назад по сравнению со спектаклем Нёльте «Три сестры»»181.
Позже и Нёльте и Цадек повторили и усовершенствовали свои постановки182. Но «ревизия» Чехова продолжалась. Уже в марте 1968 г. Ришбитер получил для обсуждения две других постановки Чехова183. В связи с ними — лучше поздно, чем никогда — он поставил вопрос о переводах, представляющих Чехова на сцене184.
В том же году юбилейный (100-й) номер журнала «Театер хойте» начинался со статьи Мельхингера «Не извратил ли Станиславский Чехова?»185 В этом эссе, которое стало ядром вышедшей в конце 1968 г. монографии о Чехове186, Мельхингер впервые критически рассматривает взаимоотношения двух художников, имена которых привыкли называть у нас на одном дыхании: Чехов и Станиславский, — постановки Станиславского считались самыми чистыми, самыми аутентичными Чехову. Мельхингер прослеживает историю возникновения и развития представлений о меланхолично-разочарованном Чехове, начиная с театральной ситуации 1885 г., с постановочной практики и манеры игры МХАТа, и доказывает, что они не только были далеки от представлений Чехова о театре, но и противоречили им. Это противоречие касалось не только вопроса о том «как», но и затрагивало важные содержательные компоненты187. И именно это противоречие Мельхингер решительно и энергично вскрывает.
«Станиславский создавал театр настроений, и в его театре господствовало одно настроение («annui») — «скука». Но для Чехова настроение — всего лишь одни из элементов в ряду прочих, пусть даже он акцентирует его больше, чем все его предшественники-драматурги. «Annui» Чехова — полная противоположность тому, что из этого сделал Станиславский. У Чехова тут нет ничего плаксивого, трогательного, меланхоличного, элегического, сентиментального, такую «скуку» он ненавидит. Чехов близок нам еще и вот почему: «annui», которое Чехов вывел на сцену, лучше всего перевести как «пустота». Это настроение его эпохи, эта скука только внешне отличается от нынешней: от шума. Сознание пустоты парализует нас сегодня так же, как раньше. Она и ненавистна нам сегодня так же, как и раньше, потому что те, кого она коснулась, не хотят и не могут больше смотреть правде в глаза и делать правильные выводы»188.
На примерах сценического воплощения молчания Мельхингер показал, что Станиславский упустил центральные моменты чеховского театра. Во-первых, для Станиславского молчание — это эмоция, выраженная немой игрой: «Но Чехов считал такую «немую игру» тем же театром, хотя и несколько «другого рода», а такую «театральность» он и пытался избежать. Молчание, которое предписывает нам Чехов, — это прямая противоположность «немой игре». Это просто молчание, и ничего, кроме и помимо него». Во-вторых, знаменитая звуковая кулиса Станиславского, которая заглушает пустоту: «Чехов предписывает нам не иллюзионистские звуки, а драматургические. Они не «создают настроение», они «говорят». Например, звук лопнувшей струны в «Вишневом саде» — не случайная имитация действительности. Он входит в состав такого произведения искусства, где случайное всегда преднамеренно, где нет ничего лишнего».
И еще один мост в современность: «В структурах Чехова нет никаких излишеств, они очень строги; поэтому любое вмешательство может нарушить равновесие конструкции. То, что упустил Станиславский, перегрузив и без того концентрированные формы, упускают и современные режиссеры, когда они переставляют или вычеркивают сцены. Когда Чехов говорил «там же все написано», это означало не только, что нельзя вставлять ничего помимо этого, но и, что нельзя выбрасывать»189
Книга З. Мельхингера о Чехове, как и его статья в «Театер хойте», очень полемична. Автор объявляет себя приверженцем Чехова. Эта книга — не вялая научная проза, не монография, написанная в стиле «как то, так и». Мельхингер ставит свой предмет на один уровень с Шекспиром и древними греками и полон желания убедить в этом других. В этой книге приводится мощная, ясная и логично выстроенная аргументация, которая должна обеспечить Чехова новыми сторонниками. У книги есть два решительных недостатка. Причины одного из них можно объяснить методом исследования, манерой написания работы: Мельхингер, как и С. Лаффит, вплетает в текст цитаты Чехова, не ссылаясь на источники; поэтому в контексте аргументации соседствуют документы разных, подчас далеких друг от друга периодов, которые никак нельзя сводить в единый ряд. Второй недостаток — многочисленные неточности, возникающие вследствие тяжелого положения с материалами о Чехове. Мельхингер не знал русского языка, поэтому необходимую информацию он черпал из английских и французских публикаций и переводил их потом на немецкий язык. Наметанный глаз опытного театрального критика помог Мельхингеру правильно увидеть и оценить Чехова. Специалисты-филологи, знающие русский язык, но представляющие себе театр только понаслышке, до сих пор не смогли проделать подобную работу.
И наконец, в 1968 г. вышла удивительная книга Питера Брука «Пустое пространство»190. О Чехове там всего несколько фраз, но они очень существенны. Мельхингер перевел их для читателей журнала еще до выхода немецкого перевода книги191: «Легко ошибиться и назвать Чехова писателем-натуралистом. И действительно, некоторые «рыхлые и неопрятные» пьесы последних лет, именуемые «фрагментами из жизни», считают «чеховскими». Чехов никогда не создавал просто фрагментом из жизни — он был врачом, который бесконечно бережно и тщательно препарировал один жизненный слой за другим. Потом он их культивировал и подавал в очень хитроумном, совершенно искусственном и глубоко продуманном порядке. При этом часть его хитроумных уловок заключалась в том, чтобы настолько замаскировать собственную искусность, что результат казался бы нам картинкой, подсмотренной в замочную скважину, чем, на самом деле, она никогда не была. Каждая страница «Трех сестер» производит такое впечатление, будто жизнь развертывается как магнитофонная кассета, которую забыли выключить. Если внимательно исследовать пьесу, то можно заметить, что она состоит из случайностей на столько же, как у Фейдо, — упавшая ваза, пожарные, случайно оказавшиеся здесь в нужный момент; слово, перерыв, музыка вдали, шумы за кулисами, выход, прощание — все это шаг за шагом создает всеобъемлющую иллюзию жизни. Эта серия впечатлений одновременно является и серией отчуждений: каждый разрыв — хитрая провокация и призыв к размышлению»192.
Какой бы ни была база аргументации и каким бы ни был опыт ораторов, взявших слово на чеховских дебатах, одного нельзя было не заметить: тот Чехов, о котором здесь шла речь, был уже другим Чеховым, у него уже не было алиби писателя рубежа веков. Это был всемирно известный драматург, чье универсальное значение и удивительная актуальность постепенно стали входить в наше сознание. Было бы преувеличением, если бы я сказал, что дискуссия о Чехове в журнале «Театер хойте» открыла нам этого качественно нового Чехова и утвердила его в немецкоязычном театре. Однако не будет преувеличением сказать, что без тех импульсов, которые породила эта дискуссия, мы не смогли бы с такой остротой воспринять вызов, брошенный нам Чеховым. Это важно особенно для молодых режиссеров, впервые вышедших на сцену после 1965 г. Для них Чехов означал и означает наивысший масштаб, час откровения.
О различных переводах Чехова на немецкий язык и об их качестве — ведь должен же был в конце концов возникнуть вопрос: по каким же текстам мы предполагаем знать Чехова, на какую редакцию перевода ориентируются наши театры? — литературная общественность ФРГ заговорила на удивление поздно, и даже журнал «Театер хойте» обратил на это внимание уже в то время, когда дискуссия о Чехове была в самом разгаре, в 1968 г.
Это может показаться странным, если учитывать, что немцев и по сей день считают нацией самых прилежных переводчиков и что их театральный репертуар, как минимум, на две трети состоит из переводных пьес. Но тем не менее, эта ситуация не случайна. В разделах культуры и литературных приложениях крупных газет мы редко когда можем увидеть критические статьи о переводах, а в театральной критике мы их не встретим вообще. У нас не принято, чтобы театральный критик сообщал своим читателям, в каком переводе играют рецензируемую им пьесу; и если критик в одном предложении упомянет данный перевод или снабдит его каким-нибудь лихим эпитетом <...> то можно расценивать это как особую любезность с его стороны. Реплики, подобные, например, следующему замечанию театрального критика Вальтера Карша, можно считать исключениями: «Переводчик не указан. Но тот, кто им был, тоже отчасти виноват в том, что не все прозвучало так, как должно было прозвучать»193. Или, например, такое утверждение Ганса Вайгеля, известного переводчика Мольера: «Чехова сложно играть по многим причинам, среди прочего и потому, что русское назойливо вылезает на передний план и это нужно преодолевать. А, во-вторых, и потому, что переводы Аугуста Шольца настолько ужасны, что их давно пора заменить (мы благодарны Йозефу Гилену за то, как он проборонил и прополол «Вишневый сад», но сделал он это недостаточно радикально»194.
Х. Ришбитер писал в 1968 г.: «Для немецких сцен сложности начинаются с переводов». Его сопоставления переводов не очень подробны и убедительны только для тех, кому не доступен оригинал: «Самый распространенный перевод И. ф. Гюнтера, он же наиболее «гладкий» и устарелый. Сигизмунд фон Радецки, как и фон Гюнтер, обращал внимание на своеобразие русского оригинала, на интонации рубежа веков, но он переводит более близко к тексту, у него более сжатый стиль. Но наиболее приемлемый для сцены все же перевод Х. Ангаровой. Она сильнее в переводе фразеологизмов и метафор, точнее передает социальные дифференциации. Расхождения в деталях у этих трех переводчиков на удивление велики»195.
Мы неоднократно ссылались на диссертацию Клауса Беднарца, в которой он пишет, что в действительности дела с переводами обстояли плохо. Беднарцу удалось сделать основательный филологический анализ всех переводов Чехова на немецкий язык, сделанных до 1966 г., который привел его к выводу, что «еще не готова к восприятию Чехова «не только немецкая публика», но что сами переводчики Чехова еще никак не соответствовали своему предмету. Клаус Беднарц объясняет «незначительную роль» Чехова на немецких сценах «недостатками переводов, их нехудожественностью», несценичностью, непониманием переводчиков актерских и драматургических элементов в языке Чехова»196.
К сожалению, данная работа, филологически точная и, главное, опирающаяся на театральную практику, не нашла своих истинных адресатов — театральных деятелей: она была опубликована очень маленьким тиражом, в периферийном издательстве, вне поля зрения общественности197. Даже «Театер хойте» проигнорировал именно эту работу, не включив ее даже в подробную и продуманную ежегодную библиографию годового альманаха.
На примере пьес Чехова Беднарц составляет каталог трудностей, встречающихся при переводе с русского; исследуя области лексикологии, грамматики, а также морфологии и синтаксиса. Сюда он включает и проблему специфических русских «termini technici»: следует ли переводить, например, понятия «земство», или «няня» или их лучше вводить в немецкий текст как заимствования, как было принято до 1914 г.? Мы же привыкли к английскому «butler» или «французскому «concierge», почему же в случае с «няней» мы должны употреблять соответствующие немецкие понятия, которые внесут в текст дополнительную ноту отчуждения и все равно будут восприниматься большинством читателей как «типично русские»?
Сюда относятся, к примеру, многочисленные уменьшительные формы, ласкательные формы имен, которые в русском языке имеют другое значение, чем в немецком. Поэтому при переводе они так или иначе распознаются как умилительные формы «типично русского покроя». Или своеобразная манера русских, обращающихся друг к другу на «Вы», называть друг друга по имени отчеству: немецким зрителям было настолько сложно различать актеров на сцене, что некоторые режиссеры решили заменить обращение «Любовь Андреевна» на обращение «фрау Раневская». Но правомерно ли подобное для переводчика?
Не последнее место среди общих проблем перевода занимает вопрос о сжатости русских выражений и о более длинных предложениях в немецком языке, что объясняется наличием артикля, различным употреблением личных местоимений или инфинитивных, причастных и деепричастных оборотов, которые встречаются в русском языке намного чаще, чем в немецком. Немецкому предложению требуется значительно больше слов: по издательским правилам переводы с русского на 1520% длиннее текста оригинала. К тому же, часто случается так, что переводчики без видимых на то причин «раздувают» предложения, дополнительно «разбавляют» их субстанцию. Если переводчик может позволить себе, переводя реплику Лопахина (IV акт, тот смотрит на бокалы из-под шампанского; «Пустые, кто-то уже выпил»), употребить вместо 4 слов 9 и превратить одно сжатое утвердительное предложение в 2 банально-глуповатых вопросительных предложениях («Die sind ja leer? Die hat wohl jemand ausgetrungen?») то Беднарц совершенно справедливо решает, что здесь «невероятно точный язык Чехова низводят до уровня немецкого языка провинциальной болтливой драматургии»198. Однако как правило, простодушный читатель, который не мог заглянуть в русский текст оригинала, часто видел в таких «скучных», театральных, лишенных драматической субстанции пассажах «русскую широту» и пожимая плечами, прощал русским эту «особенность ментальности» (Беднарц).
Ядро работы Беднарца составляет исследование особенностей сценического диалога у Чехова. Автор исходит из утверждения об «утрате ощущения близости сцены» в немецких переводах. В чеховских драмах, партитурах для сценической реализации, спектакль рождается непосредственно из самого диалога: «Жестикуляция, мимика, сценическое движение являются не столько результатом каких-то отдельных предписаний режиссера, сколько следствием совершенно определенных моментов воплощения, обусловленных речью. У Чехова, как и у Шекспира, и у Мольера, все сценическое уже заложено в произносимом, словно одновременно включает в себя и драматическую, и театральную субстанции. Поэтому повсюду в тексте автор является «режиссером посредством слова»199. Если Чехов употребляет указательное местоимение, то оно естественно предполагает и соответствующий жест; эмоциональная насыщенность предложения определяется соответствующим подбором слов; обрывы, скачки, перемены темы требуют соответствующей перемены интонации. Автор исследует функции повторов, «блуждание» отдельных тем, индивидуальные особенности «дикции» чеховских персонажей, риторические структуры (например, построение ряда из одинаково синтаксически оформленных частей предложения); он исследует роль автора-режиссера вплоть до знаков препинания. Этот каталог критериев, разработанный Беднарцем, не даст ничего нового тем, кто читал Чехова в оригинале и кто, кроме того, знаком с анализом Балухатого (на которого ссылается Беднарц200), но он очень полезен для тех, кто знаком с Чеховым только по немецким переводам. А ведь речь, в первую очередь, шла о надежности переводов. Примеры, приведенные Беднарцем, ставят под вопрос эту надежность не только с филологической точки зрения, но и с точки зрения «сценической пригодности» переводов.
Не имеет смысла подробно рассматривать первые немецкие «обработки» пьес Чехова, сделанные Х. Штюмке, хотя Германия времен Вильгельма познакомилась с Чеховым именно в этих переводах201, а не в более точных переводах В. Чумикова202. Уровень филологической компетентности переводчиков Чехова иллюстрирует следующий факт: «Вишневый сад» вплоть до издания 1963 г. (в переводе фон Гюнтера) выходил с длинными рекомендациями для режиссеров, которые были написаны не Чеховым и происхождение которых до сих пор еще не выяснено. Или, например, Радецки уже в 1968 г. опубликовал свой «Вишневый сад», где течение драматического действия произвольно перерублено на отдельные «сцены», и это вмешательство не обосновано ни единым словом.
Примеры, приведенные Беднарцом, являют собой удручающую картину потерь, утрат, актов переводческого произвола, по каким бы причинам это ни происходило: из-за недостатка литературного образования, из-за отсутствия «инстинкта» театральных процессов и драматургических взаимосвязей или из-за чисто лингвистической несостоятельности.
Здесь возникает вопрос о масштабах и критериях оценок переводов. Мы проиллюстрируем их на трех примерах.
1. В I акте «Трех сестер» Ирина говорит: «В жаркую погоду так иногда хочется пить, как мне захотелось работать».
Это очень стройное предложение. Образ запоминается именно потому, что он такой простой и невычурный. В переводе фон Гюнтера это предложение превратилось в следующее: «Bei heisem Wetter kann man zuweilen so von dem Wunsch, etwas zu trinken erfast werden, wie ich vom Verlangen zu arbeiten»203. Это предложение еще балансирует на грани: ради простой формулы «хочется/захотелось» фон Гюнтер употребляет два разных понятия «Verlangen» и «Wunsch», которые повергают его в пучину грамматических бед, хотя по содержанию они и не являются неправильным эквивалентом. Но предложение безнадежно беспомощно, перекручено и едва произносимо.
2. В «Вишневом саде» Симеонов-Пищик говорит: «Ницше... философ... величайший, знаменитейший... громадного ума человек, говорит в своих сочинениях, будто фальшивые бумажки делать можно». Это предложение четко предписывает определенную манеру речи, определенный жест, сам порядок слов определяет и включает в себя интервалы, которые подчеркиваются и знаками препинания. В переводе Августа Шольца все эти моменты «приглажены»: «Der berühmte Philosoph Nietzsche sagt irgendwo in seinen Werken». Это неверный перевод204.
3. В начале III акта «Чайки» Маша говорит: «Вырву эту любовь из своего сердца, с корнем вырву». И на вопрос Тригорина «Каким же образом?», отвечает «Замуж выхожу. За Медведенка». Перевод Гудрун Дювель неверный: она соединила эти два предложения в одно и нивелировала интонацию разочарования, пассивности. Мы получили обыкновенное сообщение: «Ich werde Medvedenko heiraten»205.
Лавируя в потоке примеров, Беднарц подходит, наконец, к сопоставлению отдельных переводов. Мы ограничимся здесь теми, кто перевел на немецкий язык хотя бы три большие драмы Чехова: Август Шольц, Хильда Ангарова, Йоханнес фон Гюнтер, Рихард Гофман, Сигизмунд фон Радецки и Гудрун Дювель206.
А. Шольц. «Стиль его переводов лучше, чем редакция Штюмке, но он значительно уступает языковой точности Чумикова. Беднарц отмечает, что восприятию «очень мешает избыток ненужных апостроф, которые вообще являются самым броским признаком дикции Шольце. Он использует апострофу не только для характеристики особенностей речи отдельных персонажей (например, старых слуг или гувернантки), но в одинаковой мере у всех персонажей. Апострофы должны, вероятно, имитировать разговорную речь, но, как правило, они оказываются совсем неуместными и вызывают чувство неловкости. Бросается также в глаза тяготение Шольца к искусственным конструкциям с родительным падежом вместо употребления естественных предложных оборотов, бессмысленное образование уменьшительных форм и относительно большое число чисто переводческих ошибок». Беднарц указывает на «отсутствие указаний режиссерам», на «изменение целых сцен или отдельных черт характера», на «недостаточное внимание к особенностям сценической речи» и даже на «абсолютную слепоту в вопросах сценических и драматургических взаимосвязей»»207.
Переводы А. Шольца доминировали в немецких театрах с 1918 г. вплоть до 1950-х годов. Исключением можно считать «Дядю Ваню», так как в 1922 г. Артур Лутер предложил свой вариант перевода208, который довольно часто предпочитали варианту Шольца и который Беднарц, несмотря на отдельные замечания, классифицирует как «одну из лучших немецких редакций этой драмы»209.
Переводы Хильды Ангаровой, которые, «к сожалению, редко используются», Беднарц считает «безусловно, самыми беглыми, наиболее близкими к разговорной речи». Хотя это и «таит в себе опасность уплощения, потери пластичности и точности выражения»; «нередко различные нюансировки становятся жертвами излишне гладкого перевода»; хотя «имеются некоторые слабости в подборе слов и стилистические небрежности», но все-таки, это одна из «живых и, после известной доработки, «играбельных» немецких редакций»210.
«В самом низу шкалы оценок» Беднарца находятся переводы Иоханнеса фон Гюнтера, которые были самыми играемыми в 50—60-х годах. «У него полностью представлена вся шкала ошибок, встречающихся в русско-немецких переводах. Ее можно проследить от неправильных или вводящих в заблуждение указаний режиссерам (если они не отсутствуют) через искажение нюансов вплоть до полного извращения смысла переводимого текста.» Беднарц объясняет это в первую очередь «явно недостаточным владением немецким языком, а также персональным стилем переводчика, насыщенным и претенциозным». Простой, ненавязчивый и точный язык Чехова становится «тяжеловесным, расплывчатым и ходульным». «Выбор слова часто просто курьезен»; «нелепые уменьшительные формы, лишние союзы, инфинитивные обороты и безличные конструкции, заимствованные из русского», «грубые ошибки в переводе» — такие обстоятельства, считает Беднарц, делают вопрос о языковых тонкостях «иллюзорным»: «если простое предложение, которое в русском тексте состоит из 4 слов, превращается в немецком в 2 предложения, состоящее из 16 слов, это значит, что от языка Чехова уже ничего не осталось»211.
Таким же уничижительным оказался и приговор переводам Сигизмунда фон Радецки. Они тоже «отмечены несколько своенравной манерой переводчика». Беднарц указывает на «избыток апострофов», «бесконечное множество уменьшительных форм», разного рода патологических образований, «которые позволяют усомниться в том, что переводчик действительно владеет языком». «И тем не менее общий стиль фон Радецки больше приспосабливается к немецкой разговорной речи, чем стиль фон Гюнтера. И если у первого встречаются более грубые прегрешения — особенно что касается выбора и употребления слов — то в целом их легче заметить, а значит, и легче исправить. Но здесь тоже не может быть и речи о достаточном соблюдении особенностей чеховской речи, ее драматургических и сценических элементов»212.
Беднарц характеризует переводы Рихарда Гофмана как своего рода «антиподы к переводам Х. Ангаровой». Может быть, его переводы не такие «гладкие», зато «они максимально близки к тексту оригинала, а иногда даже полностью соответствует русскому предложению, т. е. порядку слов в нем». «Конечно, это влечет за собой известные стилистические недостатки, но они не должны вводить нас в заблуждение, так как «в целом, Гофман переводит очень точно, у него очень тонкое чутье к чеховским нюансам и полутонам. Возможно, что его работа является доказательством того, что безыскусный, простой перевод (имеется в виду выбор вокабул) русского оригинала обретает в немецком языке то же звучание, тот же эффект». «Непосредственная близость перевода к оригиналу лучше всего может передать своеобразие стиля Чехова и всю гамму настроений этих драм»213. Эти переводы крайне редко играли на немецких сценах.
«В качестве примера самых значительных достижений в области немецких переводов драматургии Чехова Беднарц приводит редакции Гудрун Дювель; к тому же редакция Дювель — самое полное издание пьес Чехова на немецком языке. Кажется, что у Г. Дювель никогда не возникали филологические или технические проблемы с переводом. Стиль ее переводов, очень «беглый», свободный от навязчивой индивидуальной манеры и хорошо приспособленный для произношения, намного превосходит все предыдущие работы и почти заставляет забыть о том, что перед нами переведенный текст. У Беднарца имеются отдельные замечания, «которые касаются исключительно вопросов театра и поэтики» и направлены против чрезмерной «гладкости» перевода: «Формальная отточенность немецкого стиля, его беспроблемно гладкое, иногда слишком быстрое течение — почти как у Хильды Ангаровой — иногда зачеркивает тонкости чеховского языка. Не всегда самый «элегантный» немецкий оборот лучше всего соответствует драматургическим и сценическим элементам». Это свое наблюдение, «тенденцию к нивелировке, к сглаживанию нюансов чеховской речи», автор подтверждает убедительными примерами214.
Был еще один опыт над драмами Чехова, который Беднарц не мог анализировать, но который оказался немаловажным шагом по пути дальнейшего упрощения стилистических нюансов и тонкостей перевода: в 1967 г. состоялась премьера «Трех сестер». Спектакль играли по тексту коллективной обработки Института славистики города Киля (руководитель группы Ульрих Буш)215.
По свидетельствам самих авторов обработки216, дело было не в точном, т. е. максимально «правильном» переводе, а в том, чтобы «приспособить» перевод к современной немецкой публике, какой она являлась нам на семинарских занятиях: люди, отрешившиеся от истории своей страны, без необходимых общих знаний, лениво мыслящие, «недозревшие» до Чехова. Ради того, чтобы «избежать мумификации буквального перевода», авторы не только «учли опасность модернизации, актуализации», но, напротив, включили это в свою программу: исторические моменты были зачеркнуты как несущественные, социальные отношения (например, обращения) разорваны, персонажи (горничная) вычеркнуты, «кухонный» французский язык Наташи заменили «ходульными немецкими предложениями» (когда же мы начнем переводить на немецкий Томаса Манна?). И вообще, «специфические проявления «высшей» европейской прослойки рубежа веков элиминировали или сокращали, или заменяли другими соответствующими функциональными проявлениями». Наконец, «самая главная, по мнению авторов, перемена»: «приглушение эмоционального тона»217 с целью определенного «отрезвления» и, таким образом, приспособления оригинала к «трезвомыслящей» публике нашего времени.
Какие бы сомнения ни вызывала такая метода и ее обоснование («деисторизация» Чехова), но слово «трезвость» стало своеобразным паролем: оно понималось как антипод упреку в якобы «сентиментальности» Чехова. Кильской редакции именно потому удалось задеть нужный нерв и вызвать интерес у театров, что их текст соответствовал требованиям «нового Чехова». Ришбитеру их вмешательства показались даже недостаточными. Он сравнивает кильскую модернизацию с редакцией, поставленной в 1965 г. Р. Нёльте в Штутгарте, позитивно отмечает, что «теперь золотообрезный лиризм несколько вытеснен» (все-таки чеховские образы!) и рекомендует: «Кильские слависты должны срочно заняться обработкой Нёльте — их интерпретация пьесы, многословно и, пожалуй, несколько «штампообразно» изложенная в Билифельдской программе, не так радикальна и убедительна, как у Нёльте»218.
Существовало множество различных «подходов» к Чехову, результаты получались более чем противоречивые. И это относится не только к драмам Чехова, но и к другим русским классикам от Гоголя до Островского, от Тургенева до Толстого. К проблеме переводов Чехова много лет спустя вернулся Питер Брук. В программке к своей постановке «Вишневого сада» в Bouffe du Nord (Париж, 1981) он пишет: «Наше чувственное восприятие эволюционирует. Было время, когда требовался текст, воссозданный поэтом. Сегодня же стремятся к аутентичности, цель которой — не упустить ни единого слова. Такой подход к делу особенно интересен при работе над Чеховым, важнейшим достоинством которого является точность».
Для Брука предложение Чехова — «сама простота»: «исключительно насыщенная чеховская манера письма характеризуется минимумом слов, что несколько напоминает манеру Пинтера и Беккета. Так же, как и им, Чехову важны конструкция, ритм, т. е. чисто театральная поэзия конкретного слова в конкретный момент и на конкретной интонации».
Поэтому в переводе «Вишневого сада» он вместе с Жаном-Клодом Карьером «предлагает «вкладывать» актерам реплику за репликой, жесткую структуру, на которую опирается эволюция идей. Мы учли ее вплоть до пунктуации».
Шекспир работал по-другому, его пьесы — как телеграммы, и актеры должны сами составлять словосочетания. «У Чехова же, наоборот, точки, запятые, многоточия имеют первостепенное значение, настолько же первостепенное, насколько «времена» у Беккета. Если их не соблюдать, то теряется ритм пьесы и ее напряжение. Пунктуация у Чехова представляет собой ряд кодированных посланий, в которых зашифрованы взаимоотношения и чувства персонажей, моменты, когда происходит идейное единение, либо же идеи продолжают развиваться своим путем. Пунктуация позволяет понять то, что скрывают слова»219.
Необходимо отметить, что такого перевода драм Чехова на немецкий язык, такого понимания работы над текстом в Германии до 1969 г. не было. Перевод Дювель еще не был осознан театральными деятелями, Ришбитер тоже не включает ее в свое сравнение переводов. Но подозрение, что Чехов читается не так, как представляли его до сих пор немецкие переводчики, укрепилось еще больше. Главные улики: Нёльте и Цадек использовали переводы только как основу для собственных редакций текста.
Все выводы, сделанные Беднарцем о переводах драматургии, можно без исключения перенести и на немецкие переводы прозы, тем более, что проза Чехова не только содержит много диалогов, но и построена часто в форме устного рассказа.
В результате дискуссии о Чехове конца 1960-х годов театр вынужден был предложить свое новое видение Чехова. Этот «другой Чехов» уводил нас от передаваемой из поколения в поколение «музейной» постановки Станиславского. Несколько вариантов этого «нового Чехова» уже были упомянуты: постановки Нёльте, Крейчи и Цадека. Основной вопрос тех лет сформулировал берлинский критик Фридрих Луфт в статье по поводу премьеры «Вишневого сада» в театре «Фрайе фольксбюне»220 в 1969 г.: «После захватывающей монографии Зигфрида Мельхингера, вновь открывшей нам Чехова, каждая театральная постановка — это занятие определенной позиции: собираешься ли ты принять сторону Мельхингера и его тезисов о реалистическом, почти (почти?) комедийном Чехове или придерживаться интерпретации Станиславского, сдержанного молчания, комизма, рожденного путаницей различных жизненных сфер, открытого финала»221.
К началу сезона 1969/1970 гг. — только за один этот сезон в ведущих театрах было поставлено 8 спектаклей по Чехову222 — дискуссия о Чехове вылилась в беспримерный, на мой взгляд, Чеховский ренессанс: ничего похожего не случалось ни с одним драматургом мирового театра, ни с Ибсеном, ни со Стриндбергом, ни с Гауптманном, ни с Шоу, и это относится не только к современникам Чехова. Правда, ни в ком так не ошибались, как ошиблись в Чехове. Но интерес к нему — это не «волна», не быстро отцветающая мода, которые с периодичностью кризисов наведываются в наш театр. Этот интерес возник после продолжительной, серьезной и разносторонней работы над этим автором, которая давно уже не ограничивается только сценой, а постепенно захватывает все области культурной деятельности: книжный рынок, науку, публицистику (печать, радио и даже телевидение). Чехов, наконец, вошел в «верхнюю прослойку» культурных разделов газет: его имя неоднократно встречалось в приложении к газете «Франкфуртер альгемайнецайтунг», в анкете Марселя Пруста, которую предлагали заполнить знаменитостям223; а когда в конце 1970-х годов журнал «Ди цайт» стал публиковать рекомендательные обзоры с целью стимулировать читательский интерес к мировой литературе («Мадам Бовари», «Германия. Зимняя сказка» и т. д.), то в список из 100 книг, конечно же, вошли рассказы Чехова, но зато на этот раз в нем отсутствовали другие русские классики224.
Между тем Чехов стал общеизвестным понятием, которым оперируют даже в поясняющих сносках; его имя встречается даже в описании декораций к цюрихскому спектаклю «Эмилия Галотти»: замок принца — «чеховское настроение по-итальянски»225. В конце концов, к рядам почитателей Чехова примкнула аргентинская танцовщица Жозефина: «Чехов, как и танго, очень экономно пользуется языковыми средствами, для того, чтобы достигнуть наибольшего эффекта»226. Ну вот вам, пожалуйста.
И этот интерес, если и не нарастает, то удерживается, наперекор всем политическим переменам и поворотам.
Начало чеховской дискуссии совпало в ФРГ с фазой общественного подъема. В 1960-е годы под влиянием левых сил опять приобрела большое влияние «критическая теория» бывшей «франкфуртской школы», разрабатываемая Т.В. Адорно и Вальтером Беньямином, Эрнстом Блохом, Максом Хоркгеймером и, в особенности, Гербертом Маркузе. Опять стали читать Маркса, многие читали его впервые... Студенческое движение было теперь уже направлено не только против колониальной войны в далеком Вьетнаме, но и против устаревших, одеревеневших структур в собственном государстве, в собственном доме. Первой солидаризировалась с бунтующими студентами часть критически настроенной интеллигенции: сбор средств в пользу Вьетконга, который устроил Петер Штайн в 1968 г. в мюнхенском театре «Каммершпиле», был и остается примером для многих227. События 1968 г. — демонстрации в Западном Берлине, май в Париже, август в Праге — усугубили политико-идеологические разногласия не только в западногерманском обществе, где впервые после 1945 г. консерваторы, привыкшие к власти, находились в обороне. Антиавторитарное движение, рожденное студенческой внепарламентской оппозицией, хотя и не коснулось рабочих, но зато захватило другие широкие слои населения, особенно деятелей культуры, писателей, художников, педагогов. В театрах дискутировались вопросы демократизации аппарата и самого процесса работы, «главенства» художественного руководителя театра, актеры требовали права решающего голоса (позже это практиковалось в некоторых театрах). Издательства были поражены кризисом.
На этом фоне дискуссия о Чехове кажется некоторым анахронизмом. Однако в контекст современности вписывается не только перспектива «Трофимов — революционер», на которую были сориентированы все три постановки «Вишневого сада» 1969/1970 гг.228. Чехов не мог и мечтать о таком: вдруг в Германии появились Трофимовы, и немало.
Журнал «Театер хойте» был органом «либерально-посредственной культуры», хотя он и откликнулся на дискуссию о политическом театре. Но при этом не выбросил за борт целый ряд традиционных критериев оценки. В последнем номере за 1970 г. продолжается дискуссия о Чехове под заголовком «Чехов как вызов».
Среди прочего была опубликована статья Бото Штрауса «Десять незаконченных абзацев о Чехове; Нёльте и реалистический театр». В ней явственно ощущается реакция и на марксистские дебаты и на выступления «внепарламентской оппозиции», но и содержится упрек политическому театру.
Таким, коротко говоря, оказался фон, на котором происходило воскрешение Чехова в Германии. Необходимо сделать еще одно предварительное замечание. Речь пойдет о некотором замешательстве и о местоимении 1-го лица единственного числа.
Позволю себе небольшое отступление.
Когда редакция «Литературного наследства» настоятельно предлагала мне написать статью «Чехов в ФРГ» для тома «Чехов и мировая литература», у меня возникли сильные сомнения. Есть несколько причин, по которым можно считать меня пристрастным:
1. Понятие «мировая литература» сформулировали немцы. Своей известностью оно обязано Гёте, и каждый знает, что под этим следует понимать синтез национальных литератур во всем их многообразии и различиях, но и «встречу диссонансов и непонимания тоже» (Г. Майер).
Сто лет спустя после смерти Гёте в Германии горели книги, немецкие фашисты горланили, что «сегодня им принадлежит Германия, а завтра — весь мир». С немецкой земли начались две мировые войны. Немцы совершили чудовищные преступления в России, на родине Чехова. Я как немец не могу это обойти.
2. Кое-кому из авторов мировой литературы Германии переводы на немецкий язык помогли выйти в мир. «Мировая слава Ибсена вышла из Берлина», — справедливо писал Зигфрид Якобсон. С Чеховым же случилось прямо противоположное. С Чеховым немцы в течение десятилетий были очень неприхотливы, быстро довольствовались малым. Тому можно назвать причины, но это было и остается горестным фактом.
3. Я не в состоянии с должной дистанции писать историю Чехова в Германии после 1969 г. еще и потому, что я не беспристрастен и сильно «замешан» в эту историю. Как славист с так никогда и не законченной диссертацией (о диалоге Чехова) я уже с 1962 г. — полностью во власти этого автора; как один из основателей франкфуртского издательства «Ферлаг дер ауторен», с 1969 г. поставившего себе задачей не только поддерживать молодых немецких драматургов, но и, где это необходимо, заново переводить классиков мирового театра. Чехов был первым среди авторов, которых я переводил. Работая с 1978 г. в издательстве и как редактор, я стал еще пристрастнее. И, наконец, я составлял известное издание Чехова в цюрихском издательстве «Диогенес», где мне повстречался издатель, сказавший: «Чехова я буду печатать всего». Даниэль Кеель и сейчас так говорит, хотя проблемы сбыта и для него мучительны. Такие издатели-упрямцы, как Кеель, стали теперь редкостью в нашей книжной торговле. В большинстве издательств сидят менеджеры, нацеленные на сбыт и упускающие поэтому из поля зрения самое важное.
В немецкоязычных театрах ревизия Чехова плавно перешла в фазу чеховского «ренессанса». Год 1970-й знаменует важные перемены для западногерманского театра в целом и для Чехова, в частности.
В 1970 г. умер Фриц Кортнер, несколькими годами раньше не стало двух других великих режиссеров — Гейнца Гильперта и Юргена Фелинга. Осуществлялась смена поколений, наметившаяся уже к 1965 г. В 1970 г. Петер Штайн, первый среди подоспевшей молодежи, принял руководство театром «Шаубюне ам халлешен уфер» в Берлине. За ним последовали другие229. Их программа: демократически организованный театр самого высокого эстетического уровня с определенно левым политическим уклоном, который был заявлен уже на премьере («Мать» Брехта, по Горькому). В немецком театре началась новая эра, представленная целой серией легендарных постановок. Берлин опять стал Меккой всех одержимых театралов. В 1984 г. Петер Штайн выпускает «Трех сестер» в «Шаубюне», который теперь занимал дорогое отреставрированное помещение на Курфюрстендам. Одновременно Клаус Михаэль Грюбёр «уводит» свою постановку «На большой дороге» на бывшую репетиционную сцену старого «Шаубюне», в район Кройцберг, к студентам и турецким рабочим230. Это составило не только привлекательный контраст, которым насладились журналисты, но это было и признаком глубоких расхождений в коллективе театра. Несколько недель спустя измученный Петер Штайн объявил о своем намерении с 1985 г. отказаться от руководства театром231.
В 1970 г. мы увидели последнюю постановку Чехова. Р. Нёльте. Специалист по Чехову, признанный многими, выпустил в Мюнхене «Вишневый сад»232, за несколько месяцев до того он возобновил постановку «Трех сестер» в Кёльне233, где еще раз настоятельно подчеркнул свою концепцию Чехова. Было интересно сравнивать «Вишневый сад» Нёльте, очередное достижение щедрого к Чехову сезона, с «Вишневым садом» Ганса Литцау в «Дойчес шаушпильхаус» в Гамбурге. Вновь встал вопрос, «как играть Чехова» и за ним опять — спор о Чехове.
Мельхингер дважды посмотрел «по половине «Вишневого сада»», но: «если соединить обе половины, не обязательно получится одно целое». По его мнению, если Литцау ставил пьесу «очень точно, почти по нотам», то интерпретация Нёльте — это, вероятно, «вариации (немарксистского) отчуждения, отдельные сцены с такой убедительной силой выдвинуты в центр, что искажают общий взгляд на тему»234. На стороне Нёльте сражается Ришбитер, который открыто высказывается в защиту «неумолимой сдержанности Нёльте, его контроля над правдивостью будничных интонаций. Я восхищаюсь способностью Нёльте создавать на такой узкой базе односторонне сокращенного чеховского текста свой собственный, упрямый сценический мир, надежно укрытый от историзмов, мир убедительный и ясный»235. Об общем положении дел в немецком театре: «Что касается Чехова, то у немецкого театра нет ничего, кроме Нёльте и предпосылок». К этим предпосылкам Ришбитер «вообще-то не собирался причислять» постановку Литцау, она «не стала вдаваться в мучительные интерпретации персонажей и ситуаций, а ограничилась эффектными ходами и аранжировкой звенящей и поверхностно «музыкальной» интонации»236.
Однако театральная критика ФРГ сосредоточена не только в «Театер хойте». Иоахим Кайзер, тогда еще театральный обозреватель мюнхенской газеты «Зюддойче цайтунг», следил за деятельностью эксмюнхенца Литцау237 и в Гамбурге. Кайзер считает, что режиссуре Литцау «не хватает общей концепции, есть только некоторые отдельные намерения сделать что-то «по-другому», т. е. антижалобно. Он попытался вести персонажей не как носителей настроения, а как выражение определенной, реалистически объяснимой позиции», а это часто противоречило чеховскому тексту и не получалось238. Но post facktum «постановка Литцау по некоторым пунктам выигрывает у консервативной трактовки Нёльте и оправдывает себя», так как «в руках Нёльте продажа «Вишневого сада» превращается в трагедию изгнания из рая, из райских (вишневых) кущ». Кайзер не забыл описать все красоты постановки, но все же Нёльте «рационалистически-пессимистически-драматургически изнасиловал» пьесу, исковеркав чеховский текст. Нам понятно отвращение Нёльте к «модному социалистическому реализму», но мир и окружающая среда всегда имели значение для Чехова, Нёльте же обнаруживает лишь общечеловеческие свойства. Чехов был все-таки умнее и гениальнее, чем этот глубокоуважаемый режиссер: если Чехов, с одной стороны, делает из Лопахина чувствительного нувориша, а, с другой — в момент его триумфа заставляет его разражаться слезами, то необходимо показывать эту сложность. И если Литцау в Гамбурге пренебрег «чувством», комически заострил роли, но Нёльте настоял на монотонной чувствительности и в очередной раз переместил столько раз обсуждавшееся действие «в район Беккетта». Это — «точно просчитанная, высокомеланхолическая трагедия», «душещипательная музыка без комедийных диссонансов»239.
Кайзер, как и Мельхингер, детально анализирует сокращения, предпринятые Нёльте. При этом речь идет не о переводе240, а об умалении сложности чеховских персонажей, об архитектуре пьесы. Ришбитер и начинающий критик Беньямин Хенрихс тоже на разный манер описывают в «Театер хойте» эти режиссерские вмешательства241. Но только Берлинские театральные встречи 1971 г. куда, конечно же, пригласили «Вишневый сад» Нёльте, переполнили чашу. Долго сдерживаемая ярость разрядилась в бурной, грубоватой полемике о Чехове.
Спор о Чехове? Да, спор, и упорный, из таких, о которых нужно рассказывать, потому что тогда широкая общественность впервые заговорила о важнейшей чеховской категории — о точности. А кроме того, в споре проявились разные симптоматические признаки западногерманской культурной жизни тех лет:
1. Глубокая пропасть между театральной и литературной критикой; последняя абсолютно далека от развития современного театра, а первая легкомысленно обращается с литературно-филологическими критериями.
2. Высокомерное отношение протагонистов «театра режиссуры» к тексту пьесы.
3. Всеобщее незнание истории, чеховской эпохи, в то время как каждый уже мысленно держал «своего Чехова» на ладошке.
4. Глубокие идеологические пропасти в Западной Германии антиавторитарных лет. Глубочайшее недоверие консерваторов ко всему, что, по их представлению, исходило слева.
Либеральный гамбургский ежегодник «Ди цайт» выслал на театральные встречи 1971 г. своего литературного критика Марселя Рейх-Раницки. И тот не узнал свой «Вишневый сад» в постановке Нёльте. По его мнению, «Вишневый сад» лишен поэтичности и всякого смысла. Дома Рейх-Раницки подробнее осведомился и выставил «тяжелую артиллерию»: Нёльте не просто «поставил пьесу: он ее и «онемечил» и «усовершенствовал». Он пользуется не одним из имеющихся уже переводов, но всеми сразу, для того, чтобы сделать из пьесы то, чем она никогда не была, но что ему хотелось бы иметь. Он сокращает много и последовательно политические и социально-критические отрывки. Поэтому приговор господствующим классам и оптимистические видения будущего общества исчезают. С другой стороны, если я не ошибаюсь, Нёльте кое-что добавляет к тексту: отдельные обороты, предложения и даже абзацы. Это — наглость? Нет, глупость. Потому что Чехов писал лучше, чем Нёльте»242.
Это вызвало протест. Один читатель оспорил квалификацию Рейх-Раницки в вопросах театра243. Другой, шеф издательства «Драй маскен», купившего обработку Нёльте, потребовал от критика, чтобы он сообщил общественности те примеры, на которых основывались его выводы244.
Рейх-Раницки признал ошибочным свое предположение, будто бы Нёльте от себя дополнил текст, но с упоением процитировал все те места, которые пали жертвами карандаша Нёльте и которые особенно повредили студенту, превратив его в жалкого болтуна: монологи Трофимова во II акте («Человечество идет вперед, совершенствуя свои силы» и «Вся Россия наш сад»). Рейх-Раници цитирует эти монологи по новейшему переводу издательства «Ферлаг дер ауторен»245.
Инцидент был на этом исчерпан для «Ди цайт», но не для Нёльте, который теперь сам схватился за молоток. После того, как «Цайт» отказался печатать очередное опровержение, Нёльте, закоренелый правый, обратился по правильному адресу, в шпрингеровскую газету «Вельт», с радостью напечатавшую его обвинительный донос на левых фальсификаторов Чехова, тем более, что приведенные доказательства буквально подавляли246. Главные обвиняемые — целая свора темных левых личностей. Во-первых, Зигфрид Мельхингер, который в своей монографии о Чехове, «коллажирует» цитаты самого разного происхождения и датировки (Нёльте: «Это — самая наглая подделка писем, которую знает история литературы»). И, во-вторых, «какое-то издательство, которое принадлежит авторам» (ну уж здесь точно что-нибудь не так!) и «специализируется на выпуске книжек в красных обложках» — в этом издательстве вышел перевод «Вишневого сада» Чехова за подписью П. Урбана. За именем Чехова там напечатаны отрывки текста, которых нет ни в одном из прижизненных изданий и вообще ни в одном из русских и иностранных изданий, выпущенных до революции 1917 г. Переводчик неосмотрительно и слепо доверяет одним изданиям и не сравнивает текст с текстом других изданий». За этим следует уже совсем экзотическая подтасовка: переводимый автор родился «в стране, где тотальная революция поставила под вопрос все существовавшие ценности; и это грубая небрежность переводчика, если он работает над непроверенными текстами якобы оригинала, изданного после революции»247. В двойном свете предстали не только перевод, не только издательство, но и все русское чеховедение после 1917 г.
Это нужно было опровергнуть хотя бы потому, что клевета Нёльте ставила под сомнение солидность нашего издательства и подвергала его существование большой опасности. Мы сообщили, что оба монолога Трофимова, о которых шла речь, еще при жизни Чехова были помечены цензурой. Чехов не перечеркнул их, как обычно, а поставил в скобки и выбрал более смягченные варианты, т. е. оба эти отрывка «Вишневого сада» существуют в двух вариантах, написанных рукой Чехова. После 1917 г. издатели совершенно корректно восстановили исходный вариант текста, а последующие варианты поместили в примечания248. В следующем опровержении Нёльте потребовал доказательства для этих «бездоказательных утверждений», вообще доказательства существования цензуры при жизни Чехова! Нёльте утверждает: «Даже в 4200 опубликованных письмах Чехова, в 50 из которых говорится о «Вишневом саде», нет ничего, что подтвердило бы, будто Чехов по настоянию цензуры что-либо менял»249.
Спор прекратил славист Витольд Кошный в «Театер хойте», где он привел требуемые доказательства: факсимиле отрывков текста, цитаты из упомянутых писем250.
Мне неизвестно, убедили ли эти доказательства Нёльте. После этого спора Рудольф Нёльте никогда больше не ставил Чехова, а жаль. Этот спор, помимо прочего, показал настоятельную потребность в более глубоких знаниях не только текста Чехова, но и его эпохи, историко-литературного, биографического и историко-постановочного контекста. Возникла огромная потребность в более точной, надежной и корректно подготовленной информации о Чехове. Ну а ее лучше прочих мог дать сам Чехов, в своих сочинениях и письмах.
Поэтому мне кажется целесообразным завершить этот обзор сообщением о новейших немецких изданиях Чехова.
Первым шагом было издание «исхудавших» томов «Письма» и «Остров Сахалин» в издательстве «Винклер». Затем, в 1973 г., было начато издание Чехова в цюрихском «Диогенес».
В серии дешевых карманных изданий — что очень важно, так как теперь с текстами Чехова смогли ознакомиться широкие круги читателей, — вышли 4 драмы Чехова в новом переводе («Ферлаг дер ауторен»: пример кооперации Франкфурт/Цюрих)251. «Ферлаг дер ауторен» бесстрашно переводил Чехова. Идея издательства выпустить классиков в новых переводах (не только Чехова, но и Шекспира, Мольера, Мариво, Стриндберга, Горького) оказалась плодотворной благодаря чутью и мобильности редакторов Карлхайнца Брауна и Вольфганга Винса. Но новые тексты использовались вначале только в театрах и были недоступны читателям. Кооперация с «Диогенес», пустившая «нового Чехова» в книжные магазины, предусматривала следующее разделение: право на продажу текстов театрам оставалось за «Ферлаг дер ауторен», право на издание книг — за «Диогенес». Таким образом, издание Чехова началось с пьес, сбыт которых на книжном рынке наиболее затруднителен.
Вначале выпуск ограничили полным изданием драм Чехова: каждый том продавался по низким ценам карманного издания, хотя несколько дороже, чем карманные брошюрки издательства «Реклам»252; в 1974 г. вышли еще три тома253, куда вошла ранняя пьеса Чехова «Безотцовщина», никогда ранее не публиковавшаяся по-немецки полностью. Пьеса печаталась под названием «Платонов». Таким образом, драматургию Чехова издали полностью в новых переводах.
Кроме новых переводов, на которые, наконец, обратила внимание литературная критика254, издание «Диогенес» отличалось от других еще по двум пунктам: подробным аппаратом приложений и другой, хотя и не новой транскрипцией имени Чехова (не Tschechoff или Tschechov, a Čechov, опираясь на латинский алфавит сербо-хорватского). Некоторые считали это рекламным трюком и упрекали в этом издательство, но я привык к такому написанию по своим предыдущим переводам (Хлебников, Хармс) и считал его наиболее точным. Вероятно, книготорговцы и библиотекари разрешили уже проблему под какой буквой помещать книги Чехова.
Другое отличие — в каждом томе текст пьесы сопровождался приложением, состоявшим из: 1) издательской справки по истории создания произведения, изменениям в тексте из-за вмешательств цензуры, по истории постановок; 2) цитат из записных книжек Чехова, касавшихся этой пьесы; 3) примечаний и пояснений, обычно более подробных, чем в выпуске издательства «Рюттен и Лёнинг», и конечно же, транскрипций имен; 4) впервые в немецком издании приводились наиболее важные варианты разночтений с предыдущими переводами.
В середине 1970-х годов издательство «Диогенес» купило у издательства «Винклер» лицензию на карманные издания всех прозаических произведений, включая «Остров Сахалин», кроме писем, так как уже имелся план более полного издания писем Чехова. В 1976 г. единым махом выпустили 10 томов «Прозаических произведений» Чехова, каждый из которых можно было купить и по отдельности255. В каждом томе прозы тоже был аппарат примечаний, который уступал изданию ГДР в том, что у нас не так подробно прослеживали историко-литературную судьбу каждого отдельного произведения. Но зато мы делали больший упор на разъяснении реалий, и у нас впервые давалось толкование «говорящих имен» Чехова256.
Далее шло пятитомное издание писем Чехова, которое несколько запоздало. Подборка, содержащая треть всех писем Чехова — «самая большая из нерусских изданий писем самого большого русского прозаика и драматурга» (реклама издательства): 1240 писем — солидная издательская работа, встреченная критикой как «значительное литературное событие»257, отмеченная в 1980 г. международной премией содействия научному и художественному переводу имени Гельмута М. Брема258.
Издательские принципы, да и сама подборка формировались после критического изучения аналогичных предшествующих изданий как немецких, например, Г. Дика, так и ненемецких А. Ярмолинского, С. Карлинской и Л.С. Фридлянд259.
В издательской справке говорилось: «Мы также принципиально печатали письма без сокращений, а не так, как в изданиях Фридлянд и Ярмолинского, где цитируются «самые важные» отрывки. Мы столкнулись с определенными трудностями, так как до сих пор нет еще такого русского издания Чехова, в котором определенные отрывки из писем не были бы исключены. Даже в новейшем, начатом в 1974 г. историко-критическом издании полного собрания сочинений в письмах Чехова к брату Александру и к О.Л. Книппер встречаются квадратные скобки с многоточием».
Комментарии-примечания, ссылки, хронология данного периода жизни и творчества — опирается на превосходный научный аппарат тех томов академического издания 1974—1983 гг., которые вышли к тому времени. Необходимые указатели (именной указатель, указатель названий и органов печати) расположен в 5-м томе, в то время как каждый том содержит только именной указатель адресатов. Разделить тексты писем и комментарии, поместить все примечания и указатели в одном томе, противоречило бы нашему принципу, что каждый том может продаваться и отдельно.
Таким же образом в 1981 г. издали «Чеховскую хронику»260, как логическое следствие издания писем, в котором она служила «подсобным» справочным материалом, тем более, что «немецкой» биографии Чехова все еще нет. В 1983 г. последовал полный перевод академического издания «Дневники. Записные книжки»261 (том XVII, 1980), впервые снабженного подробным предисловием, которое объясняет читателю ошеломляющую, на первый взгляд, чеховскую «бухгалтерию» материала и замыслов.
Эти чеховские новинки удостоились внимания самой широкой прессы. Наиболее наглядное, наверное, в газете «Нойе цюришер цайтунг», которая критически и последовательно следила за событиями, происходящими вокруг Чехова, с конца 1960-х годов. Редактор газеты Ганс Якоби в своих статьях не скрывает своего искреннего восхищения Чеховым — «Нойе цюришер цайтунг» дважды посвящала Чехову целый разворот262. Литературный обозреватель газеты «Дойче фольксцайтунг», близкой ГКП, вычитал в письмах Чехова «увлекательную микросоциологию», «примечательный роман в письмах о существовании мещанского писателя»263. Порой чрезмерно прорывалось высокомерие всезнающих критиков, но в общем преобладали спокойно-деловые обзоры, анализы содержания писем и издательских достижений. Убедительнее прочих были стать тех критиков, которые могли прочитать оригинальное русское издание, но которые очень редко оказывались среди рецензентов (Петер Бранг, Иоханна Ренате Дёринг, Эльсбет Вольфхайм)264.
Две последние публикации Чехова, контрастируют с прочими265 и базируются исключительно на издании писем и чеховской хроники. Первое — «Антон Чехов», монография Эльсбет Вольфхайм, вышедшая в 1980 г. (издательство «Ровольт»). Это — сжатое описание творческого пути Чехова, компонентное, но скромно проиллюстрированное266.
Другая публикация должна быть рассмотрена в контексте двух постановок театра «Шаубюне» 1984 г.: двухчастная фактографическая работа о драматургии Чехова (Дитер Штурм)267.
Прекрасные издания «Диогенес» с трудом находили рынки сбыта, что еще раз подтверждает общее правило, что даже самая позитивная критика мало влияет на читателей и покупателей. Только наиболее известные пьесы — «Чайка», «Вишневый сад» и «Три сестры» — выдержали за 10 лет 4 издания.
В заключение совсем «ненаучный взгляд в будущее: дальнейшие планы «Диогенес» по изданию Чехова.
Выйдет давно намеченная «Хрестоматия по Чехову», которая поможет читателю, не знакомому с Чеховым и беспомощно стоящему перед многотомными изданиями, разобраться в них.
Кроме того, готовятся:
1. «Антон Чехов. Фотографии, рисунки, документы».
2. «Драма на охоте» — для детективной серии карманных изданий «ДТБ».
3. «Ранние рассказы». Рассказы частично 1886—1887 гг., не переведенные еще на немецкий язык.
4. «Ранние юмористические рассказы». В большинстве своем, первые публикации на немецком языке, строго отобранные.
5. «О Чехове». Сборник документов об отношениях к Чехову, возможно, дополненный другим томом — «Чехов в воспоминаниях современников».
Антон Чехов. Драмы. Книга из библиотеки Метерлинка
Программа спектакля «Три сестры». 1940
Программа водевиля «Медведь». Фридрихвольфтеатер
Платонов. Берлин, Максимгоркитеатер, 1984. Постановка Т. Ладхофф
Леший. Лейпциг, Штадттеатер, 1960. Постановка Х. Шмицека
Чайка. Берлин, Дойчестеатер. 1980 Постановка В. Хайнца
Дядя Ваня. Берлин, Дойчестеатер, 1972. Постановка В. Хайнца
Три сестры. Лейпциг, Шаушпильхаус. Программа
Три сестры. Берлин, Максимгоркитеатер, 1979. Постановка Г. Ландхоффа. Маша — У. Вернер, Ольга — М. Леннарто, Ирина — С. Шёнфельд
Три сестры. Лейпциг, Шаушпильхаус, 1984. Постановка Т. Кишветтера
Вишневый сад. Лейпциг, Дойчестеатер (камерная сцена), 1966. Постановка Х. Шмицека
Вишневый сад. Берлин, Дойчестеатер, 1961. Инсценировка Г. Ландхоффа
Примечания
1. Dick G. Čechov in Deutschland. Berlin: Dissertation, 1956.
2. Bednarz K. Theatralische Aspekte der Dramenübersetzung. Dargestellt am Beispiel der deutschen Übertragungen und Bühnenbearbeitungen der Dramen Anton Čechovs. Wien: Verlag Notring, 1969.
3. Dick G. Op. cit. S. 181.
4. Bednarz K. Op. cit. S. 107.
5. Rischbieter H. Russische Stücke auf deutschen Bühnen. Beitrag zum Düsseldorfer Kolloguium vom 12.10.1982. Цит. по рукописи, находящейся в архиве автора настоящей статьи.
6. Jenny U. Der Pleitgeier Uber dem Haus // Spiegel. 1981. № 28. S. 155.
7. Fischer K. Dichters Transpiration // Stuttgarter Zeitung. 1983.2.4.
8. Lauer R. Aphorismen und Kürzestgeschichten. Anton Čechovs Tagebücher // Frankfurter Allgemeine Zeitung. 1983. 14.3.
9. В 1960 г. в Базеле уже были поставлены «Чайка» и «Вишневый сад». За ними в 1969 г. последовал «Дядя Ваня». В 1971 г. — еще одна постановка «Вишневого сада». В том же году — «Чайка», в 1973 — «Платонов», тогда же — «Три сестры».
10. Insel-Bücherei. Bd. 258. Leipzig / Übersetzung von Röhl H. 1919, 1925.
11. Sämtliche Angaben nach dem Katalog. Fünfzig Jahre Insel-Bücherei. 1912—1962 / Bearbeitet von Sarkowski H. Frankfurt: Insel-Verlag, 1962.
12. Bednarz K. Op. cit. S. 108, 113, 121.
13. Это письмо опубликовал Вольф Дювель в своей монографии о Чехове. Там был, правда, напечатан не французский оригинал, а немецкий перевод письма (Anton Tschechov — Dichter der Morgendämmerung. Halle, 1961).
Об отношении Рильке к России подробнее см.: Brutzer S. Rilkes russische Reisen. Dissertation. Königsberg, 1934. Neuauflage Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1969.
14. Luther A. Russische Literatur (Einfluß auf die deutsche) // Merker/Stammler. Reallexikon der deutschen Literaturgeschichte. Berlin, 1928/1929. Цит. по: Dick G. S. 1971.
15. Dick G. S. 176—177.
16. Idem. S. 171—173.
На это указывал еще К. Герман в 1938—1939 гг.: Hermann K. Blättern des Deutschen Theaters und der Kammerspiele. Zitiert nach Dick. S. 172.
В библиотеке Гауптмана, хранящейся в Государственной библиотеке в Берлине, имеются три книги Чехова: Drei Schwestern Übersetzt von Scholz A. Berlin: Edelheim Verlag, 1902; Langweiligen Geschichte. InselBücherei. Leipzig, 1925; der Werkausgabe bei Eugen Diederichs. Band 3. Jena, 1902.
17. Kerr A. Das Mimenreich. Der Werkausgabe «Die Welt im Drama». Bd. 5. Berlin: S. Fischer Verlag, 1917. S. 20.
Керр произнес эту речь 22 декабря 1912 г. в «Лессингтеатер», в Берлине.
18. Hauptmann G. Diarium 1917—1933 / Herausgegeben von M. Machatzke. Berlin: Propyläen Verlag, 1980. S. 182.
19. Брехт Б. Покупка латуни. 1937—1951 // Gesammelte Werke. Bd. 16. Schriften zum Theater 2, werkausgabe der edition suhekamp. Frankfurt, 1967. S. 514.
20. Письмо Брехта к Дональду Огдану Стюарту (осень 1945 г.) // Brecht B. Brife / Hrsg. von Glaeser G. Frankfurt: Suhrkamp Verlag, 1981.
21. Heresch E. Schnitzler in Rußland. Wien, 1982. S. 39. Е.Л. Оболенский озаглавил свою рецензию на «Трилогию» Шницлера «Немецкий Чехов» (Новеллист. М., 1900—1901. Август).
22. Е. Хереш датирует разговор Норвежского со Шницлером 1909 годом, гастроли МХАТа проходили в Берлине весной 1906 г. Очерк О. Норвежского был напечатан в петербургском журнале «Литературные силуэты» в 1909 г. (Heresch E. Op. cit. S. 95).
23. Heresch E. Op. cit. S. 97.
24. Publikation der Tagebuchstellen Schnitzlers in diesem Band.
25. Musil R. Gesammelte Werke. Bd. II. Essays und Reden, Kritik / Hrsg. v. A. Frise. Reinbek: Rowohlt Verlag, 1983. S. 1561.
26. Суворин А.С. Дневник / Ред., предисл. и примеч. Л.Д. Френкель. 1923. С. 294.
27. Ср. переписку Чехова с его переводчиком Владимиром Чумиковым во второй кн. наст, тома; ср. также все более раздраженные высказывания Чехова о М. Феофанове и других немецких переводчиках, а также, конечно, его замечания по поводу «Вишневого сада» в Германии в письме к О.Л. Книппер от 4 марта 1904 г. Сейчас уже можно написать работу «Чехов и его немецкие переводчики», опираясь на 30-томное академическое издание.
28. Кроме тома пьес, вышедшего в «Собрании сочинений» издательства «Дидерихс» (1902), где в переводе В. Чумикова были напечатаны «Три сестры», «Дядя Ваня», «Чайка», в 1902 г. отдельными изданиями для театров вышли «Чайка» (перевод М. Бенека. Берлин); «Чайка» и «Три сестры» (переработанные для немецкой сцены Г. Штюмке. Лейпциг). В Берлине — еще один «Дядя Ваня» (пер. А. Шольца), а также «авторизованный перевод» Шольца «Трех сестер».
29. Höber E. Tschechow als Dramatiker / Literarisches Echo. 1902.4.20. Sp. 1395—1397.
30. O гастролях Художественного театра в 1906 и 1922 гг. см. подробнее: Watanabe T. Gastspiele des Moskauer Künstlertheaters im deutschsprachigen Gebiet Wien. Diss. 1972.
31. Бреслау, театр «Лобе», 1 ноября 1902. В пер. Г. Штюмке, один спектакль.
32. Берлин, «Геббельтеатер», 13 апреля 1909. В пер. Г. Штюмке, режиссер — Ойген Роберт, пять спектаклей.
33. Мюнхен, театр «Шаушпильхаус», 23 марта 1903. В пер. В. Чумикова, один спектакль.
34. Берлин, «Берлинер театер», 1 октября 1905. В пер. В. Шольца, режиссер — Ф. Бонн, четыре спектакля.
35. Kerr A. Stanislawskis Kern. 18.3.1906. Zit. nach: Kerr A. Die Welt im Drama. Bd. 5. Berlin: S. Fischer, 1917. S. 230.
36. Kerr A. Op. cit. S. 231.
37. Jacobsohn S. Die Russen // Schaubühne. 8.3.1906. S. 274, 275, 276.
38. Jacobsohn S. Berliner und Russen // Schaubühne. 29.3.1906. S. 369.
39. Kerr A. Stanislawskis Kern. Op. cit. S. 228.
40. Kerr A. Stanislawski // Gedenken. 1.4.1906. Op. cit. S. 240.
41. Kerr A. Die Möwe. 15.4.1909. Zit. nach: Kerr A. Die Welt im Drama. Bd. 3. Berlin: S. Fischer, 1917. S. 234.
42. Jacobsohn S. Die Möwe // Schaubühne. 22.4.1909. S. 463—464.
43. Allgemeine Zeitung (München) vom 14.10.1911. Zit. nach: Bednarz K. Op. cit. S. 108.
44. Спектакль «Дядя Ваня» шел в пяти немецких театрах 17 раз, «Чайка» ставилась в восьми театрах (15 спектаклей); cp. Dick G. Op. cit. S. 236—237.
45. Письмо О. Брама к Шольцу впервые было опубликовано журналом «Theater heute». 1969. H. 8. S. 58.
46. Первый немецкий перевод «Вишневого сада» вышел в 1912 г. в издательстве Г. Мюллера в Мюнхене. Перевод был выполнен З. Ашкинази и, как доказал Г. Дик, Л. Фейхтвангером, который не упомянут в выходных данных издания (см.: Dick G. Op. cit. S. 87). Фейхтвангер, мюнхенский драматург и с 1908 г. — сотрудник Якобсона в «Шаубюне», в 1916 г. опубликовал в журнале критический анализ пьесы. Немецкоязычная премьера состоялась в Вене в театре «Нойе бюне» 12 октября 1916, режиссер — Э. Гайер; 9 декабря 1917 г. состоялась премьера «Вишневого сада» в театре «Мюнхенер каммершпиле».
47. Zabel E. Russische Kulturbilder. Op. cit. D. 157—158.
48. Dostoevskij F.M. Sämtliche Werke. Unter Mitarbeiterschaft von D. Merezkovskij, D. Filosofov und anderen / Hrsg. von Moeller van den Bruck. München: R. Piper. In 22 Bänden, deren letzte 1914/1915 erschienen.
49. Merežkovskij D.S. Der Anmarsch des Pöbels. Auszug in der Zeitschrift «Die Zukunft» (Bd. 59). Berlin, 1907. S. 108.
50. Feuchtwanger L. Der Kirschgarten // Schaubühne. 24.8.1916. S. 175—182.
51. В письме к Г. Дику от 15 апреля 1955 г. Фейхтвангер рассказывал о совместной с З. Ашкинази работе над переводом «Вишневого сада»: «...На него произвел впечатление мой немецкий, он предложил мне переводить пьесу вместе. Я знал по-русски только несколько слов; Ашкинази очень хорошо мог объясняться по-немецки, но он прекрасно осознавал, что этого недостаточно для художественного перевода. Итак, мы стали переводить вместе, и спорили до тех пор, пока нам не казалось, что мы смогли передать каждый нюанс» (см.: Dick G. Op. cit. S. 87).
52. Подзаголовок «Трагикомедия», который в течение многих лет сопровождал «Вишневый сад» по Германии происходит из первого издания 1912 г.
53. Feuchtwanger L. Op. cit. S. 181—182.
54. Polgar A. Der Kirschgarten // Schaubühne. 31.10.1916. S. 417—419. Об этом подробнее: Böhm G. Die Geschichte der Neuen Wiener Bühne. Wien. Diss. 1965. S. 224—230.
55. В. Дювель писал, например: «Блестящий успех «Вишневого сада» в берлинском «Фольксбюне» (постановка Фридриха Кайслера) осенью 1918 г. определенно связан с нарождающейся немецкой ноябрьской революцией» (Düwel W. Anton Tschechow — Dichter der Morgendämmerung. Halle, 1961. S. 167—168).
56. Grossmann S. Tschechov in der Volksbühne // Vossische Zeitung. 10.10.1918.
57. Lapp A. Volksbühne. Erstaufführung von Anton Tschechows Tragikomödie. Kirschgarten // Berliner Tageblatt. 10.10.1918.
58. Falk N. Der Kirschgarten // Berliner Zeitung. 10.10.1918.
59. Jacobsohn S. Ibsen und Tschechow // Weltbühne. 17.10.1918. S. 369—371.
60. Эта постановка только в Берлине шла 27 раз.
61. «Иванов» — Берлин, камерный зал «Дойчес театер», 17 октября 1919 г. Режиссер — Ф. Холлендер, в главной роли — А. Моисеи, в спектакле также участвовали — В. Краус, М. Гюльстроф, М. Файн, т. е. первый состав труппы.
62. Kerr A. Tschechow: Iwanow // Berliner Tageblatt. 18.10.1919.
63. Jacobsohn S. Schiller und Tschechow // Weltbühne. 30.10.1919. S. 544.
64. В 1961 г. был еще один «Иванов» в театре «Штедтише бюнен Аугсбург». Режиссер — Э. Зайльтген; постановка «Иванова» в студии «Бургтеатер» от 29 марта 1965 г. (режисссер — А. Беннинг) тоже не перешагнула рубеж четырех спектаклей.
65. Артисты Московского Художественного театра за рубежом. Прага. Наша речь. 1922. С. 9.
66. Watanabe Т. Op. cit.
67. Kerr A. // Berliner Tageblatt. 29.11.1921 und 4.1.1922.
68. Берлин, «Шиллер театер», 21 декабря 1926 г. С участием Л. Лоссен (Ольга), Л. Хефлих (Маша), Л. Маннхайм (Ирина) и Г. Мюллер (Наташа).
69. Faktor E. // Berliner Börsencourier. 22.12.1926.
70. Л. Маннхайм вспоминала о Ю. Фелинге: «После «Трех сестер» мы оба стояли на улице и рыдали, как это могут только очень молодые люди, от потрясения, что возможно так играть, что возможен такой театр. И мы поклялись, что будем такими же, как они. Фелинг позже по возможности избегал эти пьесы. Как-то я спросила его, почему. Он ответил, что «ах, какой же смысл в том, чтобы еще раз делать то, что я уже видел столь совершенным, лучше я все равно не сделаю»» (Theater heute. 1968.8).
71. Faktor E. // Berliner Börsencourier. 22.12.1926 (Abendausgabe).
72. Pinthus K. // 8 Uhr — Blatt. 22.12.1926.
73. Sarvaes F. // L.A. 22.12.1926.
74. Kerr A. // Berliner Tageblatt. 22.12.1926.
75. Zit. nach: Bednarz K. Op. cit. S. 116—117.
76. Авторы издательства «Малик»: Бабель, Эренбург, Гладков, Имбер, Катаев, Ильф и Петров, Коллонтай, Леонов, Лидин и др.
77. 16 мая 1933 г. газета «Берзенблатт дес дойчен буххандельс» передала «библиотекарям и комиссарам, проводящим чистку библиотек», «черный список». В нем, правда, было указано только 12 имен немецких авторов, смертельных врагов нацистов: это означало, что их произведения нужно было радикально уничтожить; изъятие книг прочих авторов было факультативно. Но немецкие чиновники работают основательно.
78. Die schwarze Liste // Münchner Neueste Nachrichten. 18.5.1933. Zit. nach: Wulf J. Literatur im Dritten Reich. Reinbek: Rowohlt Verlag, 1966. S. 64.
79. Единственным исключением стало новое издание сборника: Luther A. Auswahlband Erzählungen. Berlin, 1934.
80. Wulf J. Theater und Film im Dritten Reich. Frankfurt; Berlin; Wien, 1983. S. 250—251.
81. «Медведь» — Берлин, театр «Фольксбюне», 10 декабря 1940 г.; «Три сестры» — Берлин, «Дойчес театер», 2 января 1941 г.; «Дядя Ваня» — Вена, театр «Винер комедие», 1 ноября 1940 г.; «Медведь» и «Свадьба» — Мюнхен, 1940 г.; «Чайка» — «Ройсишер театер», 4 февраля 1941 г.
82. Единственная театральная рецензия из театрального архива В. Рихтера (Берлинская Академия Искусств), про которую известна только дата публикации: 19 ноября 1938 г.
83. Weichardt C. Berliner Morgenpost. 20.11.1938.
84. Vgl.: Dick G. Op. cit. S. 139—140; S. XVII des Vorworts von L. Borchard.
85. Tschechow A.P. Die Steppe. Köln: Staufen-Verlag. Предисловие датировано: Кельн, март 1940.
86. Брауншвейг расположен всего в нескольких километрах от Берлина.
87. Jhering H. Mit «Mutter Courage» im Westen. 5.10.1949. Jhering H. Theater der produktiven Widersprüche. 1945—1949. Berlin; Weimar: Aufbau-Verlag, 1967. S. 235.
88. Jhering H. Op. cit. S. 235.
89. Э. Энгель в 1949 г. вместе с Брехтом возвратился в Берлин.
90. Vgl.: Schauspielhaus Zürich 1938—1958 / Hrsg. von Hirschfeld K. und Löffler P. Zürich: Oprecht, 1958.
91. «Чайка» — Дюссельдорф, «Нойес театер ан ден штедтишен бюнен», 13 апреля 1948 г., 36 спектаклей.
92. Rheinische Post. 17.4.1948. Zit. nach: Bednarz K. Op. cit. S. 109.
93. S.R. Verflogene Möwe // Frankfurter Kundschau. 29.12.1959.
94. «Дядя Ваня» — Берлин, «Дойчес театер», 30 декабря 1945 г., режиссер — Эрнст Легаль, 19 спектаклей; «Медведь», «Свадьба» — Берлин, театр «Комедие», 27 октября 1946 г., режиссер — М. Фельдерн, Ферстер; «Вишневый сад» — Берлин, «Комедие», 27 февраля 1947 г., режиссеры — Э. Шталь, Нахбаур, 26 спектаклей; «Чайка» — Берлин, «Каммерщпиль дес дойчен театерс», 18 января 1949, режиссер — В. Шмидт, 27 спектаклей.
95. Karsch W. // Tagessriegel. 1.3.1947.
96. Neues Deutschland. 1.3.1947.
97. Tschechow A. Meistemovellen / Hrsg. von Schmeljow I. Aus dem Russischen von R(ebecca). Candreia; Zürich: Manesse Verlag, 1946.
98. Schmeljow I. Op. cit. S. 593, 600. Шмелев в начале своего предисловия: «Революция 1917 г. выключила его из запутанных жизненных перипетий, и теперь он на почетном отдыхе в истории литературы. Новому «советскому поколению: он уже не казался «своим», а казался лишним, непонятным... Считается, что сейчас молодое поколение тоже начинает читать, и даже любить его <...> но они вряд ли в состоянии постигнуть то скрытое, что таят его произведения. Однако что-то их к нему манит, но что-то и настораживает <...> Еще меньше Чехов понятен иностранцам».
99. Meistererzählungen und Neue Meistererzählungen / Übersetzt von Trautmann R. Leipzig: Dieterich, 1947 und 1949.
100. Trautmann R. Tschechow als Novellist. 1946 // Turgenjew und Tschechow. Ein Beitrag zum russischen Geistesleben, Leipzig, 1948.
101. Jermilow W. Tschechow. Berlin, 1961.
102. Trautmann R. Tschechow als Novellist. Op. cit. S. 63—64, 71.
103. Tschechow A. Schauspiele. М., 1947.
104. Düwel S. Anton Tschechow — Dicher der Morgendämmerung. Halle (Saalle). VEB Verlag Sprache und Literatur. 1961.
105. Jhering H. Entscheidungsjahre des deutschen Theaters // Theater der produktiven Widersprüche. Op. cit. S. 175. Речь перед интендантами советской оккупационной зоны (сентябрь 1948 г.).
106. Vgl. 100 Jahre Deutsches Theater Berlin. 1883—1983 / Hrsg. v. Kuschina M. Berlin: Henschelverlag, 1983. Ту же тенденцию мы можем наблюдать в 1960-х годах: один Чехов («Вишневый сад» — 1 октября 1961 г., режиссер В. Хайнц) против современных советских пьес (4), Горького (1), Гоголя (1), Островского (1), а также инсценировки Э. Пискатора «Войны и мира» Толстого.
107. См. статистическое исследование Х. Ришбитера в журнале Theater heute. 1963. 2. S. 22—26.
108. Luft F. Berliner Theater 1945—1961. Hannover: Friedrich Verlag, 1961.
109. Vellinghausen A.Sch. Theaterkritik 1952—1960 / Ausgewählt u. hrsg. von Rischbieter H. Hannover: Friedrich Verlag, 1961.
110. «Дядя Ваня» — Мюнхен, театр «Байришес штатсшаушпиль», 24 апреля 1958 г., режиссер — Х. Цайзер, 37 спектаклей.
111. Schumacher E. Onkel Überflüssig. Nachgedreickt in: Schumacher E. Theater der Zeit-Zeit des Theater. Thalia in den Fünfziger Jahren. München: Dobbeck Verlag, 1960. S. 70—71.
112. Drews W. Theater, Schauspieler, Regisseure, Dramaturgen, Intendanten, Kritiker, Publikum, Wien; München: Kurt Desch Verlag, 1961. S. 235.
113. Melchinger S. Tschechow. Velber deiu Hannover: Friedrich Verlag, 1968. S. 145.
114. Hilpert H. // Blättern des Deutschen Theaters. 1938. Zit. nach: der Kirschgarten — Kritik. Von. Weichardt C. // Berliner Morgenpost. 20.11.1938.
115. Kaiser J. Tschechow: kühl, wahr, herzbewegend // Süddeutschen Zeitung. 9.5.1967. S. 12. Речь идет о «Трех сестрах» в постановке Г. Гильперта (Мюнхен, театр «Байришес штатсшаушпиль», 7 мая 1967 г.).
116. Театральная энциклопедия (Fridrichs Theaterlexikon von A—Z, Velber, 1969) называет Петера Шарова (1887—1969) «итальянским режиссером русского происхождения». Он был среди тех актеров МХАТа, которые не вернулись в СССР. Шаров был художественным руководителем дюссельдорфского театра «Шаушпильхаус» (1927—1933), с 1953 г. жил в Италии.
117. Trautmann R. Vorwort zu Meistererzählungen. Leipzig, 1947. Zit. nach: Dick G. Op. cit. S. 160.
118. Tschechow A. Heitere Erzählungen. Berlin: Rüttern n. Loening, 1949. Klappentext.
119. Frankfurter Rundschau. 4.2.1960.
120. Tschechow A. Die Insel Sachalin. Übertragen v. einem Übersetzerkollektiv unter Leitung von Dick G. Berlin: Rütten und Loening, 1960.
121. Kuckoff A.G. Nachwort zu Kleine Romane. Bd. I. Berlin: Rütten und Loening, 1953. S. 483—503.
122. Die Insel Sachalin. Vorwort v. Dick G.S. 10.
123. Вольф Дювель, славист, составил в 1954 г. вместе с Гудрун Дювель чеховскую антологию: Tschechow. Ein Lesebuch für unsere Zeit. Weimar: Thüringer Volksverlag, 1954.
124. Tschechow A. Heitere Erzählungen. Aus dem Russischen von Guenther J. v. München. Goldmans Gelbe Taschenbücher Nr. 331. 1954.
125. Tschechow A. Werke. Ausgewählt, übersetzt und mit einem Nachwort versehen von Hoffmann R. Wien; München; Basel: Kurt Desch vertag, 1958.
126. В «Собрание сочинений» вошли пьесы: «Иванов», «Дядя Ваня», «Три сестры».
127. В издательстве «Реклам» выходили следующие книги Чехова: Der Kirschgarten. Schauspiel. RUB nr. 7690. 1957 (та же книга выходила в Лейпциге под тем же номером в 1952 г.); Der Sack hat ein Loch. Humoresken. RUB nr. 7801. 1953; Die Steppe. Beschreibung eiher Reise. RUB nr. 7809/10. 1956. (Stuttgart und Leipzig). Все переводы сделаны ф. Гюнтером. В переводе С. ф. Радецки: Drei Schwestern. RUB Nr. 4264; Der Bär. Der Heiratsantrag/ Die Hochzeit. RUB Nr. 4454.
128. Dick G. Op. cit. S. 168.
129. Guenter J. v. Nachwort zum Band: Der Sack hat ein Loch. Op. cit. S. 71.
130. Nachwort zu: Der Sack hat ein Loch. Op. cit.
131. ilbid. S. 72.
132. Arsenjew N. Die russische Literatur der Neuzeit und Gegenwart Mainz, 1929.
133. Мережковский цитирует оба письма Чехова к С.П. Дягилеву от 30 декабря 1902 г. и 12 июля 1903 г. Ср. публикацию в: Zukunft. Bd. 59. 1907. S. 111.
134. Впервые «Слово о Чехове» Т. Манна был опубликован в восточноберлинском журнале «Зинн унд форм» (1954, № 516); В 1955 г. это эссе включили в «Собрание сочинений» Манна, выпущенное издательством «С. Фишер» в ФРГ.
135. Reich-Ranicki M. Der traurigste Humorist der Welt-Literatur // Die Welt 15.1.1960.
136. Tschechow A. Dramen. Mit einem Essey «Zum Verständnis des Werkes» und einer Bibliographie von Geier S. Rowohlts Klassiker Band Nr. 61/62. 1960.
137. Laffitte S. Anton Tschechov in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten. Aus dem Französischen und Russischen von Kolmar-Kulleschitz F. Hamburg. Rowohlts monographien. Nr. 38. Januar 1960. Lizenzausgabe der Editions du Seuil. Paris.
138. Чайка» — театр «Шаушпильхаус», режиссер Х. Шалле; «Три сестры» — Берлин, «Шиллер театер», режиссер Б. Барлог; «Вишневый сад» — Вена, «Бургтеатер», «Академитеатер», режиссер И. Гилен. Наиболее удачной считалась берлинская постановка Барлога, выдержавшая 40 спектаклей.
139. Tschechow A. Religiöse Erzäglungen eines Atheisten. Übersetzt und herausgegeben von Guenther J. v. Kleine Russische Bibliothek. München: Heinrich Ellermann Verlag, 1962; Tschechow A. Werke. Novellen, Erzählungen, Dramen / Übersetzt und herausgegeben von Guenther J. v. München: Heinrich Ellermann Verlag, 1963. Bd. 1—3.
140. Guenther J. v. Op. cit. S. 855.
141. Vgl. J. Semjonow in der Einleitung zu J. v. Guenthers Anthologie «Neue russische Lyrik». Frankfurt. S. Fischer. Nr. 238. 1960. S. 5.
142. Guenter J. v. Op. cit. S. 852.
143. Op. cit. S. 852.
144. Guenther J. v. Op. cit. S. 855.
145. Braun R. Am Ende bleibt das Fragezeichen. Noch immer fehlt eine befriedigende Ausgabe der Werke Anton Tschechow // Pie Zeit. 6.3.1964.
146. Pörzgen H. Vom Tschechow zu Schestow. Mittler russischer Literatur // Frankfurter Allegemeine Zeitung. 1964. Nr. 51.
147. Kesting M. Das erische Theater. Stuttgart. Kohlhammer. 1959. Zit. nach: Taschenbuchausgabe von 1962. 2. Aufl.; Szondi P. Theorie des modernen Dramas. Frankfurt: Suhrkamp, 1956, 1959; hier zitirt nach der revidierten Ausgabe der «edition Suhrkamp» (Frankfurt, 1963). Оба произведения стали доступны широкой публике только после выхода карманных изданий.
148. Kesting M. Op. cit. S. 131.
149. Szondi P. Op. cit. S. 32.
150. Ibid. S. 35, 40, 139.
151. Tschechow A. Von Regen in die Traufe. Kurzgeschichten, aus dem Russ. v. Knipper A. und Dick G. Berlin: Rütten und Loening, 1964. Mit einem Vorwort von Dümel W. «Anton Tschechow — Leben und Werk»; Tschechow A. Der Kirschgarten. Dramen. Aus dem Russ. v. Düwel G. Berlin: Rütten und Loening, 1964.
152. Tschechow A. Die Insel Sachalin / Hrsg. von Dick G. Aus dem Russ. v. Knipper A. und Dick G.; Briefe. Hrsg. und aus dem Russ. von Knipper A. und Dick G. München: Winkler Verlag, 1971.
153. Nur als Bühnenmanuskript im Bühnenvertrieb F. Block Erben. Berlin. Премьера «Трех сестер» в этой обработке — Билефельд, театр «Штедтише бюнен». 20 декабря 1967. Режиссер — П.Ф. Визе.
154. Tschechow A. Dramatische Werke. Aus dem Russ. von Radecki S. v. Zürich: Diogenes, 1968.
155. Премьера состоялась 9 января 1965 г. Автор текста — Нельте по переводу Й. ф. Гюнтера.
156. Премьера — 6 января 1968 г. Немецкий текст П. Цадека по переводу Х. Ангаровой.
157. Theater Heute. 1968. Nr. 12. S. 1—4.
158. Ibid.
159. За исключением нескольких юмористических рассказов 1892 г., которые Чехов опубликовал в журнале «Осколки».
160. In dieser Ausgabe läuft der «Lešij» unter dem Titel «Der Waldteufel».
161. Здесь допущена единственная ошибка. Дювель пишет, что рассказ «Случай из практики» не публиковали буржуазные издательства. Но этот рассказ был опубликован в сборнике издательства «Мусарион» (составитель сборника и переводчик А. Элиасберг), хотя он не называется там в оглавлении (vgl. Von Frauen und Kindern. München, 1920. S. 195—212). Потом этот рассказ вошел в сборник Г.Х. Кайзера (Kaysser G.H. In Zwielicht des Lebens. Rottenburg, 1949. S. 106—122).
162. Vom Regen in die Traufe. Bd. I der GWIE. Berlin, 1964. Vorwort des Herausgebers. Anton Tschechow — Leben und Werk. S. 9.
163. Rehder P. Leben und Werk A.P. Tschechows // Dramen. Op. cit. S. 593—615.
164. Вишневый сад» — режиссер Гильперт, Дармштадт, 31 января 1962 г. Менее успешно поставил эту пьесу П. Люрс в мюнхенском театре «Каммершпиле» 18 марта 1962 г. Еще один «Вишневый сад» — в Ганновере в «Ландестеатер», 15 сентября 1962 г., режиссер — Д. Райбле.
165. Karasek H. Die Hölle Ibsens // Theater heute. 1965. Nr. 1. S. 19.
166. М. Батальон пишет, что в 1945—1972 гг. во Франции Чехов — один из самых «играемых» драматургов. По статистике он удерживает восьмое место (28 постановок) сразу после Ионеску и Лабиша (по 30 постановок) и перед классиком Расином (26 постановок) Silex. 1980. Nr. 16. S. 56.
167. Platonov» — имеется в виду пьеса «Безотцовщина». Всюду на Западе она известна под названием «Платонов». Уже в 1928 г. Р. Фюлеп-Миллер выпустил ее под названием «Этот никчемный человек Платонов». «Ce bou de Platonov» — название французской обработки пьесы (переводчик П. Квентин). Этот перевод использовал для своей постановки Жан Вилар. На немецкий обработку Квентина перевел Р. Шнорр, немецкое название — «Dieser Platonov» (театральное издательство «С. Фишер»). И хотя название «Vaterlosigkeit», вероятно, более адекватно, но ему уже не удастся пробиться сквозь «хлесткую силу» имени Платонов.
Премьера «Платонова» состоялась в декабре 1956 г. в Париже в театре «Шаллот». В роли генеральши — М. Казарес. В немецких театрах «Платонова» «открыли» в 1959 г., его по достоинству оценили театральные гурманы. Постановки: венский «Бургтеатер», 6 февраля 1959 г., режиссер — Э. Лотар, генеральша — К. Гольд, Платонов — Й. Майнрад; штутгартский «Штатстеатер» в апреле 1959 г., режиссер — Г. Хенель, в роли Анны Петровны — Э. Фликеншильдт. Премьера постановки Штрелера состоялась 27 апреля 1959 г. в миланском «Пикколо театро».
168. Премьера — в начале 1961 г.
169. Theater Heute. 1967. Nr. 9. S. 19.
170. В постановке Л. Оливье с Ж. Плоурайт, в роли Маши — Г. Джексон.
171. Три сестры» — премьера в штутгартском «Штатстеатер», 5 января 1965 г., режиссер — Рудольф Нёльте.
172. Три сестры» — премьера в пражском театре «Дивадло за брано», режиссер — Отомар Крейча.
173. Чайка» — премьера в мюнхенском театре «Каммершпиле» 25 мая 1966 г., режиссер — В. Шмидт. В журнале «Театер хойте» З. Мельхингер поместил подробную рецензию на эту постановку. Там же напечатана прекрасная статья В. Шмидта «Опыты с Чеховым», однако не все идеи отсюда были воплощены в постановке (Melchinger S. Die Apologie der leisen Wahrheit; Schmidt W. Erfahrungen mit Tschechow // Theater Heute. 1966. Nr. 7).
174. Schmidt W. // Theater Heute. 1966. Nr. 7. S. 22—23.
175. Вишневый сад» — премьера состоялась в штутгартском «Вюртембергише штатстеатер» 6 января 1968 г.
176. В дискуссии о Чехове обсуждался вопрос о допустимости изменений в классических текстах (vgl. Rischbieter H. Tschechow — Forderungen // Theater heute. 1968. Nr. 3; Melchinger S. // Theater heute. 1968. Nr. 4).
177. Rischbieter H. Die Wahrheit, leise und unerträglich // Theater heute. 1965. Nr. 3. S. 24—30.
178. Бентли рекомендовал дольше оставлять постановку в репертуаре театра, «для того, чтобы как можно больше людей смогли усвоить ее уроки» (Bently E. Blick von draussen. Der Berliner Theaterwettbewerb // Theater heute. 1965. Nr. 6. S. 20). По моим данным, штутгартская постановка игралась всего 18 раз.
179. Ю. Коста: Наташа в постановке Нёльте и Шарлотта в постановке Цадека. Э. Шварц: Маша, Варя, Г. Людерс: Кулыгин, Гаев, П. Роггиш: Соленый / Трофимов. Г. Манке: Чебутыкин/Фирс.
180. Jenny U. Zadekals Gärtner // Süddeutsche Zeitung. München. 8.1.1968.
181. Rischbieter H. Tschechow-Forderungen // Theater heute. 1968. Nr. 3. S. 44.
182. В 1970 г. Р. Нёльте еще раз поставил «Трех сестер» в кельнском театре «Бюнен дер штадт Кельн» (24 апреля 1970 г.). В том же году он поставил «Вишневый сад» в мюнхенском театре «Байришер штатсшаушпиль (20 июня 1970 г.). В сентябре 1973 г. П. Цадек поставил «Чайку» в бохумском театре «Шаушпильхаус».
183. Помимо «Трех сестер» Цадека в дюссельдорфском театре (режиссер Э. Аксер), были еще и «Три сестры» в театре «Штедтише бюнен Билифельд», режиссер — Петер фон Визе.
184. Ришбитер сопоставлял переводы ф. Гюнтера, ф. Радецки и Х. Ангаровой. Перевод последней он считал наиболее «приемлемым». Далее он анализирует новый перевод коллектива Института славистики г. Киля (под руководством У. Буша). Он сравнивает этот перевод с обработкой, которую Р. Нёльте положил в основу своей постановки, так же, как и П. Цадек еще раз переработал для театра перевод Х. Ангаровой. Примечательно, что Ришбитер не анализирует перевод Г. Дювель, который опубликовали уже в 1964 г. Более четкое сравнение переводов пьес Чехова на немецкий язык, особенно с точки зрения их «пригодности» для сцены, дает в своей диссертации К. Беднарц.
185. Theater heute. 1968. Nr. 12. S. 1—4.
186. Melchinger S. Anton Tschechow. Velber: Friedrich Verlag, 1968 (Friedrichs Dramatiker des Welttheaters. Bd. 57).
187. Мельхингер писал: «Станиславский не понял не только чеховское «как», о котором он писал в своих мемуарах, что оно еще не началось, но Станиславский не понял чеховское «что». Он испортил это, фиксируя на сцене отдельные элементы, которые, правда, есть в произведениях Чехова, однако были совершенно неверно интерпретированы Станиславским» (Melchinger S. // Theater heute. 1968. Nr. 12. S. 2).
188. Melchinger S. Op. cit. S. 2.
189. Op. cit. S. 4.
190. Brook P. The Empty Space. London, 1968.
191. Немецкий перевод появился осенью 1969 г. (издательство «Хоффманн и Кампе», Гамбург).
192. Brook P. Der leere Raum. Hamburg, 1969. S. 114—115.
193. Karsch W. // Der Tagesspigel. Berlin, 7.11.1954. Zit. nach: Bednarz K. Op. cit. S. 129.
Рецензия на постановку «Чайки» в берлинском театре «Ам Курфюрстендамм», режиссер — О.Ф. Шу. Пьеса в переводе А. Шольца.
194. Weigel H. Viele Kirschen verderben den Garten // Illustrierte Wiener Kronenzeitung. 17.2.1960.
Рецензия на постановку «Вишневого сада» Й. Гилена в венском театре «Академитеатер».
195. Rischbieter H. Tschechow — Forderungen. Op. cit.
196. Bednarz K. Op. cit. S. 130.
197. Эта работа была опубликована в серии «Dissertationen der Universität Wien» im Wiener Notring Verlag. Если я не ошибаюсь, то я был единственным рецензентом этой работы и неоднократно предлагал ее читателям (см.: Frankfurter Allgemeine Zeitung. 22.9.1970; Theater heute. 1972. Nr. 5).
198. Bednarz K. Op. cit. S. 159.
Цитируется перевод Й. ф. Гюнтера.
199. Op. cit. S. 204.
200. Балухатый С.Д. Проблемы драматического анализа. Чехов. Л., 1927; Он же. К истории текста и композиции драматических произведений Чехова // Известия отделения русского языка и словесности. Т. XXXII. Л., 1927.
201. Генрих Штюмке (1872—1923) — переводчик, критик. С 1898 по 1913 г. издавал в Берлине журнал «Бюне унд Вельт». Перевел «Чайку» и «Трех сестер», обе пьесы снабдил подзаголовком: «Обработано для немецкой сцены». Беднарц пишет, что оба перевода «находятся практически вне всяких возможных рамок оценки качества. Это даже не перевод, а собственные работы по мотивам драматургии Чехова» (с. 238). Но нельзя недооценивать вклад Штюмке в дело популяризации драматургии Чехова: он неоднократно писал о Чехове, особенно часто в журнале «Бюне унд Вельт».
202. Беднарц пишет о переводе Чумикова «Чайки», «Дяди Вани» и «Трех сестер»: «Перевод точный, хотя и довольно свободный, устарел язык только нескольких небольших пассажей. Но в целом стиль перевода очень живой и приемлемый для театральной сцены» (с. 240). Однако переводы Чумикова побывали на сцене только дважды: 1903 г. — «Дядя Ваня» (Мюнхен) и 1904 г. — «Чайка» (Эберфельд). Пытаясь найти тому причины, Беднарц предполагает, что основная из них — «правовые издательские установки». Издательство «Дидерихс» было сравнительно молодым и не обладало большим опытом в театральной сфере. «Кроме того, в отличие от Чумикова, Штюмке и Шольц пользовались известностью в литературных кругах и у них наверное были лучшие связи с ведущими театрами немецкоязычной области» (с. 241).
203. Guenther J. v. // Tschechow A. Werke. Bd. 3. S. 618.
204. Scholz A.: Tschechow A. Der Kirschgarten, Berlin: o. J. Ladyschnikow Verlag. S. 51.
205. Düwel G. // Tschechow. Der Kirschgarten. Dramen. S. 381.
206. Все эти редакции, переводы, обработки, как и прежде, находятся на книжном и на театральном рынке. По закону издательство владеет правами на произведение в течение 70 лет. Таким образом, издательства до сих пор функционируют по тому же принципу, что и во времена Чехова (издательство Рассохина и др.). Поэтому все эти переводы и теперь находятся в распоряжении немецкоязычного Запада. Их предлагают разные театральные издательства, и они конкурируют друг с другом. Перевод Шольца представляет издательство «С. Фишер», ф. Гюнтера — «Драй маскен», Гоффманна — «Деш», ф. Радецки — «Диогенес», Дювеля — «Штауфшер».
207. Bednarz K. Op. cit. S. 241. Беднарц сообщает, что он «видел такие режиссерские сценарии (например, сценарий постановки «Трех сестер» Фелинга в 1926 г. — в театральном архиве Немецкой Академии Искусств в Восточном Берлине), которые сейчас нельзя использовать не изменив там каждое слово».
208. Перевод «Дяди Вани» А. Лутера опубликован в составленной им же антологии (Meisterwerke der russischen Bühne. Leipzig: Bibliographisches Institut, 1922). По этому переводу играли в 1923 г. в Любеке, в 1925 г. в Гере, в 1926 — в Берлине, а также в 1940 и 1945 в Вене. Авторские права держит издательство «Штайер».
209. Bednarz K. Op. cit. S. 247—248.
210. Ibid. S. 251.
211. Ibid. S. 252. Беднарц имеет в виду предложение «Варя, он сделал предложение» из 1-го акта «Вишневого сада». Перевод: «Sag, Varja, ist er nun endlich mit der Sprache herausgerückt? Hat er Dir einen Antrag gemacht?»
212. Bednarz K. Op. cit. S. 258.
213. Bednarz K. Op. cit. S. 256—257.
214. Ibid. S. 262.
215. Имеется только неопубликованный постановочный сценарий в берлинском театральном издательстве «Феликс Блох Эрбен». Премьера по этой обработке состоялась 20 декабря 1967 г. в Билефельде в театре «Штедтише бюнен». Режиссер — П.Ф. Визе. Затем последовали «Три сестры» в обработке кильских славистов, позже — «Чайка» и «Вишневый сад».
216. Busch U. Zum Stück und zur Übersetzung. Aufsatz im Programmheft der Bühnen Bielefeld 1967. S. 2—11.
217. У. Буш называет несколько примеров: «Уже в первом акте оригинала сестры говорят «сквозь слезы», а именно в тот момент, когда Маша прощается с гостями. Мы не даем ей здесь плакать и дальше стараемся сдерживать ее слезы. Таким же образом мы приглушаем у всех действующих лиц вспышки ярости или радости, равно как и другие патетические эмоциональные обороты речи. Например, когда Наташа в 3-м акте прогоняет Анфису, она в нашей обработке не произносит ругательства «Diebin», «alte Wachtel», которые употребляются в тексте оригинала. Мы не позволяем ей топать ногами. И вместо угрозы «Man soll sich nicht unterstehen, mich zu reizen», он произносит более нейтральное предупреждение «Ich kann auch anders»».
218. Rischbieler H. Tschechow — Forderungen. Op. cit.
219. Brook P. A propos de Tschekhov // La Cerisaie. Collection Créations théâtrales. Paris, 1981. S. 107. Программка к постановке П. Брука в парижском театре 5 марта 1981 г.
220. Вишневый сад» — театр «Фрайе Фольксбюне», Берлин, 30 ноября 1969, режиссер — К. Пайман.
221. Luft F. Voll ins stille, weiche Herz getroffen // Die Welt. Hamburg. 2.12.1969.
222. Помимо «Вишневого сада» Паймана (1969/1970) эта пьеса была поставлена Р. Нёльт в Мюнхене, Г. Литцау в Гамбурге. В Кёльне Нёльте поставил «Три сестры»; в Штутгарте Н.П. Рудольф — «Дядю Ваню»; в Берлине М. Фрид — «Три сестры», в Эссэне К. Деймек — «Чайку».
223. График П. Флора на вопрос о любимом писателе ответил: «Многие, в настоящий момент — Чехов (письма)». Искусствовед В. Хофманн на тот же вопрос: «Штифтер, Флобер, Музиль, Чехов». На вопрос о том, каким событием он больше всего восхищается, писатель К. Мекель ответил: «Путешествием Чехова на Сахалин и последствиями этого путешествия».
224. Raddatz F.J. (Hrsg.) Die Zeit-Bibliothek der 100 Bücher. Frankfurt am Mein: Suhrkamp Verlag, 1980 (Suhrkamp taschenbuch Nr. 645).
225. Burri P. Emilia hört das Klagen // Frankfurte Allgemeine Zeitung. 18.2.1984.
226. Tschechow tanzt Tango. Anonymes Interview mit Josefina in der Berliner Stadtzeitung Tip. 1984. Nr. 4.
227. № 8 и 9 журнала «Театер хойте» за 1968 г. дают лишь слабое представление о бушевавших страстях (директор театра А. Эвердинг запретил собрание). Собрание должно было состояться в связи с премьерой пьесы П. Вайса «Viet Nam Diskurs» в мюнхенском театре «Каммершпиле».
228. Rischbieter H. Trofimof, der Revolutionär // «Theater heute». Velber b. Hannover. Sommer 1970. S. 65—66.
229. В начале 1970-х годов П. Цадек возглавил театр «Шаушпильхаус» г. Бохума. П. Палицш, который в 1966 г. был художественным руководителем штутгартского театра, в 1972 г. возглавил театр Франкфурта, в котором проводился эксперимент самоуправления. К. Пайман, бывший раньше членом дирекции франкфуртского театра «Ам Турм», тоже руководимого по принципу самоуправления, в 1974 г. принял руководство «Вюртембергишем штатстеатер» Штутгарта. В том же году Р.В. Фассбиндер стал художественным руководителем франкфуртского театра «Тат».
230. Три сестры» — театр «Шаубюне ам Ленинер Платц», 4 февраля 1984 г., режиссер — П. Штайн. «На проселке» — театр «Шаубюне ауф дер Пробебюне Кувриштрассе», 14 февраля 1984, режиссер — К.М. Грюбер.
231. Штайн выбрал для своего заявления радиодискуссию со школьниками, которые упрекали его за то, что свой дворец на Курфюрстендамм он превратил в «театр для элитарной верхушки». Немецкая критика тоже не баловала Штайна в последние годы. Vgl.: hier zu FR und FAZ vom 5, 6 März 1984; Die Zeit vom 9.3.1984; Spiegel. 1984. Nr. 11.
232. «Вишневый сад» — театр «Байришес штатсшаушпиль», Мюнхен, «Резиденцтеатер», 20 июня 1970 г. А за три дня до этого, 17 июня 1970 г. состоялась премьера «Вишневого сада» Г. Литцау в гамбургском театре «Дойчес шаушпильхаус».
233. Три сестры» — театр «Бюнен дер штадт Кельн», 24 апреля 1970 г.
234. Melchinger S. Zweimal der halbe Kirschgarten // im Jahressonderheft 1970 von «Theater heute.» S. 60—62.
235. Подробнее см.: Rischbieter H. Trofimov, der Revolutionär. Op. cit.
236. Rischbieter H. Op. cit.; Melchinger S. Das gelebte Leben // Jahressonderheft. 1970. S. 63—64. К таким попыткам Ришбитер причисляет и постановку «Дяди Вани» в штутгартском театре (режиссер — Н.П. Рудольф). Мельхингер писал об этом спектакле: «Это — удивительно ясная, стилистически выдержанная, очень последовательная режиссерская работа».
237. Мюнхенские театральные критики всегда проявляют некоторый местнический патриотизм, если речь идет об их театре и их театральных деятелях. А Г. Литцау с 1964 по 1969 г. возглавлял мюнхенский театр «Байришес Штатсшаушпиль».
238. Kaiser J. Lietzaus Kirschgarten — entlaubt und ein wenig sperrig // Süddeutsche Zeitung von 19.6.1970.
239. См.: «Seelenmusik ohne Komödien — Dissonanzen, ebd. 22.6.1970.
240. Литцау ставил спектакль по новому переводу издательства «Ферлаг дер ауторен». Нёльте — по изготовленной им же самим редакции пьесы.
241. См. об этом уже цитировавшуюся статью Ришбитера о Трофимове. Кроме того: Henrichs B. Der zärtliche Pessimist // Jahressonderheft der «Theater heute.» 1970. S. 54—59. Генрихе подробно рассматривает брошенные Нёльте упреки в том, что все действие спектакля развертывается в комнатах: «Если он и в «Вишневом саду», как и в «Трех сестрах», ставит спектакль, не меняя декорации, то причина этого весьма скромная. Нёльте считает, что с помощью сценических средств можно реалистично воссоздать помещение, но никак не сад или парк. Поэтому заблуждаются те интерпретаторы, которые пытаются усмотреть в неизменных декорациях близость трагической развязки...»
242. Reich-Ranicki M. Viele Könner verderben den Brei // Die Zeit. Hamburg. 4.6.1971.
243. Gerlach H.E. Noelte — eine Gefahr für das Theater? Die Zeit. 18.6.1971. Уже в выпуске журнала от 4 июня 1971 г. умеренный театральный критик Х. Карасек заявил в редакционной справке, что он «совершенно по-иному оценивает раскритикованные спектакли, особенно постановку Нёльте «Вишневого сада», нежели Марсель Рейх-Раницки».
244. Pavel H.J. // Die Zeit. 18.6.1971.
245. Reich-Ranicki M. In Sachen Noelte und Tschechow // Die Zeit. 2.7.1971.
246. Noelte R. Der rote Kirschgarten. Wie Kritiker und Übersetzer Tschechow verfälschen, um aus ihm einen Vorläufer des Kommunismus zu machen // Die Welt. Hamburg. 9.10.1971.
247. Ibid.
248. Urban P. Rudolf Noelte sieht Gespenster // Die Welt. 11.12.1971. Redaktioneller Obertitul «Noch einmal in Sachen Tschechow: Hat die zaristische Zensur seine Werke verfälscht?».
249. Noelte R. Beweise, Herr Urban, Beweise! // Die Welt. 11.12.1971.
250. Kosny W. Tschechows Kirschgarten und die zaristische Zensur // Theater heute. H. 55. 1972. S. 31.
251. Die Möwe», «Der Waldschrat», «Onkel Vanja» und «Der Kirschgarten», sämtlich «Neu übersetzt und herausgegeben von P. Urban. Zürich: Diogenes Verlag, 1973. Diogenes Taschen Buch. Nr. 50. I—IV.
252. Цена книг серии «ДТБ», в зависимости от объема: 4.80 ДМ — 6,80 ДМ. Цена карманных изданий. «Реклам»: 2,20 Д.М.
253. «Drei Schwestern», «Platonov» und «Ivanov», Zürich, 1974. Nr. 50. V—VIII; Sämtliche Einakter. Bd. 50. VIII. 1980.
254. Рецензенты этого издания особенно выделяли подборку материала в примечаниях и редакторскую работу (Pross-Weerth H. // Frankfurter Allgemeine Zeitung. 9.10.1973). И. Длугош писал о качестве перевода: «На уровень этого перевода могут ориентироваться переводчики других русских авторов. Перевод очень точный, верно воспроизводит особенности речевого стиля Чехова. Наконец-то исчезла «болтливость» ранних переводов Чехова, которую нам объясняли «широтой русской души». И вместе с этой болтливостью преодолевается и сентиментальное, полюбившееся нам представление о Чехове как о слабом, безвольном человеке, столь же беспомощным перед жизнью, как и «Дядя Ваня» (Dlugosch J. // Neuen Züricher Zeitung. 16.9.1973). Тон других рецензий ясен уже из названий публикаций: «Tschechow deutsch und doch nicht rührseling» (Szenessy M. // Frankfurter Allgemeine Zeitung. 27.4.1974); «Aus Tschechow wird wieder Čechov» (Dlugosch J. // Deutsche Zeitung. 5.7.1974); «Aud Tschechow folgt Čechov (Werth W. // Süddeutsche Zeitung. 29.5.1974); «Komödien statt Seelenschmerz (Terry T. Rheinische Post. 16.11.1974) usw.
255. Čechov A. Das erzählerische Werk / Hrsg. von Urban P. Aus dem Russischen von Dick G., Knipper A., Düwel W., Pfeiffer M., Schulz H. v. Zürich: Diogenes Verlag, 1976. Nr. 50. XI—XX.
256. В каждом томе имеются: издательская справка, список журналов и газет, в которых публиковались рассказы, таблица русских мер и весов, справки о русских праздниках, церковных праздниках, постах; русский табель о рангах, чеховский «литературный табель о рангах», а также список непереведенных слов и понятий.
257. Čechov A. Briefe / Hrsg. und übersetzt von Urban P. Zürich: Diogenes Verlag, 1979.
258. Эта премия присуждается каждые два года в память о переводчике Х.М. Бреме. Мне ее вручили 22 ноября 1980 г. в г. Бергнойштадте (Vgl. meine Dankesrede, abgedruckt in «Theater heute». 1981. Nr. 1).
259. Chekhov A. Letters on the short story, the drama an the other literary topics. Selected and edited by Louis S. Friedland. New York: Dover publications, 1966 (Neudruck der Ausgabe 1924 von); Letters of Anton Chekhov. Selection, commentary and introduction by S. Karlinsky. London: The Bodley Head, 1973; Lettersof Anton Chekhov». Selected and edited by A. Yarmolinsky. New York: Viking Press, 1973.
260. Urban P. Čechov-Chronik. Daten zu Leben und Werk. Zürich; Diogenes Verlag, 1981.
261. Čechov A. Tagebücher, Notizbücher. Hrsg. und übersetzt von Urban P. Zürich: Diogenes Verlag, 1983.
262. Neue Zürischer Zeitung. 11.9.1981; 8.10.1983.
263. Lobeck R. Ausweg in die Kunst Geld, Alltag, Literatur — Anton Čechov Briefe // Deutsche Volkszeitung. 19.3.1981.
264. Brang P. Anm. 48; Döring-Smirnov J.R. Von Verlieren der gesuchten Zeit // Süddeutsche Zeitung. 21.5.1980.
265. Как было упомянуто, в конце 1970-х гг. франкфуртское издательство «Инзель» переиздало старые переводы Р. Траутманна и В. Йоллоса в серии «Insel taschenbuch». Следует отметить и два новых перевода: Ivanov. Überzetzt von Borowsky K. Stuttgart: Reclams Universal Bibliothek. Nr. 7740. 1981; Der Kirschgarten. Deutsch von Brasch T. Im Theateralmanach des Suhrkamp Verlags «Spectaculun» Nr 36. Frankfurt am Main, 1983.
266. Wolffheim E. Anton Čechov in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten. Reinbek: Rowohlts monographien. Nr. 307. 1982.
267. Anton Pawlowitsch Tschechow, Porträts Melichowo, Jalta, Texte, zur «Drei Schwestern» — Aufführung der Schaubühne am Lehniner Platz. Berlin, 1984. IV. 45 Blatt und Beilage «Auf dem Wagen»; Anton Pawlowitsch Tschechow und das Ensemble Konstantin Sergejewitsch Stanislawskis. Die Stücke Anton Tschechow in den Inszenierungen des Moskauer Künstlertheaters. Berlin, Schaubühne am Lehniner Platz. 1984.
| Предыдущая страница | К оглавлению | Следующая страница |