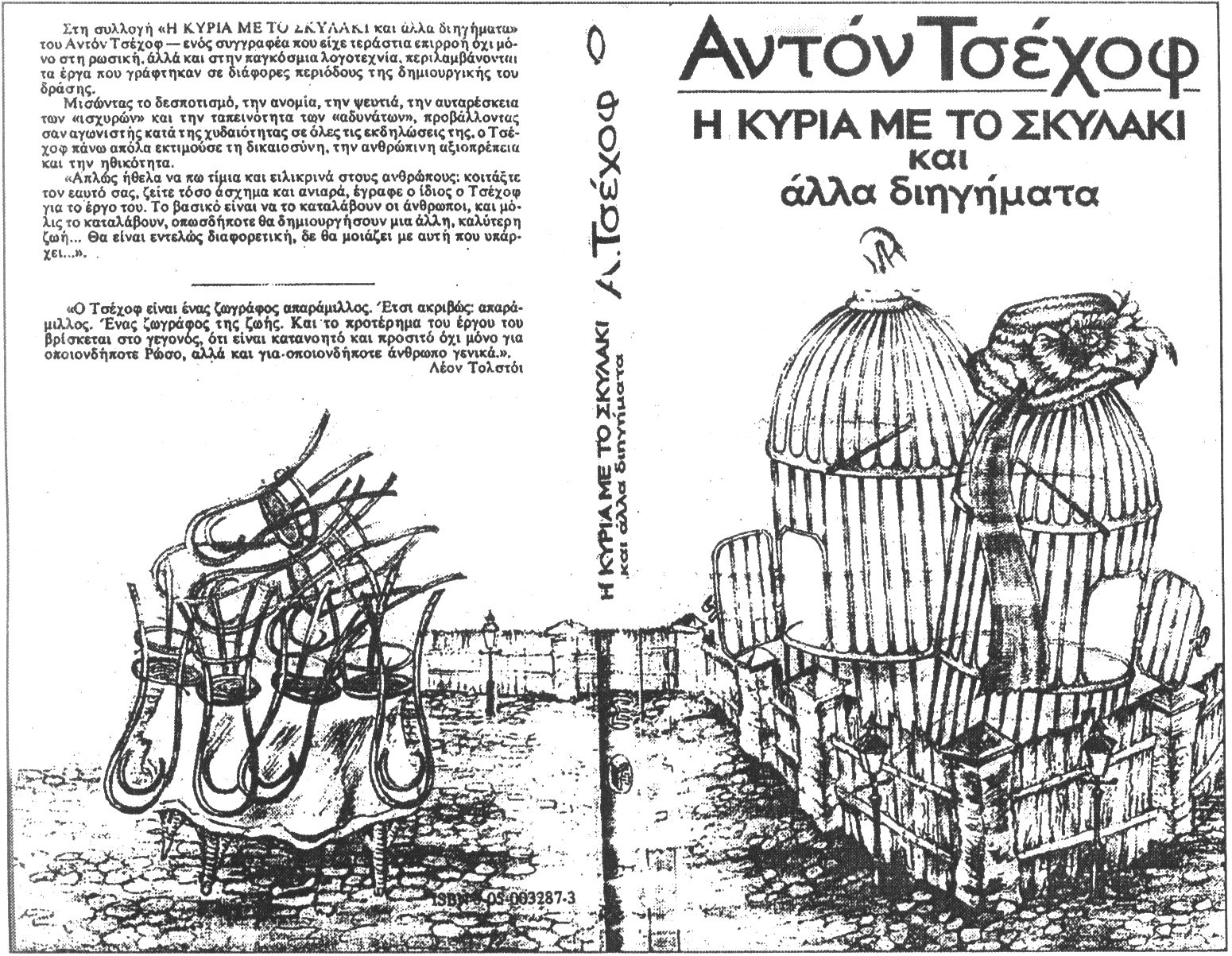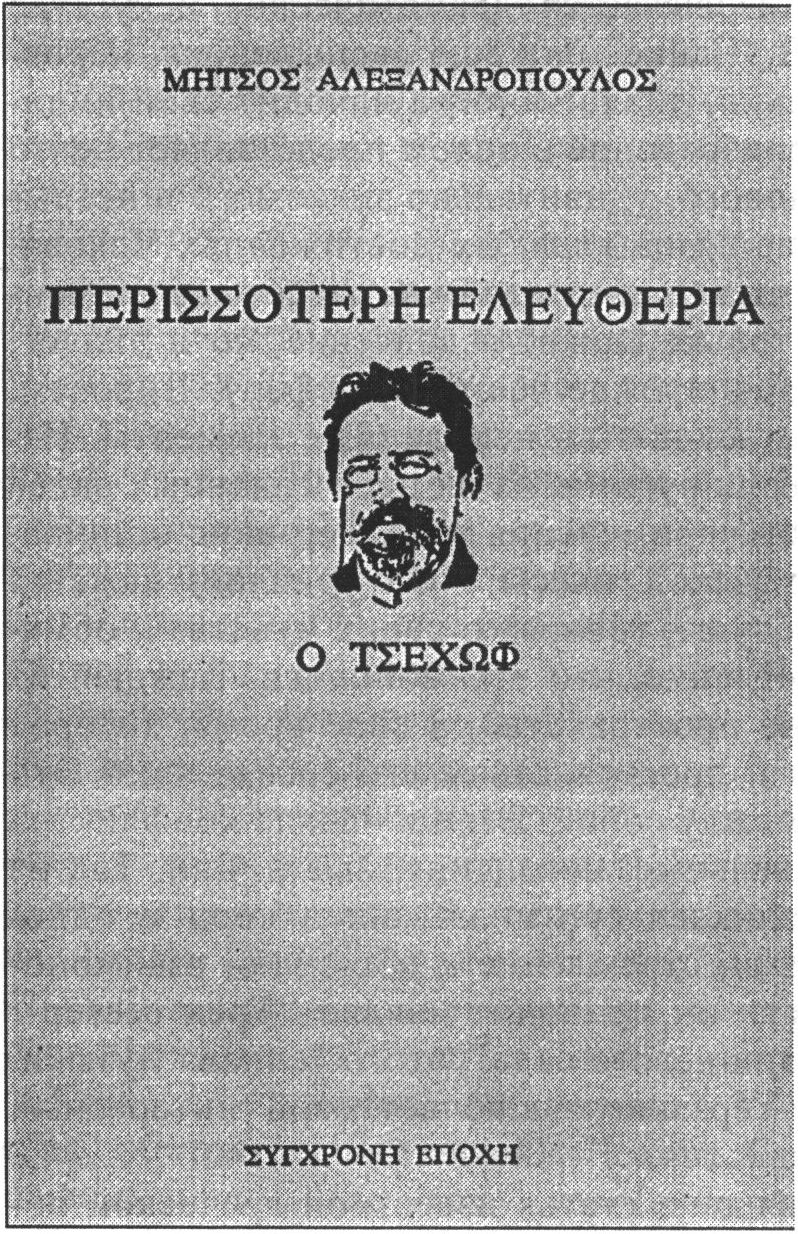Чехов — один из наиболее известных и популярных зарубежных писателей в Греции. Предлагаемые материалы, освещая пути, по которым творчество писателя проникало в страну, и особенности его восприятия на разных исторических этапах, не только характеризуют «продолжающуюся жизнь» чеховского творчества на инонациональной почве, но и расширяют наше представление о греческой литературе, на которую Чехов оказал немалое влияние, так же, как на греческий театр.
Чехов впервые был переведен в Греции в 1900 году, три года спустя после греко-турецкой войны 1897 года, последствия которой нанесли сильный удар по эллиноцентристским идеалам, господствовавшим в стране. С начала века греческая интеллигенция начинает искать пути выхода к широкому внешнему миру. (Этот процесс усиливается после Первой мировой войны и — особенно — после поражения Греции в новой греко-турецкой войне 1919—1922 гг.)
В конце прошлого века широко переводились в стране произведения русских классиков. А. Пападиамантик, один из классиков греческой литературы, переводил в 1884 году произведения Тургенева и в 1886 году произведения Достоевского и признавал влияние русских писателей на его собственное творчество1. Греческие переводчики, критики, читатели видели в Чехове прежде всего продолжателя великих русских писателей. Может быть, поэтому Чехов привлек их внимание сначала в основном неюмористическими произведениями. «Черный монах», например, — одно из первых произведений Чехова, опубликованных на греческом языке. Затем перед греческим читателем был раскрыт и его первый, юмористический период. Эта хронологическая последовательность сказалась на характере переводов ранних произведений: Чехов-юморист воспринимался через призму его серьезной, психологической прозы.
Начиная с тридцатых годов, Чехов начал входить в репертуар греческого театра и сопровождал его взлеты и поиски. До этого он был более известен как новеллист. «Сегодня <...>, когда мы говорим: Чехов (по крайней мере за пределами России), прежде всего думаем о его театре», — пишет греческий литературовед А. Терзакис2. Хотя пьесы Чехова переводились и раньше, Чехов-драматург до 30-х годов был недостаточно известен. Об этом свидетельствует, в частности, то, что «Медведь» в разных переводах (и под разными названиями) ставился много раз, но часто — без указания имени автора3.
Причина многократных переводов произведений Чехова во многом объясняется особенностями развития греческого литературного языка, который в первые десятилетия нашего века еще только формировался. Между сторонниками «кафаревусы», т. е. языка культурной элиты, имеющего только письменную форму и тяготеющего своей архаичностью к древнегреческому языку, и «демотики», т. е. языка народа, велась острая борьба. Будущее принадлежало языку «демотики», но он долго не признавался официально и развивался лишь благодаря личным усилиям отдельных писателей и поэтов. Первые произведения Чехова были переведены на язык «кафаревусы» или же на так называемый «смешанный» язык, так как диалоги было трудно переводить на язык, имеющий только письменную форму. Затем их переводили на «демотику», с развитием которой старые переводы перестали удовлетворять. Это особенно остро ощущал театр, поэтому для новых постановок часто делались и новые переводы. Пьеса «Дядя Ваня», например, была опубликована в восьми разных переводах; часть переводов этой пьесы, использованных в театре, не была издана.
Особую проблему, с которой мы столкнулись при изучении греческих переводов Чехова, составляет перевод названий его произведений. Иногда буквальный перевод авторских названий оказывался неудобным с точки зрения норм греческого языка. Поэтому переводчики нередко давали название, исходя из содержания оригинала, как они его понимали. При этом бывали случаи произвольного толкования смысла произведения. Так, «Медведь» в разных переводах был представлен зрителям то как «Неуспокаивающаяся вдова», то как «Трудный человек» и «Чудовище», то как «Зверь». И лишь в последнее время в театральной практике намечается тенденция к буквальному переводу заглавия: «Медведь» («Аркуда»).
Переводы произведений Чехова на греческий язык
Первые переводы произведений Чехова на греческий язык были сделаны еще при жизни автора. Крупный афинский журнал «Панафинеа» первым обратился к Чехову, и на его страницах появились в 1900 году рассказы «Произведение искусства» и «Тоска» («Панафинеа», № 1) и в 1901 году «Черный монах» и «Пассажир 1-го класса» («Панафинеа», № 2). Все рассказы были переведены драгоманом российского посольства в Афинах и писателем Агафоклисом Константинидисом. 29 сентября 1900 г. Константинидис обратился к Чехову с письмом от имени редакции журнала, в котором писал: «Редакция греческого журнала «Панафинеа», желая представить своим читателям произведения современной русской литературы в греческом переводе, обратилась ко мне и дала мне полную свободу выбрать таковые из произведений самых талантливых и выдающихся писателей современной России. Один мой знакомый дал мне недавно прочитать четыре тома Ваших повестей и рассказов. В полной уверенности, что греческая читающая публика оценит по достоинству Ваши рассказы, я уже перевел четыре из них, а именно: «Черный монах», «Пассажир 1-го класса», «Произведение искусства» и «Скрипка Ротшильда», которые редакция журнала приняла с восторгом. Я намерен представить греческой публике еще несколько из Ваших повестей и рассказов»4. А. Константинидис просил Чехова выслать также для публикации в журнале фотографию и краткие сведения о себе.
В ответном письме от 11 октября 1900 г. Чехов дал согласие на переводы и послал краткую автобиографию. В ней он сообщил детали, которые могли быть особенно интересны греческим читателям: «Учился в греческой школе при церкви св. царя Константина, где научился говорить по-новогречески (но скоро по выходе из школы забыл этот язык), потом поступил в гимназию» (IX, 131).
Перевод одного из рассказов, названных в письме Константинидиса («Скрипка Ротшильда»), не был тогда опубликован. Вместо него в журнале был напечатан рассказ «Тоска», переведенный также А. Константинидисом. («Скрипка Ротшильда» была перепечатана в журнале «Панафинеа» три года спустя, в 1904 г., вместе с извещением о смерти Чехова). Представляя Чехова греческим читателям во вступительной заметке к своим переводам, А. Константинидис назвал его «самым популярным и самым читаемым из современных русских новеллистов»5.
А. Константинидис продолжал работать над переводами произведений Чехова и не ограничивался в своих публикациях журналом «Панафинеа». В 1902 г. он опубликовал в журнале «Имерологион Скоку» рассказ «Клевета» вместе с фотографией автора, которую Чехов, по его просьбе в первом письме, выслал ему6. Он же первый познакомил греческую публику с Чеховым-драматургом. В его переводе в 1905 г. в журнале «Панафинеа» был напечатан «Вишневый сад»7, впоследствии он переводил «Чайку»8, «Предложение»9 и многие рассказы (см. Приложение).
В начале века над переводами Чехова работал еще один известный греческий переводчик и популяризатор русской литературы в Греции, Павлос Лефас (в Академическом издании Чехова — Павел Лефи). В 1903 г. вышла в Афинах двухтомная антология рассказов русских писателей, в которую были включены произведения В. Гаршина, М. Горького, А. Чехова, В. Короленко и Л. Толстого. Составитель и автор всех переводов этого сборника был П. Лефас. Чехов представлен в этой книге рассказами «Ионыч», «Певчие», «Святою ночью» и «Детвора». Публикация снабжена фотографией автора. Составитель писал: «Небольшие простые произведения Чехова, если их рассмотреть особо, это в большинстве своем психологические этюды и превосходные жизненные сцены. Все вместе эти произведения составляют огромный труд, психологическое исследование русской жизни, со всеми ее горестями и тоской. Успеха, а потом величайшей славы он достиг благодаря тяжелому труду, утомительной борьбе, пока наконец все не признали его талант»10. После выхода в свет книги П. Лефас отправил ее Чехову вместе с письмом, в котором сообщал, что в состав сборника вошли некоторые его произведения и т. д. В ответном письме Чехов благодарил П. Лефаса за книгу и писал: «Когда-то, живя в Таганроге, я понимал греческий язык, говорил немножко по-гречески, теперь же все позабыл; и вот, просматривая Вашу книгу, буду припоминать язык и, быть может, кое-что вспомню. Во мне Ваша книга, ее греческий шрифт, вызвала много воспоминаний, и между прочим я не мог не вспомнить о том, как я и братья учились в Таганроге в греческой школе» (XII, 44).
Кроме А. Константинидиса и П. Лефаса, Чеховым заинтересовался при его жизни еще один известный переводчик, Константинос Коколис. В журнале «Имерологион Скоку» в 1904 г. был опубликован в его переводе рассказ «На чужбине»11. В этом журнале появились и другие чеховские рассказы в переводе К. Коколиса: «Страшная ночь», «Спать хочется»12 и т. д. Вслед за Константинидисом он обращается к пьесам Чехова и в 1907 г. публикует свой перевод водевиля «Медведь»13.
В течение первых двух-трех лет после появления на греческом языке произведения Чехова завоевали широкую известность в стране. Яркое свидетельство любви греческих читателей к Чехову — письмо к нему редактора готовившегося к изданию нового греческого журнала «Проодос» Спанудиса от 11 марта 1904 г.: «Учитель, Вам, возможно, неизвестно о том, какое почтение питает к Вам греческий литературный мир. Но Вы можете быть уверены в том, что произведения отшельника тихой и безмятежной Ялты читаются всегда с огромным удовольствием. Приступая к изданию нового греческого журнала «Проодос», я думаю о том, как было бы ценно, если бы Вы и те, кто пожелает почтить этот журнал своим произведением, были настолько добры и прислали мне что-нибудь. Подобная честь, оказанная автором, столь по справедливости знаменитым, была бы очень дорога «Проодосу», а любовь к Вам нашего народа дает мне смелость надеяться на это»14. Успел ли Чехов ответить на это письмо, неизвестно.
После смерти Чехова число переводчиков и журналов, печатающих его произведения, растет. Печатаются переводы и в журналах греков, живущих в других странах. Так, в последующие двенадцать лет в афинских журналах «Имерологион Скоку», «Панафинеа», «Воспорис», «Эллиники эпитеориси», «Диапласис тон Педон», «Полимниа», «Минеон Парартима Афинон», «Мелети», «Иконографимени», «Пинакофики», «Фисис», «Ники» и «Пневма», в журналах «Космос» (выходил в Смирне), «Армония» (выходил на Кипре) были напечатаны рассказы Чехова «Страшная ночь», «Моя жизнь», «Спать хочется», «Событие», «Бабы», «Ну, публика!», «Орден», «Житейские невзгоды», «Альбом», «Лишние люди», «Пари», «Беззаконие», «В почтовом отделении», «Панихида», «Счастливчик», «Московские лицемеры», «Месть», «Брак через 10—15 лет», «Дорогая собака», «Рассказ, которому трудно подобрать название», «Неудача», «Анюта», «В потемках», «Приданое», «Злой мальчик», «Брак по расчету», «Ушла», «Любовь» и некоторые другие, а также пьесы «Чайка», «Медведь» и «Предложение». Переводили их, помимо известных нам А. Константинидиса, К. Коколиса и П. Лефаса, П. Панагопулос, А. Рафаил, Н. Манякис, Ф. Папавасилиу, В. Валакос, М. Мпиклис и др. Некоторые рассказы переведены и напечатаны дважды и трижды, некоторые печатались без имени переводчика.
В 1909—1910 гг., когда отмечалось пятилетие со дня смерти Чехова и пятидесятилетие со дня его рождения, число публикаций его произведений особенно выросло. В 1910-е гг. наметился, в частности, интерес к юмористическим рассказам Чехова, которые охотно печатала греческая периодика. Одновременно, как видно из перечисленных выше названий, внимание переводчиков привлекают и более поздние рассказы с ярко выраженным психологизмом и острой социальной критикой.
После 1917-го вплоть до 1929 г. произведения Чехова в греческих журналах не появляются. Это было трудное для Греции время: греко-турецкая война, поражение греческих войск в 1922 г., а затем тяжелый экономический кризис. Многие журналы прекратили свое существование. Но была еще одна причина. Дело в том, что революционные события в октябре 1917 г. были горячо встречены греческой интеллигенцией. В духе революции воспринимали все идущее от России. Потрясения революции доходили до Греции, по выражению А. Терзакиса, «как разряды от взрыва большой бомбы»15. В этой атмосфере предпочтение отдавалось советским писателям, непосредственно связанным с революцией. С 1920 по 1936 год, при диктатуре И. Метаксаса, коммунистические органы печатали произведения М. Горького, А. Серафимовича, Д. Фурманова, Ф. Гладкова, Н. Островского и других.
Тем не менее с 20-х гг. начинается традиция отдельных изданий произведений Чехова в Греции. Так, в 1920 г. в афинском издательстве «Типос» вышел первый сборник произведений Чехова в переводе А. Михаса16, в 1921 г. сборник рассказов под названием «Ночь на кладбище» (по названию чеховского рассказа), в переводе А. Константинидиса17, и затем еще один сборник рассказов в переводе З. Канонидиса, без даты выпуска, и повесть «Палата № 6» в 1924 г. без имени переводчика18 (возможно, — потому, что перевод был сделан не с русского, а с какого-то другого языка).
В конце 20-х и в 30-е гг. произведения Чехова снова появляются на страницах греческих журналов, прежде всего на страницах нового крупного литературного журнала «Неа эстиа». В 1929 г. печатается рассказ «Гусев» в переводе К. Коколиса19, в следующем «Брак по расчету» в переводе Ч. Пападаки-Спираки20, и затем «Жена» в переводе Х. Лазариду21 и «Степь» в переводе Э. Пабики и Э. Панселину22. «Счастливчик», «Разговор человека с собакой» и некоторые другие рассказы появились на страницах других журналов23.
В 30-е годы вышло несколько сборников рассказов Чехова, а также пьесы «Предложение», «Дядя Ваня» и «Три сестры». В 1939 году вышло два разных перевода «Дяди Вани» — один выполненный Х. Лабадарисом, другой — А. Сарантиди24.
Таким образом, к началу 30-х годов была подготовлена почва для литературно-критического изучения творчества Чехова. Параллельно греческие театры начинают все чаще ставить его пьесы, что дает толчок к появлению новых критических статей о нем. Но начало Второй мировой войны, оккупация Греции гитлеровской армией и затем гражданская война, растерзавшая страну, вновь приостановили эти публикации на целое десятилетие. Только в 1945 г., во время короткого мирного послевоенного периода, вышла в свет пьеса «Вишневый сад» в переводе А. Александру25.
После окончания гражданской войны в 1949 г. в Греции снова появляются в печати чеховские рассказы. Начало было положено журналом «Траст», где были опубликованы «Мститель», «Неудача», «Дорогие уроки», «Смерть чиновника» и др. Переводчик неизвестен.
Возобновились и издания отдельных сборников произведений Чехова. В 1955 году в издательстве «Пиккида» вышел большой сборник из 45 рассказов, в переводе К. Симопулоса, который написал и предисловие к книге26. В этом же году вышел и другой сборник рассказов Чехова в переводе К. Макри27.
К столетию со дня рождения Чехова состоялись литературные вечера в разных клубах, спектакли, публикации в журналах. Среди сборников произведений Чехова в 1960—1970 гг. — пьесы («Чайка», «Дядя Ваня», «Три сестры», «Вишневый сад» и «Медведь»)28 и книга избранной прозы Чехова, в которую вошли 70 рассказов29. В 1970 году вышло и «Полное собрание пьес» Чехова в трех томах30. В 1970 году вышел также сборник писем Чехова31. Каталог отдельных изданий произведений Чехова, вышедших на греческом языке в 1960-х и 1970-х годах, насчитывает более двадцати названий32.
Произведения Чехова печатаются в эти годы и в журналах. Но в последние десятилетия преобладают отдельные издания его произведений. Чехов стал одним из известных в стране классиков мировой литературы и отношение к нему изменилось. Теперь его место — в больших изданиях, где его творчество представляется масштабно, а не в журналах, функция которых более ознакомительная, информативная и где творчество писателя предстает «раздробленно».
Чехов в греческой критике (1900—1980-е гг.)
Первая статья о Чехове в Греции под названием «Заметки о значении и популярности Чехова», принадлежащая К. Михалидису, появилась в журнале «Панафинеа» в 1900 году. Она была напечатана вместе с первым переводом чеховских рассказов и носила чисто информационный характер33. Такой же была и статья П. Лефаса «Творчество Чехова», напечатанная в 1903 году34. Сразу после смерти Чехова журнал «Панафинеа» напечатал корреспонденцию М. Ликиардопулоса из России вместе с фотографией Чехова35, и затем статью А. Белого «А.П. Чехов», переведенную на греческий язык из московского журнала «Весы» (1904, № 8)36.
М. Ликиардопулос, живший тогда в России, много сделал для популяризации Чехова в Греции. В 1904 г. в газете «Русь» появилась его статья, в которой он опровергал слова греческого посла в России П. Аргиропулоса, утверждавшего в интервью этой же газете, что «...произведения Чехова не только не известны в Греции, но даже и не переведены на греческий язык»37, называл переведенные на греческий язык рассказы Чехова и отмечал, что «имя Чехова, наравне с именами Толстого, Горького <...> и Леонида Андреева, известно всякому читающему журналы и газеты»38. Конечно, он несколько преувеличивал, говоря что «огромное число рассказов Чехова переведено на греческий язык» и что «ими пестрят все газеты и периодические издания»39, но это объясняется полемичностью статьи. В том же году, в газете «Русские ведомости», печатается письмо М. Ликиардопулоса «Сочинения Чехова в Греции», где он перечисляет переводы Чехова на греческий язык и затем рассказывает, как было встречено в Греции известие о смерти Чехова40.
В некрологе Чехова, опубликованном в журнале «Панафинеа», М. Ликиардопулос пишет о своих, не упоминаемых в других источниках, встречах с Чеховым. «Прошлой зимой я имел счастье и удовольствие провести один вечер в его московском доме с ним и его супругой. Мы говорили о многом, а также о журнале «Панафинеа», о котором Чехов знал. В последний раз я его видел на первом спектакле «Вишневого сада»»41. Эта пьеса, как и во многих других статьях, посвященных смерти Чехова, была названа «лебединой песней автора». О произведениях Чехова Ликиардопулос говорит: «какие грустные драмы изображаются в них! Они содержат в себе печаль, похожую на тоску, которую рождают безграничные просторы степей, шепот сосен в лесу, плач вьюги или монотонная картина жизни крестьян, их вечно серьезные и задумчивые лица, грустная песня русской души»42. В конце некролога Чехов ставится в ряд с великими русскими классиками43.
В 30-е годы вышла в свет «История русской литературы» в двух томах. Автором этой книги был крупный греческий писатель Н. Казандзакис44. Во втором томе Чехов был представлен как художник пессимистической эпохи. Считая Чехова глубоким знатоком души среднего человека, «богатого внутренне, но неспособного что-либо предпринять», Казандзакис уже в его юношеских произведениях отмечал «трагический юмор» и «молчаливую печаль», которые, по его мнению, определили основной тон всего последующего творчества Чехова. Он старался увидеть за внешним бесстрастием чеховского повествования нечто большее: «Чехов рассказывает без лирического подъема; его фраза — проста, его описание — сдержанно, автор ни во что не вмешивается, не критикует; тем не менее за этим очевидным безразличием чувствуешь сердце, которое любит, сочувствует людям и сострадает вместе с природой». О драматических произведениях Чехова автор далее пишет: «Пьесы Чехова имеют все достоинства его рассказов: точное, нежное и одновременно саркастическое описание ежедневной жизни, деликатные, молчаливые характеристики персонажей, печаль и юмор и постоянное страстное стремление, которое не имеет завершения. Действие — не напряженное; внешние обстоятельства не играют важной роли, не толкают бездействующую душу на неожиданные решения. Души героев Чехова неподвижны, как стоячие воды, вдруг какое-то волнение, какие-то крики и это — кульминация действия, — затем они впадают опять в то же самое оцепенение. Ритм драматического искусства Чехова — медленный, усталый, в нем царит атмосфера тусклого полумрака. Однако в уста некоторых героев Чехов вкладывает слова неожиданного оптимизма. Чувствуешь, что тут вмешивается сам автор, выражая свою веру в лучшее будущее». Это была одна из первых в Греции глубоких оценок творчества Чехова.
Заслуживает также внимания предисловие К. Симопулоса в книге «Чехов. Рассказы» (1955 г., 2-е издание 1968 г.). В этой работе Чехов характеризуется как великий мастер, который умеет проникнуть в самые затаенные уголки человеческой души. «В Чехове, — пишет автор, — мы узнаем анатома ежедневной жизни, коробейника, который заходит во дворцы и переулки, творца, который держит у себя на ладони сердце человека <...> Чехов писал то, что видел, описывал добросовестно характеры, обстоятельства, и правда открывается обнаженной, целостной, выразительной»45. Обосновывая тезис о Чехове как «анатоме повседневной жизни», К. Симопулос особенно ценит внимание художника к «незначительным» проблемам. Из этих проблем вырастает и мечта писателя «о человеке с крепким началом, цельном, искреннем, открытом, немелочном и невысокомерном». Вера Чехова в величие человека и в его будущее особенно чувствуется, пишет К. Симопулос, в драматических произведениях.
Вслед за Н. Казандзакисом К. Симопулос обращает внимание на чеховский юмор («трагический юмор» как самая глубокая и отличительная черта чеховского стиля).
Попытку обстоятельного описания жизни и творчества Чехова делает Г. Працикас в статье к пятидесятилетию со дня смерти писателя46. По признанию автора, его работа написана на основе биографии Чехова, изданной во Франции писательницей русского происхождения Иреной Немировской47. Этот вторичный характер чувствуется в статье, лишенной четкой композиции. Есть в работе и фактические ошибки (Таганрог, например, называется «глухой деревней»). Тем не менее автор чувствует своеобразие художника, изображающего жизнь не только в ее «повседневности», но и во всей ее полноте и правдивости, с ее радостями и горестями. Вдохновенно он пишет о чеховской детали: «Деталь — это стихия Чехова, деталь, которая потрясает, сама по себе является фоном всех драматических эпизодов и создает атмосферу, неяркий свет, мастерски выражающий квинтэссенцию жизни. Это приворотное зелье пьет читатель, оно околдовывает его и на немногих превосходных страницах открывает ему картину мира, преображенную и отделанную, как миниатюра, живую и человеческую»48. Но в статье есть и спорные мысли. По мнению Працикаса, Чехов «считает, что в жизни, которую он так любит, нет, в конечном счете, никакого смысла», «спокойная безнадежность пронизывает его страницы»49.
Греческий писатель А. Терзакис в 1960 году опубликовал в журнале «Неа эстиа» обстоятельный очерк о Чехове. Среди биографических данных он особое внимание уделяет тому, что Чехов учился в греческой школе. О мастерстве Чехова-новеллиста Терзакис пишет: «Удивительно нейтрально, почти равнодушно описывает он события <...> Вся мудрость кроется в их отборе, оформлении материала. Но за этой типично внешней стороной скрывается убедительная сила непосредственного слова, неопровержимый тон подлинности. Там, где он считает нужным усилить выразительность, естественно, точно неосознанно, вкрапливается юмор; писатель не настаивает на нем и не подчеркивает его... Он иронизирует тогда, когда тонкая ирония должна придать смысл происшествиям, ситуациям, душевному состоянию персонажей. Это ирония вдумчивая и скромная, за ней кроется волнение, которое делает ее более глубокой и впечатляющей»50. А. Терзакис считает, что тема, которая в рассказах Чехова часто предстает в юмористическом виде, более определенно развивается в его пьесах: «Трагическая попытка людей понять жизнь и понять друг друга. Найти ответ на безутешное «почему», которое гнездится в нашем сердце»51. В связи с этим автор говорит и о «секрете» чеховского искусства: «Он стремится к тому, чтобы выразить главное в немногих словах, самыми скупыми средствами, «скрыть» писателя, чтобы выдвинуть на первый план правду жизни. Его секрет — один из его секретов — найти верный жест человека в соответствующий психологический момент. Он заставляет тебя увидеть персонаж, познакомиться с ним, приобрести опыт внутренней правды. Иногда одно поразительно бесцветное, наивное слово попадает в критическую точку. Если вы его пропустили, вы что-то потеряли. А если, напротив, обратили на него внимание, вы, наверно, увидели, что за его небрежным наивным тоном скрывается целый мир»52. В статье анализируются четыре большие пьесы Чехова. По мнению А. Терзакиса, «Чайка» и «Дядя Ваня» являются лишь этапами пути драматурга, в то время как «Три сестры» и «Вишневый сад» дают наиболее ясную картину характерного для Чехова сценического тона. «Постепенно выкристаллизовывается драматическое искусство Чехова. Точнее говоря, его поэтика. В «Чайке» она еще распыленная, неровная: сюжет не атрофирован окончательно, диалог иногда находит свой индивидуальный тон и снова его теряет; произведение в целом представляет нечто неясное среди устоявшегося и очень нового, удивительно знакомого и неслыханного»53. Дальше автор останавливается на главных достижениях Чехова-драматурга: «Новый в истории театра взгляд писателя охватывает все элементы драматического произведения: не только сюжет и действие, но и диалог, манеру персонажей, жест, атмосферу, — прежде всего атмосферу. Впрочем, он этим не ограничивается. Он изобретает новые, невиданные элементы. Извлекает их из оригинального сочетания с другими, из их неразгаданных ранее созвучий. Из их необыкновенно точного применения»54. А. Терзакис останавливается специально на диалоге чеховской пьесы: «Он (диалог) кажется внутренне несвязным. Персонажи беседуют, говорят о своих чувствах, обмениваются мыслями, но остается впечатление, что это монологи. Каждый из персонажей как будто заключен в свое пространство, в свое время, которое развивается параллельно со временем и пространством его соседа <...> Эти миры идут рядом, но не соединяются между собой. Если в начале конфликтов были скрещения, то теперь это параллельные, несоединяемые линии. Так из сочетания негармоничных звуков возникает оригинальный аккорд и одновременно выявляется трагичность жизни, стремление к общению, взаимопониманию»55. Как пример музыкальности он приводит начало «Трех сестер». Глубоким анализом «Трех сестер» и «Вишневого сада», этого «сплава музыки, стойкости и жизнерадостной веры», Терзакис заключает свой интересный очерк.
Искусству Чехова-новеллиста посвящена статья известной греческой поэтессы и переводчицы М. Аксиоти «Его рассказ», напечатанная в книге: ««Дама с собачкой» и другие рассказы», вышедшей в ее переводе в 1964 году.
В статье отмечаются три характерные черты чеховского рассказа: 1. Весь ход повествования противопоставляется «взрыву» в концовке, который опровергает то, что казалось совершенно несомненным. 2. Финал рассказа создает впечатление, что теперь должен начаться другой рассказ. 3. Чехов не направляет героев, не вмешивается в их суждения — «он выжидает», т. е. избегает назидания.
Аксиоти, кроме того, отмечает в чеховских рассказах сильное драматургическое и сатирическое начало. Драматургические элементы — это диалог высшего качества, неожиданные концовки, с искусным умолчанием, которое подчас более красноречиво, чем слово. То, что рассказы построены очень просто, как «сцены», «заставляет чеховское бездействие кипеть бурной жизнью»56.
О сатирическом начале в чеховской прозе переводчица пишет: «И если есть трагический элемент в его произведениях — а он безграничен — это в то же время и сатирический элемент <...> сатира Чехова в конечном счете становится драматической; он пользуется ею, чтобы сгладить драму, чем в свою очередь нагнетается трагичность; именно поэтому его сатирические приемы имеют особую ценность»57.
Как видим, уже не впервые критика воспринимает чеховское искусство как сложный сплав трагизма с сатирой.
М. Аксиоти перевела на греческий язык также письма Чехова. В предисловии к изданию писем она относит чеховские письма к его «самым лучшим произведениям». «Переписка Чехова не только раскрывает, но и по-своему «дополняет» его рассказы, которые являются, в сущности, не чем иным, как одним огромным романом. Правдивый рассказ о бескрайней и сложной стране»58.
В 1980 году греческий журнал «Эолики граммата» посвятил Чехову, по случаю 120-летней годовщины со дня его рождения, специальный номер59 с разными материалами о его жизни и творчестве и новыми переводами нескольких рассказов. Редактор журнала Г. Валетас опубликовал в номере статью: «Чехов в Греции».
Г. Валетас приводит сведения о судьбе чеховского творчества в Греции и публикует документы из трудно доступных изданий (письма Чехова к своим первым переводчикам, материалы о переводах Чехова на греческий язык и т. д.).
Что касается темы влияния Чехова на греческую литературу, то Валетас коснулся этой темы в другой своей статье — «Чехов и Казандзакис» — в том же номере журнала. Он назвал также других авторов, воспринявших некоторые черты чеховской прозы и драматургии (кроме Н. Казандзакиса, это А. Константинидис, А. Вутирас, А. Терзакис, Н. Капетанакис, К. Валетас (сын Г. Валетаса)). Но обстоятельный труд о традициях Чехова в греческой литературе ждет еще своего исследования.
А пока Г. Валетас пытается объяснить популярность Чехова в Греции тем, что он с самого детства был связан с этой страной «тесными эстетическими, психологическими и культурными узами»60 — совершенно необоснованное утверждение*.
Из всех материалов этого номера журнала особую ценность представляют три библиографии произведений Чехова в Греции, хотя они являются далеко не полными. Это библиография изданий Чехова в Греции, библиография отдельных публикаций его рассказов и библиография критических работ о нем, которые, видимо, приводятся по материалам национальной афинской библиотеки.
Значительное событие в культурной жизни Греции — обширная художественная биография Чехова, написанная писателем, переводчиком и исследователем русской литературы М. Александропулосом61.
Все это указывает на непрекращающийся интерес к творчеству и личности Чехова, на постоянное углубление оценок его произведений. Поворот в изучении творчества Чехова, как мы видели, обозначился в юбилейном 1960 году, когда широко праздновалось 100-летие со дня его рождения. Тогда же наметился качественный скачок в трактовке чеховского творчества в целом. Если раньше его понимали, в основном, как глубоко русского писателя, изображающего русскую действительность, русские характеры и т. д., то в 60-е годы начинают искать в его сюжетах общечеловеческие мотивы.
Эти новые тенденции ярче ощущаются при рассмотрении чеховских постановок в греческом театре и в рецензиях на них.
Пьесы Чехова на греческой сцене. Отзывы критики о его драматургии (1902—1960-е гг.)
Уже говорилось, что пьесы Чехова неоднократно переводились на греческий язык. Можно следующим образом определить субъективную и объективную причины этих повторных переводов. С одной стороны, новые переводы отражают процесс познания произведения: они вызваны стремлением к более глубокому пониманию творчества автора. С другой стороны, необходимость новых переводов объясняется развитием греческого литературного языка, претерпевшего значительную эволюцию с начала нашего века — со времени первых переводов чеховских пьес.
На Чехова как драматурга обратили внимание в Греции еще при его жизни. Обращение к Чехову явилось продолжением интереса греческого театра, долгое время питавшегося французскими традициями, к русской драматургии. Этот процесс начался в конце XIX в. постановкой двух русских пьес — «Женитьбы» Гоголя и «Власти тьмы» Толстого. Воспринимая драматургию Чехова в свете этих традиций, греческие театры долгое время обращались исключительно к его одноактным пьесам и только в начале тридцатых годов начали ставить его большие пьесы, искать новое в его драматургическом искусстве. Греческий театровед Я. Сидерис дает этому объяснение: «Его одноактные пьесы в греческой форме быстро заняли подобающее место, так как у одноактной пьесы в Греции есть собственная старая и крепкая традиция»62. В то же время, говорит он, одноактная пьеса Чехова не вызвала у греческого зрителя такого удивления, такого внимания, как его многоактные пьесы63.
Первой пьесой Чехова на греческой сцене был «Медведь», шедший тогда чаще всего под названием «Зверь». Первый спектакль шел 17 марта 1902 г. в Афинском театре «Неа скини» в переводе К. Ладопулоса. Эта единственная постановка пьесы Чехова в Греции при его жизни продержалась недолго. Примечательно также, что ни в афишах, ни в коротких газетных откликах на спектакль имя автора не упоминается. Пьеса эта, уже под своим настоящим названием и с именем Чехова, была поставлена во второй раз в 1909 г. труппой Т. Икономоса и затем в 1910 г., вместе с чеховским «Предложением» на вечере одноактных пьес (силами той же труппы).
В течение следующих семнадцати лет на профессиональной греческой сцене пьесы Чехова не ставились. Чехова знали в Греции в основном как прозаика.
Новый период в постановках чеховских пьес начинается в Греции в конце двадцатых годов. Но пока ставят еще только его одноактные пьесы. В 1927 г. «Трагик поневоле» идет на сцене «Национального театра», в 1929 г. — «Лебединая песня» в зале афинской консерватории, а в 1930 г. там же исполняется сцена-монолог «О вреде табака». Все три пьесы перевел М. Кунелакис. Затем в 1931 г. в том же театре постановками «Медведя» и «Трагика поневоле» как бы завершается эпоха чеховских водевилей и начинается пора его четырехактных пьес. Одноактные пьесы продолжают идти на сцене, но уже по-иному, не без влияния постановок крупных драматургических произведений Чехова. Эти перемены не были случайными, они тесно связаны с началом новой эпохи греческого театра, полной поисков новых форм. Знаменателен отход греческого театра от бытовых пьес к современной драме. В этих условиях было естественно активное обращение к зарубежной драматургии, в том числе к пьесам Чехова. У истоков этого нового движения стояли «Театро технис» (1925) и «Элевтери скини» (1929—1930), труппа Веакиса, а также созданный в 1932 г. «Национальный театр».
5 июня 1931 г. на сцене труппы Веакиса шел впервые «Дядя Ваня». Как отмечает Я. Сидерис, «критики уже были готовы принять» эту пьесу64. И действительно, отклики появились уже наутро. Рецензенты в газетах «Эстиа», «Неа», «Этнос», «Элефтерон вима», «Проиа» высоко оценили мастерство главных исполнителей, особенно в роли Войницкого — Паксину Минотиса. О самой пьесе один из критиков писал как о психологической драме, сильной в композиционном плане и глубокой, до конца активно занимавшей «внимание неслучайных зрителей...»65 Другой оценил пьесу иначе: «Огромная скука, охватившая граждан царского самодержавного государства и заставившая, казалось бы, обратиться к большевизму для разнообразия, выражается в <...> русских характерах, которые двигаются, как автоматы, и не знают сами, чего хотят»66. Это образец полного непонимания чеховского театра: все трактуется грубо и прямолинейно.
Статья известного и очень авторитетного в то время, особенно среди молодежи, критика Ф. Политиса, написанная в те же дни, — значительно серьезнее. «Чехов изобразил дядю Ваню в трагический момент душевного потрясения», — пишет Ф. Политис, — когда женщина, встретившаяся на его пути, «оставляет в его сознании еще более сильное ощущение пустоты бесцельного, молчаливого существования. Простой, незначительный семейный эпизод раскрывает мрак и глубокое отчаяние людей, каких очень много вокруг нас»67.
В следующем 1932 г. были поставлены «Три сестры» и «Чайка». Для их постановки объединили свои труппы две известные греческие актрисы М. Котопули и К. Кивели. Отзывы на эти спектакли и на драматургию Чехова были самые разные. «Три сестры» и «Чайка», больше чем «Дядя Ваня», ошеломили критиков. Восторженно приняла «Трех сестер» газета «Эстиа»: в анонимной рецензии пьеса была названа шедевром. В этой газете сообщалось, что много народу спешило посмотреть «премьеру, хотя лето не хорошая пора для такого типа пьес»68. В газете «Эллиники» критик П. Харис писал, что «вся пьеса есть искренний крик. И этот крик пробуждает наш душевный мир и держит его в волнении с начала и до конца»69. В газете «Катимерини» о героях «Чайки» критик Г. Назос, отмечая, что они «принадлежат к нашей эпохе», в то же время писал как о созданиях, «подтверждающих истинность фрейдистских концепций»70. Как видим, деятели греческого театра и критики более чувствовали новизну чеховской драмы, чем понимали ее смысл.
Глубже других понял Чехова Ф. Политис. Он первым в Греции заговорил об «атмосфере» чеховских пьес и увидел в Чехове «поэта», который стремится прежде всего хорошо передать «атмосферу». «Его паузы, грусть, изображение определенных ситуаций, полусвет, при котором произносятся некоторые фразы — все имеет свое основание»71.
Из работы Я. Сидериса «Театр Чехова в Греции» мы узнаем, что «Три сестры», поставленные в 1932 г., выдержали всего 7 спектаклей, «Чайка», поставленная тогда же, — 10 спектаклей, и «Дядя Ваня», поставленный годом раньше, — 12 спектаклей. Настоящего зрительского успеха эти первые постановки больших пьес Чехова еще не имели. Успех пришел через несколько лет, когда накануне Второй мировой войны были поставлены «Вишневый сад» (1939) и «Чайка» (1940), и особенно — после войны.
«Вишневый сад» и «Чайка» были поставлены в переводе известного греческого актера Л. Каллергиса, который впоследствии перевел и другие пьесы Чехова. Первое представление «Вишневого сада» состоялось 9 января 1939 г. в зале Афинской греческой консерватории. Его поставил режиссер К. Кун силами созданного им же Художественного театра. Заслуги К. Куна и его театра в обновлении и развитии греческого театрального искусства общепризнаны. С деятельностью К. Куна во многом связана и чеховская эпоха в греческом театре. «Вообще считается, — пишет Я. Сидерис, — что подъем <чеховского театра> связан с Московским Художественным театром. В Греции его подъем связан с афинским Художественным театром К. Куна»72. По мнению Я. Сидериса, К. Кун дал чеховским постановкам много нового по сравнению даже с лучшими спектаклями 1931 и 1932 гг.73 О премьере «Вишневого сада» Я. Сидерис пишет: «Тот неожиданный вечер «Вишневого сада» был замечательным, с помощью Чехова мы выиграли и самого Чехова, и режиссера, положительно отличающегося от тех, которых мы знали до сих пор»74.
Положительных отзывов на этот спектакль было много, но были и отрицательные — например, рецензия критика А. Трилоса (псевдоним Е. Урани) в журнале «Неа эстиа». Бедные декорации, которые не «напоминали, даже смутно, Россию»; актеры на «уровне самодеятельности» и т. д. — все это критик подчинил одной мысли: режиссер «правильно понял смысл произведения, но ему не удалось передать его теми средствами, которыми он располагал»75.
В октябре 1940 г. Греция вступила в войну против фашизма, сначала итальянского, а затем и немецкого. В годы оккупации и героического сопротивления греческого народа вся культурная жизнь в стране протекала в тяжелых условиях, под постоянным наблюдением цензуры, и пьесы Чехова тогда не ставились.
Постановки чеховских пьес возобновились в 1945 г. новой постановкой «Вишневого сада» в Художественном театре. В 1947 г. одноактная пьеса «Свадьба» шла в театре «Аликис». Но это были уже годы гражданской войны, начавшейся в Греции после окончания Второй мировой войны. В очень тяжелых для страны условиях многие театры не действовали. Чехов опять исчезает из театрального репертуара и появляется лишь в 1950-е годы.
Критик А. Трилос, так отрицательно отнесшийся к первой постановке «Вишневого сада» в 1939 г., проявляет большее снисхождение к новой постановке 1945 года. Он вновь недоволен актерским исполнением главных ролей, однако высоко ценит режиссерскую работу К. Куна, который «понял «Вишневый сад»»76. Пьеса «создана в безукоризненной драматургической форме и вместе с тем насыщена поэзией; это целая театральная поэма», — пишет он и далее подчеркивает глубочайшую любовь Чехова к человеку. «Чехов видит и человеческие слабости <...> знает и показывает, что человек подчас сам виноват в том, что страдает, так как у него не хватает сил, столкнувшись с трудностями, противостоять им, бороться с жизнью»77.
А в 1951 г., противореча этим своим суждениям, по поводу постановки «Трех сестер» К. Куном в Национальном театре, восторженно приняв ее, Трилос пишет о чуждости переживаний чеховских героев греческому зрителю с начала 1950-х гг. Тем самым он обнаруживал свое глубокое непонимание чеховского творчества. «Чехов превосходно передал с помощью изумительного чередования акцентирования и сурдинки — иногда и с некоторым преувеличением — то, что хотел, но так как он писатель эстетически ограниченный местом и временем, он не достигает универсальности. «Мотив» его приспособлен исключительно к России, которая превзошла другие страны в угнетении, «боваризме»** и «mal du siècle»*** 1900-х годов. Его персонажи, которые постоянно скучают <...> нам сегодня чужды. Мы сегодня боремся, а не скучаем»78.
Иначе принял «Три сестры» писатель А. Терзакис в своей рецензии: «Чехов — поэт нежных тонов, того очарования, которое может передаваться событиями будничной жизни, когда их пересказывает писатель удивительной чуткости, способный видеть глубоко под поверхностью. Для театра такого типа нужна особая чуткость со стороны зрителя. Нужно музыкальное понимание, а не любопытство увидеть, что будет дальше»79. Под впечатлением этой постановки А. Терзакис высказал свои взгляды на чеховскую драматургию и в статье «Театр и Чехов». «Театр Чехова можно назвать безысходным, — писал он, — но в этой грусти звучит еще более глубокая нота, которая и есть вера в человека, надежда на лучшее будущее, терпеливое ожидание, дающее нам смелость и приятие жизни. Чехов, как замечено, идет в ногу с великими поэтами трагедии, которые умели превращать поражение в духовный триумф». Приведя слова Вершинина о «невообразимо прекрасной, изумительной» жизни, к которой человек должен готовиться (13, 131), Терзакис замечает, что беспокойство, внутренние поиски героев опять всплывают на поверхность. «Чехов — вечный исследователь, который не может заранее признать поражение, он стремится помериться силами с жизнью, вырвать тайну из ее сжатых губ. Вот в чем его драматургическое величие!» — заключает он свою мысль, аргументируя ее словами Маши о цели жизни («Или знать, для чего живешь, или же все пустяки, трын-трава» (Там же, 147)80.
В этой работе А. Терзакис дал греческому читателю представление о чеховском подтексте: «Нечто скрытое и полное внутреннего смысла составляет подтекст произведения. Его настоящую сущность. Сказанное вовсе не то, что имеет определяющее значение. Это подразумевается. «Драма происходит в душе человека, — сказал одной актрисе Чехов, — а не в чрезмерных проявлениях»81. Подземное течение, теплое, пульсирующее, насыщает произведение, и трагедия локализуется в недрах, а не на поверхности.
На поверхности обыденная картина жизни, которую он хочет, стремится показать. А под простыми, будничными словами живые люди дышат, вздыхают, ищут вслепую контакта с другими, какого-то избавления. <...> В драме этого типа нет конфликтов, насилий. Есть только противоречия <...> Чехов <...> всегда как будто играет в двух ключах, балансирует между двумя плоскостями, тонкой болью и легкой мягкой иронией. За чарующим туманом чувств то и дело мерцает улыбка. И персонажи его вовсе не люди, заранее потерпевшие поражение. Они надрываются в какой-то немой напряженной борьбе <...> У них есть надежда. Она светится, далекая, желанная»82.
21 января 1953 г. в Национальном театре был поставлен «Дядя Ваня» в переводе А. Сарантиди (режиссер К. Кун). А. Трилос в журнале «Неа эстиа» новую постановку «Дяди Вани» связал с наступившим прогрессом во всех сферах театра — актерской игры, режиссуры, декораций и костюмов. Режиссерскую интерпретацию «Дяди Вани» он счел соответствующей общему тону чеховской пьесы: «Чехов не из тех писателей, что звучат в широкой гамме, но те немногие ноты, которые он поет (я нарочно употребляю это слово), он превосходно инструментирует. У всех его персонажей одинаковое настроение, но каждый из них личность <...> Это неудачники, которые тяжело переживают свое несчастье, но не решаются определить, о каком счастье тоскуют. Поэтому когда они пытаются в какой-то момент приняться за дело, ответить на любовь, — поскольку они определенно не знают, чего хотят, то вскоре оставляют всякую попытку и возвращаются к своей судьбе. <...> Они побеждены, они расстроены, но постоянно на что-то надеются, ждут чего-то неопределенного, земного и неземного; может быть, то, чего они ждут, обретут лишь их потомки»83. Эта режиссерская работа К. Куна — в отличие от его же постановки «Трех сестер» в 1951 г. — дает теперь А. Трилосу основание, чтобы уловить какое-то созвучие настроения русских людей чеховской эпохи настроению греческого зрителя 1950-х годов: «Очарование поэзии не замедлило подействовать и на нас; оно уничтожает расстояние, отделяющее нас от этих людей из другого мира. И если мы не очень сочувствуем им, то мы их понимаем. И Чехов нам очень в этом помогает, ведь временами он видит их словно и через нашу призму...»84
В 1954—1955 гг. в связи с 50-летием со дня смерти Чехова интерес к его драматургии оживился. На греческой сцене («Театро технис», Афины) поставлены в 1955 г. четыре пьесы Чехова: «Предложение», «О вреде табака», «Юбилей» и спектакль, созданный по чеховским рассказам вместе с той же сценой-монологом «О вреде табака» под общим заглавием: «Три обморока и один монолог». Жанр «обморока» выбран режиссером под влиянием известной постановки чеховских водевилей, осуществленной в Советском Союзе В.Э. Мейерхольдом: «33 обморока», 1935.
В 1957 г. Афинский королевский театр ставит «Чайку» в переводе А. Сарантиса. Вступительную статью к программе спектакля пишет А. Терзакис. Он указывает на роль этой пьесы не только для греческой культуры, но и для театра вообще. Он говорит о новизне чеховского театра, об особенностях организации действия, о героях, диалоге. Своими работами о Чехове А. Терзакис во многом способствовал глубокому пониманию Чехова в Греции, его идеи помогли нашему театру понять смысл чеховских пьес. Приведем его строки о «Чайке»: «В «Чайке» впервые появляется своеобразная структура чеховской драмы. Метод, существовавший раньше — это выдвижение в центр преимущественно «героя» или пары героев, и сюжет как их драма, история, их приключения; все это устраняется Чеховым. <...> Место главного героя занимает теперь небольшая компания, общество; участие в действии делится между персонажами. И действие это — уже не закругленная история, сюжет, имеющий начало, середину, конец, и как бы оторванный от непрекращающегося течения жизни. Действие — это какой-то момент течения, внешне случайный, в крайнем случае его фаза. Происходящее на наших глазах — это то, что происходило вчера, что будет происходить и завтра. Персонажи, как кажется, ничуть не претендуют на исключительность <...> Но от этих персонажей, которых мы считаем такими обычными, нарочито прозаическими, без высокопарных слов, веет редким очарованием. Что же нас связывает с их атмосферой? Неслышный диалог, который незаметно, музыкально действует на нас, т. е. внутренний диалог. В большинстве случаев, когда эти люди беседуют, мы понимаем, что они, главным образом, произносят монологи: каждый из них, обращаясь к другому, следит преимущественно за своими мыслями. И это передает нам их одиночество, одиночество не случайное, а трагическое и вместе с тем комическое, с метафизической проекцией: одиночество человека.
Излишне говорить, что под поверхностью чеховской пьесы, почти застывшей, скрывается рациональное использование материала, более мудрое, чем в традиционной драме, поскольку оно более незаметно. <...> Ткань произведения создается бесшумно, плотно, крепко, и вскоре мы видим, что этой картине, насыщенной яркими красками и кипящей жизнью, свойственна выразительная пластичность, перспектива и глубина»85.
К столетию со дня рождения Чехов был уже общеизвестным и общепризнанным писателем в Греции, а его авторитет для греческого театра — высоким. О Чехове были прочитаны лекции в разных клубах; литературные журналы, как уже говорилось, посвятили ему статьи; были изданы новые чеховские произведения. Статья А. Терзакиса заканчивалась словами: «Все герои непринужденно живут своей жизнью, которая, можно сказать, страдает монотонностью и непрерывно содрогается от подводных течений. Поэтому высшая точка в конце будет физиологическим завершением всего пути, хотя на поверхностный взгляд и представляется случайной. <...> Выстрел из ружья, который вначале сразил чайку, был, как видно, роковым и для охотника...»86
Торжественный вечер, посвященный юбилею, состоялся 29 ноября 1960 г. в Афинах, в «Театро технис». Во вступительном слове председатель «Общества греческих писателей» Л. Кукулас сказал: «Чехов — один из наиболее характерных и ярких примеров писателя, который, пустив глубокие корни в своей родной земле, выражает безысходность определенного исторического момента, а гуманностью и искренностью своего слова воздействует на мировую совесть и становится известным и любимым всюду, где есть люди, страдающие и ищущие счастье <...> греческий юбилейный комитет чествует его не только как выдающегося русского прозаика и драматурга, но и как одного из наиболее авторитетных исследователей человеческой души»87.
Влиянию произведений Чехова во всем мире была посвящена речь писателя М. Плоритиса: «Чехов и мы». «Чем объяснить это долголетие и непреходящий интерес после двух войн, после множества «школ» и разных «измов», которые появлялись и исчезали?» — так ставил оратор вопрос и отвечал: «Прежде всего, его искренностью и правдивостью». М. Плоритис называет и другие «секреты» долголетия Чехова: сострадание («Ведь эта печальная, беспросветная жизнь была и историей его собственной жизни») и поэтичность: «Этот «ученый» и отзывчивый человек — подлинный лирик. Но лирик, далекий от экзальтации, риторики и пряных слов. Стиль Чехова исключительно прост, обнажен». Высшей формой поэтичности Чехова, по мнению М. Плоритиса, обладают «Чайка», «Дядя Ваня», «Три сестры», «Вишневый сад»: «Драматургия, в которой сюжет, поступки персонажей играют значительно меньшую роль, чем скрытые чувства, невысказанные мысли, подводное течение, объединяющее и разделяющее людей <...> «атмосфера» (атмосфера окружения — атмосфера душевных настроений) <...> Трагедии, в которых нет ни сильных страстей, ни убийства <...> Только бесконечная тоска, серые тени, мечты, гаснущие с рассветом... Герои, которые живут, вечно ожидая чего-то, что никогда не происходит, и которые сами не способны ничего достичь. Они живут, каждый день молча умирая, как осенние листья, падающие на речной берег...»88
Чеховские искренность, сострадание, сдержанный лиризм, по утверждению оратора, соответствуют трем аспектам духовной жизни людей: науке, любви, поэзии. И потому так долго не смолкает резонанс его творчества в мире. Эти же идеи М. Плоритис развивает в своей книге «Персонажи новой драмы» (1965), где есть раздел о Чехове.
Выступление театроведа Я. Сидериса было посвящено постановкам и изданиям пьес Чехова в Греции. Актер В. Диамандопулос рассказал, как он познакомился с творчеством русского писателя и как исполнял на сцене чеховские роли. В заключение вечера актеры «Театро технис» Лазание и Кацадрамис показали пьесу «Лебединая песня» в переводе Мантоса Крисписа и постановке К. Куна.
В 1960 г. «Театро технис» ставит и «Дядю Ваню» в новом переводе Л. Каллергиса. В 1964 г. труппа К. Муссуриса поставила «Трех сестер», затем «Королевский театр Греции» ставит «Иванова» (1966). «Иванова» ставит и «Национальный театр Греции» в 1967 г. Новая постановка «Дяди Вани» осуществлена в 1968 году труппой Д. Папамихаил, и эту же пьесу ставит «Театр Кипрского радиовещания и телевидения» в Никозии (1970) и «Государственный театр Северной Греции» в Салониках (1970). Этот же театр ставит в 1974 г. «Вишневый сад» и затем «Трех сестер» (1979). «Трех сестер» поставил также «Театр технис» К. Куна (1975) и «Национальный театр Греции» (1982). В «Национальном театре Греции» поставили также «Чайку» (1975) и «Платонова» (1979). В 1980 г. в театре при «Театральной организации Кипра» был поставлен «Вишневый сад». Одновременно с этим (мы не приводим здесь всех постановок) шли в театрах одноактные пьесы «Трагик поневоле», «Свадьба», «Лебединая песня», инсценировка рассказа «Пассажир 1-го класса» и др.
Ныне чеховские пьесы подолгу не сходят с греческой сцены. Интерес к Чехову отражается также в теоретических работах о греческом театре. Мы уже говорили о книге М. Плоритиса, вышедшей в 1965 г. В 1971 г. вышла книга В. Варикаса «Критика театра»89. В ней анализируется постановка «Трех сестер» в театре К. Муссуриса. «В «Трех сестрах», — пишет автор, — наверно, больше, чем в других произведениях Чехова, ощущается противопоставление удушливой атмосферы России начала нашего века и внутренних стремлений и идеалов писателя». «Ни один эффектный жест, ни одна «драматическая» случайность не вклинивается в сюжет; то, что мы называем «завязкой» и «действием», почти полностью отсутствует. Так живей передается ощущение болота, затхлой провинциальной жизни».
Размышляя над постановкой «Трех сестер», В. Варикас пишет об истоках поэтичности чеховской драматургии: он видит их, во-первых, в характере диалога действующих лиц и, во-вторых, в том, как Чехов изображал повседневность. «Персонажи Чехова обычно произносят монологи. Даже принимая участие в самой оживленной беседе, каждый поглощен своими мыслями <...> И в то время как продолжается диалог о пустяках, теплящаяся драматическая ситуация постепенно обостряется и целиком овладевает вниманием зрителя. Это то, что мы называем «атмосферой» и что придает своеобразие и прелесть драматическим произведениям этого русского писателя. Он ничуть не отходит от реальности. В детально нарисованных картинах жизни не чувствуется равнодушия. Может быть, потому что за ними стоит он сам. Никто так остро не пережил драму одиночества и безысходности, как он сам. <...> В каждом из его героев, по крайней мере в тех, которым он симпатизирует, — а их большинство, — есть частица его самого. Поэтому его слово обретает такую теплоту и взволнованность, подчас непостижимые для такого «объективного» искусства, как драматургия».
В этой же книге В. Варикас анализирует постановку «Дяди Вани» театральной труппой Д. Папамихаила (1968). И опять критик выходит к общим суждениям о чеховской драматургии вообще. ««Дядя Ваня», — пишет он, — затрагивает две наиболее распространенные темы драматургии и прозы автора «Вишневого сада»: проблему несчастья и невозможности его предотвратить».
Начиная с 1960-х гг., пьесы Чехова идут на греческой сцене без перерыва. «Я считаю Чехова главным прогрессивным основоположником современного мирового театра. Он творил, не изменяя правде и правдоподобию», — пишет греческий режиссер К. Кун90, отражая общее мнение, сложившееся в последние десятилетия.
Более подробную информацию о переводах произведений Чехова, об отзывах критики и о постановках пьес (в том числе и 1970—1982 гг.) см. в Приложении.
Приложение
I. Переводы
1. Отдельные произведения в периодической печати (1900—1980)
1. Произведение искусства. Перевод А. Константинидиса // Панафинеа. А. 1900. С. 64—67.
2. Тоска. Перевод его же // Панафинеа. А. 1900. С. 179—181.
3. Черный монах. Перевод его же // Панафинеа. В. 1901. С. 50—56, 106—109, 149—151.
4. Пассажир 1-го класса. Перевод его же // Имерологион Скоку. 1902. С. 299—304.
5. Клевета. Перевод его же // Там же. 1902. С. 299—304.
6. На чужбине. Перевод К. Коколиса // Там же. 1904.
7. Скрипка Ротшильда. Перевод А. Константинидиса // Панафинеа. Н. 1904. С. 272—277.
8. Вишневый сад. Перевод его же // Панафинеа. О. 1905. С. 262—271, 301—307, 333—340, 368—373.
9. Страшная ночь. Перевод К. Коколиса // Имерологион Скоку. 1906. С. 369—375.
10. Чайка. Перевод А. Константинидиса // Илисиа. А. 1906. С. 83—151.
11. Предложение. Перевод его же // Имерологион Скоку. 1906. С. 205—220.
12. Моя жизнь // Воспорос. А. 1907.
13. Медведь. Перевод К. Коколиса // Имерологион Скоку. 1907. С. 113—127.
14. Мой домострой. Перевод А. Константинидиса // Эллиники эпитеориси. В. 1908. С. 137—140.
15. Спать хочется. Перевод К. Коколиса // Имерологион Скоку. 1908. С. 129—134.
16. Событие. Перевод П. Панагопулоса // Диапласис тон Педон. IH. 1908. С. 77—78, 88—89.
17. Бабы. Перевод А. Константинидиса // Космос. М., 1909. С. 141—143.
18. Ну, публика! Перевод Т. Евтерниса // Эллиники эпитеориси. В. 1909. С. 157—159.
19. Орден. Перевод А. Константинидиса // Полимния. AI. 1909. С. 5—7.
20. Житейские невзгоды. Перевод П. Панагопулоса // Эллиники эпитеориси. В. 1909. С. 950—951.
21. Альбом. Перевод А. Константинидиса // Имерологион Скоку. 1909. С. 84—86.
22. Лишние люди. Перевод Т. Папавасил // Миниэон Парартима Афинон. В. 1909. С. 2155—2158.
23. Пари. Перевод Т. Золопулоса // Там же. В. 1909. С. 1642—1645.
24. Беззаконие. Перевод П. Панагопулоса // Мелети. Г. 1910. С. 174—175.
25. Без заглавия. Перевод К. Коколиса // Имерологион Скоку. 1910. С. 156—160.
26. В почтовом отделении. Перевод А. Константинидиса // Иконографимени. 1910. С. 143—145.
27. Панихида. Перевод его же // Имерологион Скоку. 1911. С. 41—44.
28. Счастливчик. Перевод П. Панагопулоса // Пинакотики. IA. 1911. С. 194—195.
29. Московские лицемеры. Перевод А. Константинидиса // Панафинеа. КВ. 1911. С. 81—83.
30. Месть. Перевод А. Рафаш // Панафинеа. КА. 1911. С. 314—316.
31. Брак через 10—15 лет. Перевод А. Константинидиса // Панафинеа. КГ. 1912.
32. Недобрая ночь. Перевод Н. Манякиса // Эллиники эпитеориси. 1912. С. 88—89.
33. Дорогая собака. Перевод К. Коколиса // Имерологион Скоку. 1912. С. 124—126.
34. Месть. Перевод П. Панагопулоса // Имерологион Пинакофикис. 1912. С. 24—28.
35. Рассказ, которому трудно подобрать название. Перевод К. Коколиса // Фисис. 1912. С. 356—357.
36. Тоска. Перевод его же // Имерологион Скоку. 1913. С. 160—165.
37. Теща-адвокат. Переводчик неизвестен // Армония (Кипр). A. 9. 1913. С. 15—16.
38. Неудача. Перевод А. Константинидиса // Иконографимени. I. 1913. 14. С. 74—75.
39. Страшная ночь // Ники I. 1914. 26. С. 18—19.
40. Анюта. Перевод Д. Валаку // Ники I. A. 30. 1914. С. 16—18.
41. В номерах. Перевод К. Коколиса // Имерологион Скоку. 1914. С. 173—176.
42. В потемках. Перевод его же // Там же. 1915. С. 218—223.
43. Приданое. Перевод его же // Там же. 1916. С. 138—143.
44. Злой мальчик. Перевод М. Биклиса // Имерологион Скоку. 1916. С. 336—343.
45. В почтовом отделении. Перевод К. Коколиса // Там же. 1917. С. 109—110.
46. Аптекарша. Перевод Х. // Пневма. A. 1. 1917. С. 17—18.
47. Любовь. Перевод его же // Там же. A. 2. 1917. С. 28—30.
48. Брак по расчету. Перевод К. Коколиса // Имерологион Скоку. 1918. С. 195—197.
49. Гусев. Перевод его же // Неа эстиа. 1929. С. 898—971—974.
50. Брак по расчету. Перевод Ч. Пападаки-Спираки // Неа эстиа. H. 1930. С. 868—870.
51. Жена. Перевод Х. Лазариду // Там же. 1932. С. 1254—1257.
52. Степь. Перевод Э. Пабики и Э. Панселину // Неа эстиа. 1932.
53. Счастливчик // Букэто. 1933.
54. Приданое. Перевод К. Коколиса // Пирсос. 1935.
55. Разговор человека с собакой // Афинаика Нэа. 1939. 6 июня.
56. Смерть чиновника // Траст. 1949. 4 февраля.
57. Неудача // Там же. 1949. 4 февраля.
58. Мститель // Там же. 1949. 4 февраля.
59. День за городом // Эклоги. 1952. Август.
60. Свадьба. Перевод А. Сарантиди // Театр 66. Афины, 1966.
61. Иванов. Перевод К. Сталеатиу // Театр 67. Афины, 1967.
62. Чайка. Перевод А. Сарантиди // Там же.
63. Душечка // Пантеон № 701. 1980. Июнь. С. 154—157.
64. Медведь. Перевод П. Кологерикоса // То Эллиникон Театрон. 1980.
2. Отдельные издания
1. Рассказы. Переводы А. Михаса. Афины, 1920.
2. «Ночь на кладбище» и другие рассказы. Переводы А. Константинидиса. Афины, 1921.
3. «Житейские невзгоды» и др. Переводы С. Канонидиса. Афины, 1932.
4. Палата № 6. Афины, Анатоли, 1924.
5. Предложение. Афины, 1935.
6. Дядя Ваня. Перевод Х. Лабадориса. Афины, 1939.
7. Три сестры. Дядя Ваня. Переводы А. Сарантиди. Афины, 1939.
8. Вишневый сад. Перевод А. Александру. Афины, 1945.
9. Степь. Перевод Скядаресиса. Афины, 1954.
10. Рассказы. Переводы и предисловие К. Симопулоса. Афины, 1955.
11. Степь. Перевод С. Спатариса. Афины, 1955.
12. Пьесы. Переводы Л. Каллергиса. Афины, 1960.
13. Враги. Перевод А.М. Афины, 1960.
14. Избранные произведения. Переводы А. Кастанакиса. Предисловие М. Авгариса. Афины, 1960.
15. Рассказы. 1885—1891. Переводы Е. Андрулакиса. Афины, 1962.
16. «Дама с собачкой» и другие рассказы. Переводы и предисловие М. Аксиоти. Афины, 1967.
17. Дядя Ваня. Перевод Д. Деджрджиса. Афины, 1968.
18. «Палата № 6» и другие рассказы. Переводы М. Аксиоти. Афины, 1969.
19. «Пари» и другие рассказы. Переводы ее же. Афины, 1969.
20. Переписка. Переводы и предисловие ее же. Афины, 1970.
21. «Житейские невзгоды» и другие рассказы. Перевод Г.К. Афины, 1970.
22. Полное собр. пьес: В 3 т. Переводы К. Теофанус. Предисловие Н. Николопулоса. Афины, 1970.
23. Ванька. Унтер Пришибеев. Переводы А. Кочолиса. Афины, 1971.
24. Степь. Палата № 6. Дама с собачкой. Переводы А. Фитракиса. Афины, 1972.
25. «Дуэль» и другие рассказы. Переводы М. Розидиса. Афины, 1973.
26. Студент. Афины, 1973.
27. «Мужики» и еще 11 рассказов. Переводы М. Розидиса. Афины, 1975.
28. «Три сестры». Перевод Д. Детзортзиса. Афины, 1976.
29. Повести и рассказы. Переводы Я. Кухцоглу. Афины, 1977.
30. Драма на охоте. Перевод Х. Пападимопулу. 1971.
II. Пьесы на греческой сцене (1902—1982)
1. Медведь. Неа скини. Афины, 1902. Перевод К. Ладопулоса.
2. Медведь. Труппа Т. Иконому. Афины, 1909.
3. Медведь. Труппа Т. Иконому. Афины, 1910.
4. Предложение. Труппа Т. Иконому. Афины, 1910.
5. Трагик поневоле. Национальный театр. Афины, 1927. Перевод М. Кунелакиса.
6. Лебединая песня. В зале афинской консерватории. 1929. Перевод М. Кунелакиса.
7. О вреде табака. В зале афинской консерватории. 1929. Перевод М. Кунелакиса.
8. Медведь. В зале афинской консерватории. 1931. Перевод М. Кунелакиса.
9. Трагик поневоле. В зале афинской консерватории. 1931.
10. Дядя Ваня. Труппа Э. Веакисаю. Афины, 1931. Перевод А. Сарантиди.
11. Медведь. Труппа К. Куна. Афины, 1932.
12. Три сестры. Елефтеро Театро. Афины, 1932. Перевод Г. Казандзаки.
13. Чайка. Труппа М. Котопули. Афины, 1932. Перевод Д. Мират.
14. Предложение. Паико Театро. Афины, 1933.
15. Вишневый сад. В зале афинской косерватории. 1939. Перевод Л. Каллергиса.
16. Чайка. Труппа М. Котопули. Афины, 1940. Перевод его же.
17. Вишневый сад. Театро технис. Афины, 1945. Перевод его же.
18. Предложение. Труппа Аликис. Афины, 1945.
19. Три сестры. Национальный театр. Афины, 1951. Перевод А. Сарантиди.
20. Дядя Ваня. Национальный театр. Афины, 1953. Перевод его же.
21. О вреде табака. Театро технис. Афины, 1955. Перевод М. Алексоса.
22. Юбилей. Театро технис. Афины, 1955. Перевод М. Волонакиса.
23. Предложение. Орфеас. Афины, 1955.
24. Медведь. Театро технис. Афины, 1955. Перевод Л. Каллергиса.
25. Вишневый сад. Театро технис. Афины, 1955.
26. Чайка. Национальный театр. Афины, 1957. Перевод А. Сарантиди.
27. О вреде табака. Театро технис. Афины, 1957. Перевод Алексоса.
28. Лебединая песня. Театро технис. Афины, 1959. Перевод М. Крисписа.
29. Дядя Ваня. Театро технис. Афины, 1960. Перевод Л. Каллергиса.
30. Трагик поневоле. Труппа К. Харацариса. Салоники, 1961.
31. Пассажир 1-го класса. Труппа А. Александракиса. Афины, 1963.
32. Три сестры. Театр К. Мусуриса. Афины, 1964. Перевод Л. Каллергиса.
33. Чайка. Государственный Театр Северной Греции. Салоники, 1965.
34. О вреде табака. Государственный Театр Северной Греции. Салоники, 1966.
35. Предложение. Театр Новой Ионии. Афины, 1966. Перевод А. Сарантиди.
36. Иванов. Национальный театр. Афины, 1966. Перевод К. Стаматиу.
37. Лебединая песня. Государственный Театр Северной Греции. Салоники, 1968.
38. Дядя Ваня. Театро Алампрас. Афины, 1968. Перевод Л. Каллергиса.
39. Дядя Ваня. Театр Кипрской Организации Радиовещания. Никосия, 1970.
40. Дядя Ваня. Государственный Театр Северной Греции. Салоники, 1970.
41. Чайка. Театральная Организация Кипра. Никосия, 1972. Перевод Л. Каллергиса.
42. Предложение. Государственный Театр Северной Греции. Салоники, 1973.
43. Вишневый сад. Государственный Театр Северной Греции. Салоники, 1974. Перевод Л. Каллергиса.
44. Три сестры. Театро технис. Афины, 1975. Перевод Г. Севастикоглу.
45. Чайка. Национальный Театр Греции. Афины, 1975.
46. Чайка. Театро Каппа. Афины, 1976. Перевод Кс. Калогеропулу.
47. Платонов. Национальный Театр Греции. Афины, 1979.
48. Три сестры. Государственный Театр Северной Греции. Салоники, 1979. Перевод Г. Севастикоглу.
49. Вишневый сад. Театральная Организация Кипра. Никосия, 1980. Перевод Л. Каллергиса.
50. Три сестры. Национальный Театр Греции. Афины, 1982.
III. Греческая критика о Чехове (1900—1982)
1. Общие работы о Чехове
1. Михалидис К. Заметка о значении популярности Чехова // Панафинеа. Т. I. 1900. С. 64.
2. Лефас П. Творчество Чехова // Русские рассказы. Афины: Марасли, 1903. С. 152.
3. Ликиардопулос М. Смерть Чехова // Панафинеа. Т. 8. 1904. 15—31 июля. С. 215—216.
4. Казандзакис Н. — <О Чехове> // История русской литературы. Афины, 1930.
5. Працикас Г. Антон Чехов // Неа эстиа. 1954. № 56. С. 1491—1495.
6. Терзакис А. Чехов, поэт пешеходов // Неа эстиа. 1960. № 67. С. 352—361.
7. Сидерис Г. Театр Чехова в Греции // Там же. С. 362—373.
8. Харис П. А. Чехов. Один человек, одна эпоха // Элефтерия. 1960. 11 февраля.
9. Кукулас Л. Столетие Чехова // Эпифэорисис Технис. IB. 1960. С. 86.
10. Плоритис М. Чехов и мы // Там же. IB. 1960. С. 87—89.
11. Плоритис М. Вчера и завтра // Фигуры новой драмы. Афины, 1965. С. 35—51.
12. Авгерис М. Зарубежные писатели. Афины, 1966. С. 356.
13. Валетас Г. Чехов в новогреческой литературе. Распространение его творчества и влияние // Эллино-Совиэтика хроника. 1980. № 50. С. 13—16.
14. Валетас Г. Чехов в Греции // Эолика граммата. 1980. № 56—57. С. 87—95.
15. Георгис Г. Чехов: 120 лет со дня его рождения // Элефтеротипия. 1981. 26 января.
16. Александропулос М. А. Чехов // История русской литературы: В 3 т. Т. 2. Афины, 1978. С. 326—335.
17. Александропулос М. Больше свободы. Чехов. Афины, 1981.
2. Статьи о пьесах и рецензии на спектакли (1932—1982)
1. Политис Ф. Три сестры // Проиа. 1932. 4 июня.
2. Киру А. Чайка // Эстиа. 1932. 5 июня.
3. Уранис К. Дядя Ваня // Этнос. 1932. 6 июня.
4. Назос Г. Чайка // Катимерина. 1932. 6 июня.
5. Политые Ф. Дядя Ваня // Проиа. 1932. 7 июня.
6. Родос М. Дядя Ваня // Элефтеро Вима. 1932. 7 июня.
7. Трилос А. Вишневый сад // Неа эстиа. 1939. № 25. С. 207.
8. Трилос А. Вишневый сад // Неа эстиа. 1945. № 37—38. С. 197—199.
9. Терзакис А. Три сестры // Программа спектакля Национального театра. 1950.
10. Трилос А. Три сестры // Неа эстиа. 1951. № 49. С. 622—623.
11. Терзакис А. Три сестры // Вима. 1951. 13 апреля.
12. Трилос А. Дядя Ваня // Неа эстиа. 1953. № 53. С. 335—336.
13. Терзакис А. Вокруг «Чайки» // Программа Афинского Королевского театра. 1957. (Та же статья — в Программе спектакля Национального театра 1975—1976 гг.)
14. Терзакис А. Иванов // Программа Национального театра. 1966. Ноябрь.
15. Тривизал Л. Заметки режиссера // Программа спектакля «Иванов» Афинского Королевского театра. 1966. Ноябрь.
16. Трезос Ф. О постановке пьесы «Иванов» (Национальный театр) // Театр 67. Афины.
17. Иорданис Я. «Дядя Ваня». Сорокалетнее знакомство // Программа гос. Театра Северной Греции. 1970/71.
18. Варикас В. Критика театра. 1961—1971. Афины, 1971. С. 143—144, 292—295 («Дядя Ваня». «Три сестры»).
19. Карлос Кун о Чехове // Программа спектакля «Чайка» Театрального общества Кипра. 1972/73.
20. Хоузер Ф., режиссер. <Заметки> // Программа спектакля «Чайка» Театра Каппа. 1976/77.
21. Димопулос Д., режиссер. <Заметки> // Программа спектакля «Соседство с Чеховым» Национального театра (автор пьесы — Н. Перьялис). 1976/77.
22. Трилос А. Чайка. Три сестры // Эллинико Театро. А. Афины, 1977. С. 378—384.
23. Трилос А. Вишневый сад // Эллинико Театро. Афины, 1978. С. 46—50.
24. Мадзирис С. Двойственность Чехова // Программа спектакля «Платонов» в Национальном театре. 1979/80.
25. Севастикоглу Г., режиссер. <Заметки> // Программа спектакля «Три сестры» в Гос. театре Северной Греции. 1979/80.
26. Христидис М. «Три сестры» // Этнос. 1982. 25 января.
Антон Чехов. «Дама с собачкой» и другие рассказы. Афины, 1990. Обложка
М. Александропулос. Больше свободы. О Чехове. Афины, 1981. Обложка
Примечания
В обзор включены также материалы о восприятии творчества Чехова на Кипре.
*. В самом деле, в детстве писателя эти «узы» не распространились дальше очень слабого знания греческого языка и редких посещений дома грека-купца А.Н. Алферани, где бывали концерты. См.: Летопись жизни и творчества А.П. Чехова. Т. I. 1860—1888. М., 2000. С. 14—16, 27. Ср. выше признание самого Чехова, что он скоро забыл этот язык. — Ред.
**. Это слово, восходящее к фамилии героини романа Г. Флобера «Госпожа Бовари. Провинциальные нравы» (1957), в данном контексте означает, вероятно, состояние безвыходности.
***. Болезнь века (фр.). Прим. ред.
(Вся литература, кроме особо оговоренных случаев, — на греческом языке)
1. См.: Витти М. История новогреческой литературы. Афины, 1978. С. 264.
2. Терзакис А. Чехов — поэт пешеходов // Неа эстиа. 1960. № 67. С. 357.
3. Сидерис Я. Театр Чехова в Греции // Там же. С. 365.
4. Вестник истории мировой культуры. 1961. № 2. С. 106 (на русском языке).
5. Панафинеа. 1900. № 2. С. 67.
6. Имерологион Скоку. 1902. С. 299—304.
7. Панафинеа. 1905. № 9. С. 262—271; № 10. С. 301—307; № 11. С. 333—340; № 12. С. 368—373.
8. Илисиа. 1906. № 1. С. 83—151.
9. Имерологион Скоку. 1906. С. 205—220.
10. Русские рассказы, переведенные с русского языка Павлосом Лефасом. Афины, 1903. С. 152—190.
11. Имерологион Скоку. 1904. С. 284—288.
12. Имерологион Скоку. 1906. С. 369—375; 1908. С. 129—134.
13. Имерологион Скоку. 1907. С. 113—127.
14. Вестник истории мировой культуры. 1961. № 2. С. 106 (на русском языке).
15. Терзакис А. Безымянная история // Неа эстиа. 1967. № 81. С. 172.
16. Чехов А. Рассказы. Перевод А.П. Михаса. Афины, 1920.
17. Чехов А. «Ночь на кладбище» и другие рассказы. Перевод А. Константинидиса. Афины: Элефтерудакис, 1921.
18. Чехов А.П. Палата № 6. Афины, 1924.
19. Неа эстиа. 1929. № 6. С. 898—902.
20. Неа эстиа. 1930. № 8. С. 868—870.
21. Неа эстиа. 1932. № 17. С. 1254—1257.
22. См. Приложение.
23. См. Приложение.
24. Чехов А. «Дядя Ваня». Сцены из деревенской жизни в 4-х действиях. Предисловие и перевод Х. Лабадариса. Афины, 1939; Чехов А. Театр. Три сестры, Дядя Ваня. Перевод А. Сарантиди. Афины, 1939.
25. Чехов А. Вишневый сад. Комедия в 4-х действиях. Перевод А. Александру. Афины, 1945.
26. Чехов А. Рассказы. Перевод К. Симопулоса. Афины, 1955.
27. Чехов А. Тоска. Перевод К. Макри. Афины, 1955.
28. Чехов А. Пьесы. Перевод Л. Келлергиса. Афины, 1960.
29. Чехов А. Избр. соч. Перевод Л. Костанакиса. Афины, 1960.
30. Чехов А. Полное собр. пьес: В 3 т. Предисловие Н. Николопулоса. Афины, 1970.
31. Чехов А. Переписка. Перевод М. Аксиоти. Афины, 1970.
32. См. «Эолика граммата». 1980. № 56—57. Июль.
33. Панафинеа. 1900. Т. 1. С. 64.
34. Лефас П. Творчество Чехова // Русские рассказы. Афины, 1903. С. 152.
35. Панафинеа. 1904. Т. 8. С. 215—216.
36. Панафинеа. 1904. Т. 9. С. 28.
37. Панафинеа. 1904. Т. 8. С. 251—252. Ср. Русь. 1904. № 213, 16/29 июля. С. 3 (на русском языке).
38. Русь. 1904. № 213.
39. Там же.
40. Русские ведомости. 1904. № 253 (на русском языке).
41. Панафинеа. 1904. Т. 8. С. 215.
42. Там же.
43. Там же.
44. Казандзакис Н. История русской литературы. Т. 2. Афины, 1930.
45. Чехов А. Рассказы. Афины, 1968. С. 7—20.
46. Працикас Г. Антон Чехов // Неа эстиа. 1954. Т. 16. С. 1491—1495.
47. Nemirovsky Irène. La vie de Tchekhov. Р., 1946.
48. Працикас Г. Указ. соч. С. 1491.
49. Там же. С. 1492.
50. Терзакис А. Чехов — поэт пешеходов // Неа эстиа. 1960. № 67. С. 354.
51. Там же. С. 355.
52. Там же. С. 356.
53. Там же. С. 357.
54. Там же. С. 358.
55. Там же.
56. Аксиоти М. Его рассказ // Чехов А. «Дама с собачкой» и другие рассказы. Афины, 1962. С. 12.
57. Там же. С. 14.
58. Аксиоти М. Предисловие // Чехов А. Переписка. Афины, 1970.
59. Эолика граммата. 1960. № 56—57. С. 87—95. В номере опубликован также перевод статьи В. Ермилова «Комическое в творчестве Чехова».
60. Валетас Г. Чехов в Греции // Эолика граммата. 1980. № 56—57. С. 148.
61. Александропулос М. Больше свободы. Чехов. Афины, 1981.
62. Сидерис Я. Театр Чехова в Греции // Неа эстиа. 1960. № 67. С. 369.
63. Там же. С. 369.
64. Там же. С. 370.
65. Эстиа. 1931. 6 июня.
66. Этнос. 1931.6 июня.
67. Проиа. 1931. 7 июня.
68. Эстиа. 1932. 5 июня.
69. Эллиники. 1931. 3 июня.
70. Катимерини. 1932. 6 июня.
71. Проиа. 1932. 4 июня.
72. Сидерис Я. Указ. соч. С. 371.
73. Там же.
74. Там же. С. 371—372.
75. Неа эстиа. 1939. № 25. С. 207.
76. Неа эстиа. 1945. № 37—38. С. 197.
77. Там же. С. 198.
78. Неа эстиа. 1951. 13 апреля.
79. То Вима. 1951. 13 апреля.
80. Национальный театр. Сб. статей. Т. 5. Афины, 1950—1952.
81. Там же. Имеются в виду слова, сказанные Чеховым актрисе Н.С. Бутовой: «Весь смысл и вся драма человека внутри, а не во внешних проявлениях» (Чехов и театр. М., 1961. С. 346 — на русском языке).
82. См. примеч. 80.
83. Неа эстиа. 1953. № 53. С. 335.
84. Там же.
85. Терзакис А. Вокруг «Чайки» // Программа спектакля «Королевского театра». Афины, 1957.
86. Эпифэорисис Технис. 1960. № 12. С. 86—87.
87. Там же. С. 87.
88. Там же. С. 88—89.
89. Варикас В. Критика театра. 1961—1971. Афины, 1971.
90. Эолика граммата. 1960. № 56—57. С. 67.
| Предыдущая страница | К оглавлению | Следующая страница |