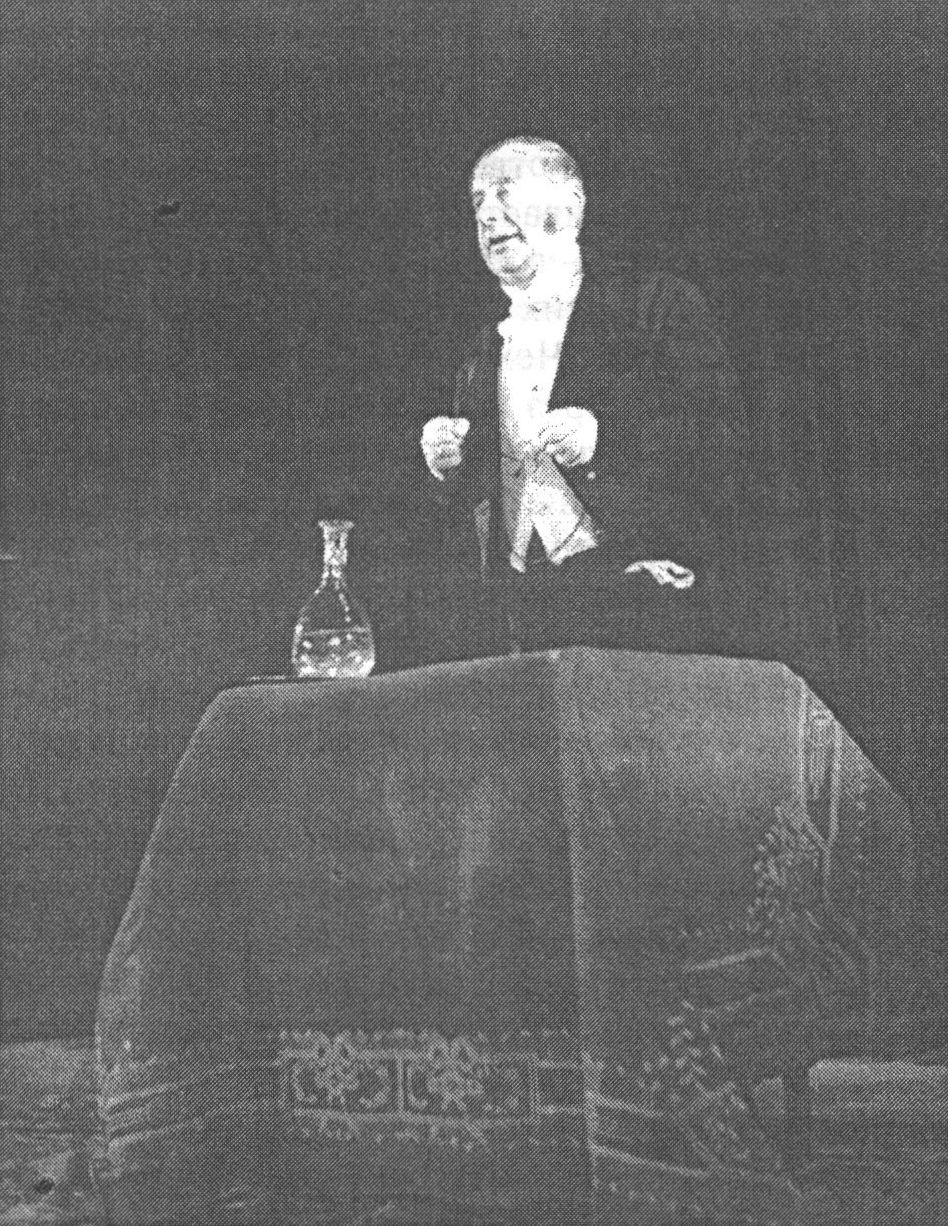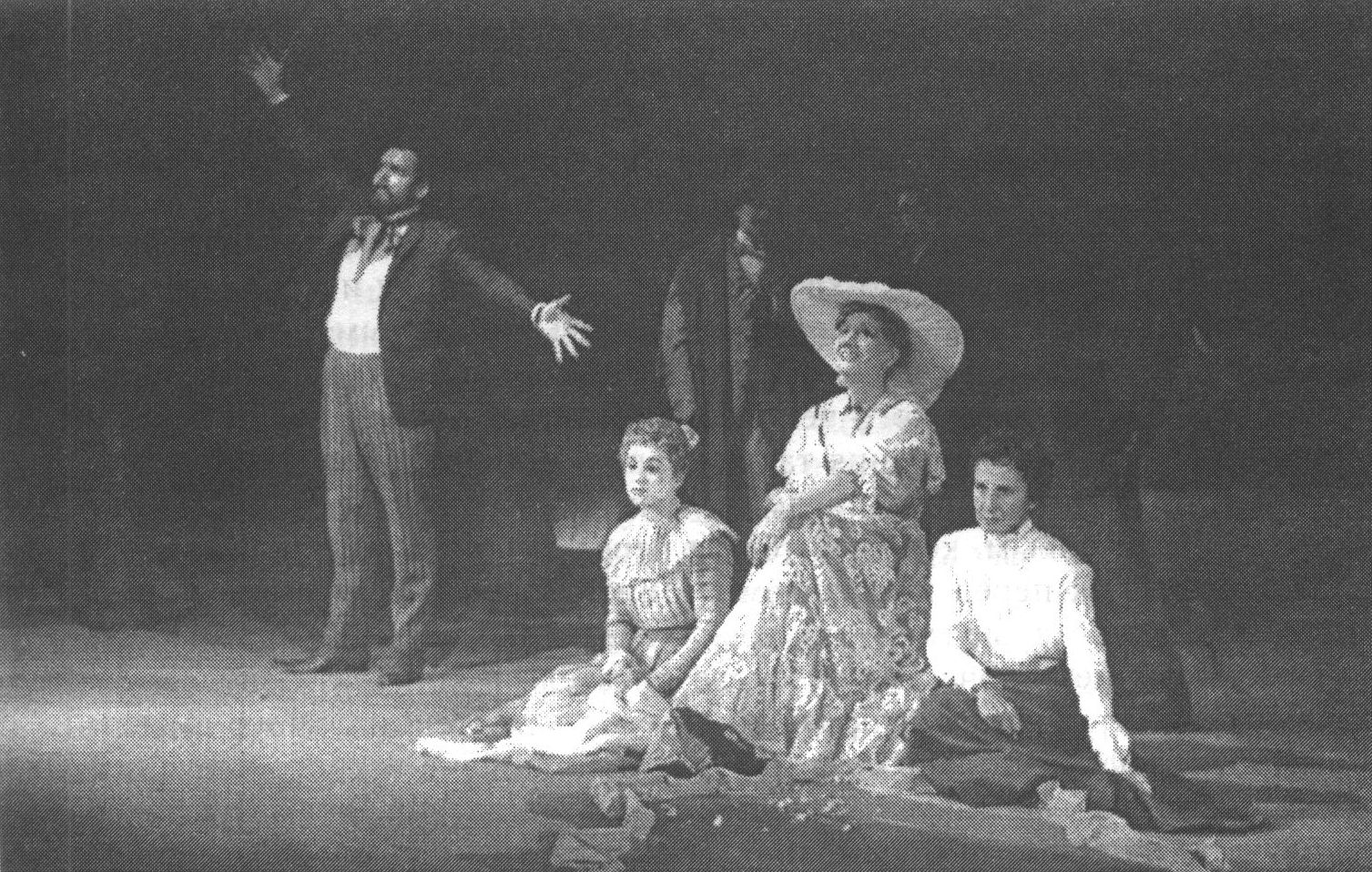К началу XX века румынская литература была подготовлена для восприятия такого сложного художника, как Чехов. Эпоха «великих классиков» — Эминеску, Караджале, Крянгэ — прошла, оставив в наследство высочайшие образцы искусства мирового уровня. Но этого опыта романтизма и критического реализма, собственного и европейского (приобретенного благодаря многочисленным переводам зарубежных классиков), не хватало еще для восприятия Чехова. Нужен был и опыт символизма и постсимволистских течений, опыт, который также был уже приобретен к этому времени, хотя румынская литература и в этом случае избегала крайностей и, подобно некоторым другим восточноевропейским литературам, не утратила своего общественного пафоса, чутко прислушивалась к социальной действительности; нужен был и опыт обновленного реализма, беспощадного, но не теряющего веры в человека. Но... это и был уже опыт самого Чехова, это был параллелизм исканий и учет открытий большого мастера динамично развивающейся в сходном направлении литературой.
Путь Чехова в румынской литературе — сегодня, с высоты более чем столетия, об этом уже можно говорить с уверенностью — постепенное, но неуклонное движение к полному утверждению гениального художника, вплоть до наших дней не перестающего волновать читателя, будить его совесть, доставлять ему эстетическую радость. Начало этого пути, 1895 год — год появления первых рассказов Чехова на этом восточноевропейском языке — по праву считается вехой отсчета в распространении у нас его произведений.
Библиографы и исследователи — Филипп Роман, Барбу Теодореску, Татьяна Николеску, Тамара Гане — уже осветили ряд аспектов нашей темы1. Прежде всего были взяты на учет переводы и положено начало их оценке, были анализированы и обобщены критические работы и читательские отклики. В итоге основные вехи восприятия Чехова вырисовываются довольно ясно, хотя картина еще неполна, и тема «Чехов в Румынии» нуждается в дальнейшем исследовании.
К концу XIX века русская литература приобрела в Румынии большую популярность. Можно сказать, что имена Пушкина и Гоголя, Тургенева и Толстого стали в литературном сознании эпохи в первый ряд классиков мировой литературы. Казалось, что Чехов, идущий за этими писателями, должен был бы проложить путь к читателю легко и быстро. Но сложность восприятия его новаторского искусства была связана вначале с трудностями нового художественного языка; поэтому освоение его наследия шло поэтапно, на протяжении десятилетий.
Для распространения русской литературы в конце века много сделали сотрудники журнала «Контемпоранул» («Современник») и прежде всего критик этого социалистического журнала К. Доброджану-Геря. Поэтому неудивительно, что первые рассказы Чехова были напечатаны в органе румынской социал-демократии «Лумя ноуэ» («Новый мир»). На протяжении одного 1895 года здесь вышло восемь рассказов: «Произведение искусства», «Драма», «Пересолил», «Старость», «Ну, публика!», «Беззаконие», «Смерть чиновника», «Дочь Альбиона», а в следующем году — еще два: «Спать хочется» и «Восклицательный знак». На протяжении первых двух десятилетий XX века целый ряд журналов и газет постоянно печатал рассказы Чехова. Среди них на первом месте — издания, связанные с социалистическим движением: «Ромыния мунчитоаре» («Рабочая Румыния»), «Календарул мунчий» («Календарь труда»), «Вииторул сочиал» («Социальное будущее»). Их примеру следуют и редакции других ориентаций: «Ревиста модернэ» («Современный журнал»), «Эпока», «Универсул литерар» («Литературная вселенная»), «Кроника». Нельзя не согласиться с наблюдениями исследователей о характере этих публикаций. «В распространении рассказов Чехова, — пишет Т. Николеску, — наблюдается одна особенность: хотя его рассказы очень широко печатаются в румынской прессе, однако число их ограничено. В различных журналах очень часто встречаются одни и те же рассказы, иногда в разных переводах, а в большинстве случаев перепечатываются одни и те же тексты. Среди наиболее часто повторяющихся в те годы перепечаток рассказов можно отметить: «Смерть чиновника», «Дочь Альбиона», «Страшная ночь», «Драма», «Произведение искусства», «Восклицательный знак», «Дорогая собака», «Отец семейства», «Толстый и тонкий», «Ночь перед судом», «Нервы», «Унтер Пришибеев», Беззаконие», «Лишние люди»»2.
Настоящим литературным событием стал выход в свет первых книг чеховской прозы на румынском языке. Речь идет о семи изданиях рассказов и повестей в период 1908—1916 гг.3 Первые два — «Избранные рассказы» (1908) и «Рассказы» (1910) — включали произведения писателя в переводе известного прозаика М. Дунэряну, друга юности Михаила Садовяну, вместе с которым за несколько лет до этого он перевел с французского тургеневские «Записки охотника». Знаток русской литературы, обращавшийся также к творчеству Гоголя и Короленко, М. Дунэряну создал высокохудожественные для того времени «варианты» чеховских произведений на румынском языке.
Другим видным переводчиком оказался молодой Ливиу Ребряну, впоследствии — создатель, наряду с Садовяну, румынского реалистического романа начала XX в. Опубликовав некоторые из своих переводов в журналах, Ребряну в 1916 г. выпускает целый том рассказов Чехова под заглавием «Длинный язык». Работа над этим переводом укрепила интерес писателя к русской литературе, в которой он особенно ценил Толстого и Достоевского. Впоследствии, в 1936 г. Ребряну перевел для бухарестского Национального театра пьесу «Три сестры». Многочисленны были в начале века и постановки чеховских пьес, особенно ранних комедий, вызывавших живой интерес публики и высокую оценку театральной критики4.
В межвоенный период румынская литература обогащается рядом новых переводов из Чехова; продолжается публикация в журналах и газетах его прозы и драматургии. В периодической печати третьего и четвертого десятилетий XX века общее число произведений Чехова приближается к внушительной цифре — 200. Среди журналов и литературных газет Чехова печатают самые значительные для того времени: «Адевэрул литерар ши артистик» («Правда литературного искусства»), помещающая переводы А. Фрунзе и Софьи Доброджану-Геря), «Вьяца ромыняскэ» («Румынская жизнь») (публикующая такие значительные повести, как «Ионыч» и «Крыжовник»), «Арта ноуэ» («Новое искусство»), «Универсул литерар», «Лумяа» («Мир») и др. Произведения Чехова включаются в ряд юмористических сборников, содержащих прозу других авторов — иногда известных европейских и русских писателей. Но самое важное значение имеют, естественно, отдельные издания. За этот период шесть раз выходят «Избранные рассказы» (1924, 1926, 1928, 1929, 1931, 1939) и — отдельными изданиями — некоторые произведения: «Дядя Ваня» (1923), «Палата № 6» (1932), «Драма на охоте» (1934). Круг произведений существенно расширяется, особенно стараниями С. Доброджану-Геря (три книжки ее переводов вышли в популярных сериях в 1929, 1931, 1932 гг.). Но до полного Чехова было еще очень далеко.
После 23 августа 1944 г. Чехов по-прежнему присутствует на страницах литературных журналов — так же или даже чаще, чем в межвоенный период. Выход новых изданий рассказов и повестей Чехова, в особенности двух томов «Новелл» в переводе Анны Болдур — в 1950 (т. I) и 1952 годах (т. I—II), так же как и «Одноактных пьес» (1954) и «Пьес» (1954) в переводе М. Сорбу, И. Александреску, Р. Текулеску и В. Жиану и др., был, по существу, подготовкой к новому решительному сдвигу, обозначавшему, в период второй половины 50-х — начала 60-х гг. совершенно новый этап в ознакомлении румынского читателя с творчеством Чехова5. Речь идет о выходе в свет его двенадцатитомного «Собрания сочинений». Anton Pavlovici Cehov. Vol. I—XII, Editura «Cartea rusă» (Издательство «Русская книга») — E.S.P.L.A. — E.L.U., Bucureşti, 1954—1963. Это собрание сочинений осуществлено на основе новейшего для того времени советского Собрания сочинений Чехова (тт. I—XII, изд. «Правда», М., 1950). Как известно, в основу русского двенадцатитомника легло фундаментальное Полное собрание сочинений и писем в двадцати томах 1944—1951 гг. под редакцией С.Д. Балухатого, В.П. Потемкина, А.М. Еголина, Н.С. Тихонова. При хронологическом расположении произведений каждый том румынского издания (как и названных советских) воспроизводит два раздела: 1. Произведения, включенные Чеховым в собрание сочинений, и 2. Произведения, не включенные Чеховым в собрание сочинений, а также предисловие, комментарии и примечания. Таким образом, румынский читатель получил художественное творчество Чехова в относительно полном объеме. Наряду с этим он мог ознакомиться и с таким своеобразным публицистически-социографическим трудом, как «Остров Сахалин» (т. XI), и с избранными письмами Чехова (т. XII).
Что касается качества переводов, можно сказать, что Чехову посчастливилось: для издания его сочинений были привлечены талантливые переводчики, хорошие знатоки русского языка и литературы, что обеспечило высокий художественный уровень переводов, многие из которых выдержали испытание временем. В связи с этим следует назвать такие имена, как Анда Болдур, Отилия Казимир, Валерия и Профира Садовяну, Штефания Велизар-Теодореску.
Велико разнообразие румынских критических отзывов о творчестве Чехова. Правда, вначале малочисленные, они, за немногими исключениями, начали появляться с некоторым опозданием по сравнению с переводами. Все же более ста лет тому назад имя Чехова было уже названо среди крупных русских писателей, а затем — и среди видных представителей мировой литературы.
В 1885 г. газета «Дрептуриле омулуй» («Права человека») опубликовала роман Тургенева «Новь». Предисловие к этой публикации в номерах от 5—9 мая написал К. Доброджану-Геря. Перепечатанное затем в ряде журналов, в том числе и в «Контемпоранул» под заглавием ««Новь» Тургенева», предисловие вошло в собрание «Критических исследований» автора, первое издание которого появилось в 1890 году. Говоря об изображении в литературе русского революционного движения, о немногочисленности произведений, написанных на эту тему, Доброджану-Геря замечает: «Однако немало — скорее намеков, чем описаний такого рода, — мы найдем у молодых талантов, пишущих сейчас. К ним относятся Короленко, Чехов, Успенский, Гаршин и другие»6. На основе этого перечисления имен молодых талантов можно сказать, что критик обратил внимание на Чехова уже при вступлении русского писателя в литературу, чтобы никогда уже не терять его из виду. В статье «Что надо переводить» (1894) Доброджану-Геря среди новых имен писателей, заявивших о себе в литературе, называет Гаршина, Чехова и Короленко наряду с Гауптманом, Томасом Гарди, Стриндбергом, Фариной, Вергой и др.
В статье «Крестьянин в литературе» (1897—1898) критик условно разделяет писателей, создавших произведения о деревне, на две группы: оптимистов и пессимистов. В связи со второй группой он замечает: «В этом году появилась деревенская повесть Антона Чехова — самого талантливого из писателей молодого поколения. Эта повесть, озаглавленная, как и роман Бальзака, «Мужики», — могучее произведение искусства, полное глубоких и правдивых наблюдений: автор решительно порвал с методом изображения крестьянства народниками и испортил им много крови. Повесть Чехова не только носит то же название, что и роман Бальзака, но и по содержанию близка к нему; она дышит тем же пессимизмом, картина жизни, нравов, крестьянской морали столь же мрачна»7. Критик-марксист подчеркивает обобщающее значение ряда произведений, посвященных крестьянству в целом — например, романов Золя или «Власти тьмы» Толстого; ставит «Мужиков» Чехова в один ряд с этой пьесой.
Таким образом, творчество Чехова получает признание в румынской литературе; благодаря рядовым журналистам его высокая оценка проникает в органы массовой печати — и лишь отдельные театральные рецензенты еще противятся постановке той или иной его ранней комедии.
Большое количество специальных статей появляется в 1904 г. в связи со смертью писателя. Обзор их дает Т. Николеску в упомянутой уже выше работе8. Газета «Кроника» писала: «Чехов объединял в себе основные достоинства корифеев русской литературы: он обладал веселым юмором Гоголя, силой психологического анализа Достоевского, мастерством изображения Тургенева и смелой любовью к правде Толстого».
«Умер великий представитель русской литературы», — сообщал трансильванский журнал «Лучафэрул» («Утренняя звезда»). Непревзойденный в ряде своих рассказов, где он выводит характерные русские типы, — писал он, — Чехов отличается «объективностью изображения своих героев: не автор говорит с нами, а люди, которых он показывает». Статья ясской газеты «Эвениментул» («События») утверждала: «Чехов боролся за справедливость, всегда мечтал о новой жизни, о новом мире... Одна мысль, одна мечта владела Чеховым: новая жизнь».
Особого внимания заслуживает предисловие Н. Дунэряну к упомянутому выше сборнику «Избранные рассказы», изданному в 1908 г., — эссе, построенное на сравнении художественной манеры крупнейших русских писателей. Грандиозности, монументальности тем и жанров и эффектным художественным приемам «великих романистов» Достоевского, Тургенева, Толстого он противопоставляет мелкие, обыденные темы и сюжеты Чехова, чтобы прийти к выводу о том, в чем заключалось подлинное величие писателя. (Кто не примет во внимание эту «сверхзадачу» Н. Дунэряну, тот не поймет сущности его статьи, и запомнит лишь, что у Чехова «мелко» содержание.) В рамках этого противопоставления Дунэряну набрасывает такие черты портрета писателя: «Чехов — безжалостный и правдивый художник, анализирующий нашу душу в ее столкновении с мелкими пошлостями повседневной жизни. Его герои — это мы, то есть ты, он, я — в жизни домашней, в жизни литературной <...> Чехов — мастер изображения пошлости жизни. Он делает это путем беспощадного психологического анализа, смягченного легкой, холодно-сатирической улыбкой. Силу видения и анализа Чехов объединяет с необыкновенной простотой формы. Фабулы его рассказов, лишенные специального новеллистического интереса, часто незаконченные, «открытые», сильнее воздействуют на читателя, чем эффектные сюжеты многих классических произведений этого жанра»9.
Другим ключом к пониманию статьи Н. Дунэряну является формула, восходящая, вероятно, к Мериме: «У русских писателей нет стиля», которая уточняется здесь следующим образом: «Любое слово Чехова, как бы незначительно и прозаично оно ни было, на первый взгляд побуждает нас увидеть и прочувствовать образ в полную меру его действительности. Не стиль, не избыток слов, а только факты и вещи, которые ни на один миг не оставляют незанятой нашу душу. Его манера — это своеобразное слияние с правдой, то есть совершенное соответствие содержания и формы... Стиль Чехова настолько прост и ровен, лишен преднамеренности и тем более искусственности, так спокоен и далек от назойливости, что кажется, будто его просто нет». О персонажах Чехова, даже самых мелких из них, сказано: «...Они — не только они, но и мы сами». Все это позволяет автору в заключение назвать Чехова «исключительно оригинальным художником». В литературной печати эпохи продолжают появляться библиографические заметки и небольшие статьи общего характера, принадлежащие румынским, а изредка — и иностранным авторам. Число специальных статей о прозе и драматургии Чехова небольшое: в канун Первой мировой войны и в межвоенный период их просто мало (если не считать отзывов о театральных спектаклях).
Через двадцать лет после смерти Чехова — отмечая эту дату — журнал «Универсул литерар» публикует статью под заглавием «Антон Чехов»10. Ее автор, И. Дусчиан — литератор, интересующийся русской литературой, трезво, со знанием дела определяет границы ознакомления румынской публики с творчеством «этого самого сильного и самого здорового из новых русских писателей». И. Дусчиан замечает, что проза и драматургия Чехова переведены только частично, что его «важнейшие повести и пьесы еще незнакомы румынской публике». Его призыв — познать полного Чехова — как мы уже увидели, был услышан, и последующие годы принесли много ценных переводов.
Говоря о необходимости перевода на румынский язык полного Чехова, И. Дусчиан писал о его произведениях: «это превосходные картины нашего времени, изображающие мир, как он есть на самом деле, без идеализации и без принижения». Творческое своеобразие Чехова, много пишущего о «лишних людях», лучше всего определяет, по мнению автора, повесть «Палата № 6».
В рубрике «Литературная хроника» журнала «Вьяца ромыняскэ» за 1924 г. Теодор Скорцеску публикует статью, озаглавленную «Драматургия Чехова»11. Представляя румынскому читателю вышедший во Франции сборник чеховских пьес, автор останавливается на характерных, по его мнению, «искалеченных судьбах», на «непонятной грубости жизни». Приводя в пример «Чайку», он пишет: «Как и в других пьесах Чехова, персонажи <...> просто проходят друг мимо друга, произнося для себя реплики, что-то вроде монологов. Каждый несет свою душу, как крест, который, может быть, раздавит его, но который он не в силах сбросить». Сосредотачивая внимание на новаторских чертах поэтики чеховского театра, Т. Скорцеску придает особое значение «невиданной силы искренности», естественности, правде искусства русского драматурга, в котором «для условности остается минимальное место». Искусственность преодолевается тем, что, в отличие от других драматургов, в частности, современных французских, он не жертвует всем материалом пьесы ради одной «главной сцены», не сосредотачивает внимания на одном или двух героях, ибо у него все персонажи — герои, и для его спектакля требуется ансамбль. Характеризуя «Чайку», автор хроники признается: «Особенно волнует в этой пьесе — глубокая истинность характеров; произносимые фразы не имеют ничего искусственного, они обладают свежестью, стихийностью, открывающими прямую дорогу к душам персонажей, которые, кажется, не делают ничего иного, как думают вслух».
Видный румынский критик и эстетик Михаил Раля в опубликованной в том же журнале «Вьяца ромыняскэ» статье под заглавием «Разграничения» посвящает Чехову особый раздел12. Отправляясь от философско-этических проблем, М. Раля говорит о Чехове как о пессимисте, но противопоставляет его «догматическим поборникам отрицания», Шопенгауэру и Леопарди, которые находили в своем бунте «утешение». Таким образом, понятие пессимизма переосмысляется и служит выявлению беспощадной ясности и объективности мировосприятия русского писателя, «никогда не преувеличивающего ничего — ни в сторону зла, ни в сторону добра».
Для Михаила Раля чеховское восприятие мира — искренность, ясность, «нейтральность, если такое еще возможно на свете» — служит основой для пояснения его художественной манеры «совершенного реализма». Враг исключительности и резких контуров, Чехов «схватывает жизнь, как она есть, с совершенным реализмом». Впечатление однообразия усиливается благодаря обыкновенным, абсолютно правдоподобным бытовым деталям. Тот же принцип — «как в жизни», то есть отсутствие всякой искусственности, обнаруживает М. Раля и в композиции чеховских рассказов. Ярче всего этот принцип проявляется в концовках произведений, которые обрываются, когда этого меньше всего ожидаешь, без видимой развязки. «Никто и ничто не может лишить его натуральности, естественности, возникающей из гениальной, потрясающей спаянности обыкновенных, незначительных вещей. Чехов одержим лишь вещами незначительными, но не знаю, не кроется ли именно в этом высочайшая степень утонченности».
В межвоенный период румынский читатель начинает получать добротную и широкую информацию о творчестве Чехова. Один из наиболее авторитетных литературных журналов эпохи — «Адевэрул литерар ши артистик» — публикует, за подписью Аурела Вейса, большую серию статей под заглавием «Творчество Антона Павловича Чехова», впоследствии вошедшую в книгу автора о зарубежных писателях наряду с критическими исследованиями об Анри Барбюсе, Ромене Роллане, Эрнсте Толлере и других13. Отправляясь от идеи актуальности Чехова, А. Вейс пишет, не совсем точно учитывая при этом возможности современной ему литературы: «Поскольку недовольство не может найти себе выражение в произведениях настоящего времени, вопрошающий взгляд вынужден вернуться к тому неиссякаемому источнику сочувствия, симпатии и верований души, каким является русская литература прошлого века. Появляются новые издания переводов Достоевского, Тургенева, Гоголя и Толстого, особое внимание уделяется произведениям Андреева и Горького — авторов, которые сделали так много для выражения неудовлетворенности русской души, составляющей и сегодня душевное прибежище Европы, мучительно ищущей обновления, идеала»14.
Останавливаясь на идейном смысле произведений «этого нетенденциозного писателя», автор уделяет большое внимание защите человеческих ценностей, беспощадной критике всякой пошлости, всего, что противоречит подлинным интересам человека. Чехов выступил новатором даже в тех областях, которые считались до конца исчерпанными. Так, М. де Вогюэ утверждал, что к сказанному русскими классиками XIX в. о крестьянстве нельзя добавить ничего нового, но Чехов сказал новое слово и на эту тему, его «обобщающий реализм добавил новую черту к описанию души русского крестьянина». Остро полемизируя с критиками, обвиняющими автора «Палаты № 6» в объективизме, А. Вейс останавливается на анализе этой повести, в которой видит «крик, сигнал тревоги», «жгучую жажду свободы». За видимой темой в повести кроется «высокое направление»: «Без восприятия высокой тенденции и вытекающих из нее философских идей «Палата № 6» значила бы так же мало, как и скелеты романов «Преступление и наказание» или «Братья Карамазовы» — без их широкого, животворного дыхания»15.
Что касается искусства Чехова, то, хотя и здесь отмечаются некоторые существенные черты, оно все же понято не до конца. В частности, автор сожалеет о том, что Чехов не смог написать романа, как будто жанр новеллы ограничивает писателя существенным образом.
Большую статью в двух частях под заглавием «Театр Чехова» публикует в журнале «Фамилия» («Семья»), выходящем в городе Орадеа, Олимпиу Бойтош16. Уже оглавление показывает богатство и разнообразие поднятых здесь проблем:
I. Исторический момент; II. Станиславский и Художественный театр; III. Пьеса — художественный манифест; IV. На большой дороге; V. «Иванов»; VI. Водевили; VII. Период Художественного театра. «Чайка», «Дядя Ваня»; VIII. Общественная действительность. «Вишневый сад»; IX. «Подводное течение»; X. Средства художественной выразительности; XI. «Три сестры»; XII. Послевоенный камерный театр.
Не отличаясь оригинальностью и глубиной анализа, статья О. Бойтоша оказывается полезной своей богатой информацией: опираясь на ряд монографий и статей на французском языке, автор довольно полно освещает поставленные вопросы, подчеркивая значение драматургии Чехова и роль театра Станиславского.
В новых условиях, возникших в результате исторического акта 23 августа 1944 г. — освобождения страны от фашизма — культурная жизнь, особенно для широких масс, коренным образом меняется. Величайшие ценности мировой культуры становятся достоянием широких кругов читателей. Много делается в этот период и для критической оценки и переоценки наследия Чехова.
Достаточно сказать, что только 1954 и 1960 гг., когда отмечались пятидесятилетие со дня смерти писателя и столетие со дня его рождения, принесли десятки критических статей, рецензий, откликов. О Чехове высказались крупнейшие деятели румынской культуры — Захария Станку, Александру Филиппиде, Тудор Виану, Джордже Кэлинеску, Ион Марин Садовяну и другие.
Для Захарии Станку Чехов — великий писатель-гуманист, стремящийся сохранить в человеке «живую веру в себя, надежду, терпение». «Большим достоинством знаменитой чеховской краткости, — пишет автор романа «Босой», — является то, что она всегда остается хрустально ясной. И эта прозрачность — черта не только формы. В произведениях Чехова постоянно ощущается четкое, определенное отношение автора к своим персонажам, хотя он ни на минуту не вмешивается в ход рассказа»17.
Видный поэт и литературный критик Александру Филиппиде, автор статей «Аспекты творчества Чехова», «Чувство природы в творчестве Чехова» и «Искусство писателя», пристально анализирует прозу и драматургию своего русского собрата-предшественника18. А. Филиппиде удается по-новому, ярко и убедительно схватить ряд особенностей чеховской прозы. Наследие Чехова — это, по его мнению, «искусство вечное, хотя в нем нет ни монументальности, ни героического, ни исключительного». Но «все, абсолютно все, что происходит в его рассказах, самые незначительные события потрясают или умиляют нас, заставляют смеяться или огорчают до слез, не меньше — если даже иногда не больше — чем античная трагедия или драма Шекспира. В мелкой повседневной действительности, в которой с точки зрения торопливого поверхностного наблюдателя не происходит ничего или почти ничего, Чехов находит глубокие, волнующие человеческие поступки, вечные драмы, разыгрывающиеся во тьме и молчании, или черты невиданного комизма»19.
Существеннейшим элементом творчества Чехова Филиппиде считает «смешное, которое тут же смешивается с трагическим, комическое, неожиданно уступающее место драме — в той же самой пьесе, в той же самой сцене, даже на протяжении нескольких реплик. Кто-то сказал о Бернарде Шоу, что он «развенчал возвышенное». Чехов ставит возвышенное рядом со смешным и взаимно усиливает их через контраст. Таким образом он открывает возвышенное в повседневной жизни. Показывая это возвышенное, которое до сих пор находило себе место лишь на олимпийских высотах эпопеи, в обыденной, повседневной жизни, он не унижает его, а, напротив, делает более человечным, придает ему убедительность всем доступной реальности»20.
В своей статье «Поэтическое искусство Чехова», отправляясь от переписки Чехова и Горького, Тудор Виану останавливается на других аспектах мастерства писателя21. Среди художественных средств, создающих атмосферу в пьесах Чехова, он подчеркивает роль «несвязанного диалога», в котором реплики следуют друг за другом в относительной независимости, но «исходят из общего состояния персонажей, состояния, определяемого их общественным положением, идеями, чувствами, общими надеждами. Это и есть та общая атмосфера, которая окутывает их всех. Чеховский «несвязанный диалог» передает «социальное равнодушие персонажей в мире погибающих, но еще не погибших и способных к возрождению идеалов».
Со значительной статьей, озаглавленной «Антон Чехов», выступил в 1954 г. Джордже Кэлинеску22. Впоследствии она вошла в том «Избранных сочинений» автора (М., «Худ. литература», перевод А. Старостиной) и стала доступна русскому читателю23.
Широкий круг сравнений, охватывающий, по сути, все важнейшие эпохи и направления мировой литературы, позволил автору выделить основные аспекты творчества Чехова. Критик отправляется от указания на исключительное богатство и разнообразие созданных Чеховым типов. На основе ранних рассказов писателя можно представить себе всю систему неравноправных отношений. Первое звено этой системы — страх подчиненного перед начальством, олицетворяющим для него чистый произвол; такой вид отношений гениально представлен в «Смерти чиновника».
Второй тип отношений между начальством и подчиненным — это бунт последнего на расстоянии и на словах и его смирение вблизи и на деле. Третий тип — это хамелеонство, самозащита при помощи лицемерной адаптации, приспособления к господствующим лицемерным же порядкам. Образ Очумелова, так же как и Пристанды Караджале, достоин, по мнению критика, пера Гомера и Шекспира. Кэлинеску отмечает, что Чехов писал в духе Пиранделло еще до Пиранделло, обнаруживая черты поведения оторванных от действительности людей, подобных безумному Генриху IV.
Останавливаясь на характеристике ряда рассказов с целью воссоздать чеховскую картину неравноправных человеческих отношений, Кэлинеску рассматривает типологию персонажей Чехова в психологическом и антропологическом аспектах — несомненно, важнейших в поэтике русского писателя. Гамма психологических мотивов и характеров оказывается исключительно широкой, включая карьеризм, скуку, филистерство, разочарованность и т. п. Некоторые сравнения Дж. Кэлинеску слишком далеко уводят от специфики чеховского искусства — таково, например, сближение на основе «веселой грусти» с Мольером или возведение юмористических рассказов к Теофрасту и Лабрюйеру. И все же они составляют исходную точку для последующей румынской критики24.
Чеховской драматургии посвящает свою статью и известный прозаик Ион Марин Садовяну. Подчеркивая противоположность поэтического кредо русского писателя всякой искусственности и условности, его стремление изображать жизнь такой, какова она на самом деле, рисовать людей «как в жизни», автор продолжает: «То, что составляет красоту и правду столь совершенных чеховских произведений — это само содержание материала и его воплощение, соответствующие идеалам писателя. Глубокий отклик, тонкость оттенков, психологизм, лиризм, поиски и порывы, предчувствие нового мира — все сохраняет здесь черты самого подлинного переживания и значит, — самого сурового реализма, насыщенного, однако, идеями и деталями, точное распределение которых придает очарование и силу новой форме чеховской драмы»25.
В статье «Печать чеховской драматургии» литературный критик С. Дамиан говорит о Чехове как о новаторе, создающем новую трагедию — в эпоху, когда трагедия уже не является героической, так как в изображаемой действительности исчез пафос смелого, мужественного сопротивления26. «Герой Чехова был некогда человеком способным, с высокими познаниями, полным юношеских стремлений и надежд — продолжает автор. — Но он был побежден низкой, гнусной действительностью, согнулся под грузом обидных условностей и глупых «церемоний» мещанского мира. Драматические произведения Чехова воспроизводят именно эту фазу существования героя — фазу разочарования и падения». Чехов болеет душой за все прекрасное, чистое, цельное, оскорбляемое насилием безобразной среды. За картинами быта, лишенными театральности, скрывается глубокое подводное течение. Эта условность раскрывает значение драматического текста в произведениях Чехова, тонкое и глубокое содержание диалога. При этом нейтральность диалога оказывается видимостью, за ним скрывается насыщенное эмоциональное содержание.
Пятидесятилетие со дня смерти и столетний юбилей Чехова отмечались в Румынии очень широко. Были проведены памятные торжественные собрания, симпозиумы, организованные Академией СРР, Бухарестским университетом, национальным комитетом ЮНЕСКО, Обществом славистов и т. п. Многочисленные выступления в печати, лишь частично отмеченные нами выше, можно было бы пополнить именами других писателей, критиков, исследователей — таких как Р. Боуряну, Х. Ловинеску, Э. Камиляр, М. Зачиу, Т. Гане, Т. Николеску, А. Бэляну, Ш. Битан, М. Кроитору, автор настоящего обзора и другие27. На румынский язык были переведены и работы советских авторов — В. Ермилова, З. Паперного, В. Катаева, подборки статей других зарубежных критиков. Были опубликованы воспоминания современников о Чехове, отрывки из его переписки, отчеты о праздновании юбилея в СССР и других странах, рецензии, выступления актеров, режиссеров и т. д. В крупные культурные события выросли чеховские спектакли Бухарестского национального театра — «Три сестры» и «Чайка», Муниципального театра города Бухареста — «Вишневый сад», Ясского Национального («Дядя Ваня») и Государственного секлерского театра из Тыргу-Муреша («Чайка»).
К столетнему юбилею был приурочен и выход первой румынской книги о Чехове, принадлежащей перу критика, журналиста, впоследствии прозаика Б. Эльвина. Озаглавленная «Чехов», эта книга вышла в бухарестском издательстве для молодежи, в серии «Знаменитые люди», что определило ее жанр и способ изложения: широкое освещение жизни и творчества писателя на фоне общественной и литературной жизни эпохи28. Ознакомившись в оригинале и в румынских переводах с художественными произведениями, изучив переписку, документы, исследования и критику на русском, румынском, французском языках, Б. Эльвин сумел представить личность и литературное наследие писателя полно и увлекательно. Этому способствует и хорошо подобранный иллюстративный материал: фотографии, факсимиле документов и рукописей, воспроизведение декораций к чеховским спектаклям и пр.
Каким же представляется Чехов румынскому автору? Прежде всего, великим писателем, одним из первых десяти в мировой литературе, что подтверждается и данными ЮНЕСКО о его популярности среди читателей разных стран: «Никто не посмеет объяснить его широкую популярность простой обязанностью читать старых великих мастеров. Когда целое столетие оказывается таким щедрым к творчеству писателя, воспринимая его в целостности, сохраняя его смысл и когда это столетие — XX век, ясно, что творчество этого писателя отвечает потребностям души, идет навстречу интересам эпохи» (308).
Многое можно понять в писателе, унаследовавшем, как он говорил, от отца талант, а от матери душу, по тому, как он формировался в семье и школе, по трудной юности. Многое можно понять уже по его фотографиям: «...вглядываясь в оставшиеся от него портреты, не поражаешься, замечая, сколько динамизма таит одно-единственное уловленное мгновение, сколько красноречия в этом застывшем взгляде. Если на фотографии 1888 года легко обнаружить радость жизни, свободный и иронический взгляд на вещи, то портрет 1890 года показывает нам совсем другого Чехова. Это фотография, сделанная перед его поездкой на Сахалин. Куда делась шутливая снисходительность прежних лет? Атмосфера здесь серьезная, даже суровая, в глазах уже нет огня, зажженного страстью и решимостью. Из-под широкого выпуклого лба, линию которого подчеркивает шапка густых черных волос, взгляд устремляется в бесконечную даль. Перед нами — вечный искатель, мечтатель, полный решимости не отводить взгляда от намеченной цели.
Портрет 1894 года — периода Мелихова — опять-таки рисует нам совсем другой образ. Посадка головы уже не поражает силой и гордостью, голова устало склоняется к плечам. Слегка растрепанные волосы, ссутуленные, неравномерно опущенные плечи подтверждают впечатление усталости. На глазах дымка грусти: и все же проницательность этих глаз — прежняя, не знающая преград. На губах играет тонкая, теплая улыбка. Это знаменитая чеховская улыбка. Полная грусти и смирения, она уже никогда не оставит писателя, но станет еще глубже, и с каждым портретом будет все больше напоминать улыбку Евгении Яковлевны — его матери...» (206).
Более глубокие черты индивидуальности писателя вырисовываются в образах его героев — точнее, в оценке этих героев автором книги. Характеристику персонажей — прямую и косвенную — автор использует для раскрытия личности самого писателя, иногда не избегая опасности искажающего отождествления. Убедителен он, когда сближает Чехова с созданными им «великими маленькими людьми» — например, с Дымовым из «Попрыгуньи», жертва и труд которого «побеждают собственное несчастье, достигая предела героизма», или когда находит отзвуки переживаний писателя в «Доме с мезонином». Но судьбы героев говорят и сами за себя: устрашает жизнь людей, задавленных тиранией — например, в «Палате № 6»; щемяще больно за удел слабых, нерешительных интеллигентов и за смешных трагических героев. Проникновенные страницы посвящены «неосуществившимся судьбам», героям, не имеющим твердой опоры, неспособным определить линию своей жизни, понять движение истории. Кажется, что они находятся на корабле, и не знают, с какой стороны подует попутный ветер. Повсюду — ожидания, сомнения и великая жажда перемен. Но пассивность навеки запечатлелась в их судьбах» (281).
В полный голос звучит утверждение автора: «Чехов — на стороне правды, он решительно отвергает ложь, иллюзии». Повесть «Дуэль» наводит на мысль о том, что «не может быть ничего героического в том, чтобы обходить реальные проблемы человеческой жизни, и мужество, не посвященное человеческому счастью, оказывается абсурдным и диким. Нет героизма вне людей. Борьба за человеческое счастье в условиях, определенных историей, в данном месте и в данную эпоху — вот подлинная мера героизма, — говорит Чехов» (186). Отсюда убедительность примера героя повести «Моя жизнь», на деле противопоставляющего свое поведение господствующей морали, или рассказа «Невеста», доказывающего необходимость «перевернуть жизнь».
Тайну искусства Чехова автор раскрывает прежде всего при помощи понятия объективности. Поэзия чеховской прозы рождается из полного, безусловного понимания человеческой натуры и из окружающих человека предметов. «...Голос автора как-будто не слышен. И лишь голос фактов, которым художник подарил жизнь, поражает своей силой и искренностью, уничтожающей, в конце концов, любое сомнение, любое сопротивление. ...Секрет объективности Чехова кроется в предпочтении, которое писатель отдает фактам. Впрочем, Чехов всегда сохраняет по отношению к своим героям испытующий взгляд. У него — свой способ глядеть на людей, вблизи и издали — изнутри, из сердца, из дома, в котором они живут, из социальной группировки, которую они представляют; но и снаружи, когда они остаются одни в холодном свете дня, лицом к лицу с миром. Объектив то придвигает к себе сцену, то отдаляет ее, чтобы охватить целиком, как в панораме. Угол зрения изменяется неуловимо, писатель незаметно меняет свой наблюдательный пост, так что оба плана постоянно пересекаются, хотя в конце концов резко отделяются друг от друга... Можно предположить, что в произведении среднего писателя эта игра линз различной силы представляла бы людей то чудовищно увеличенными, то чудовищно уменьшенными. Но то, что в руках обыкновенного писателя было бы лишь грубым и приблизительным инструментом, у Чехова становится поразительным способом определять меру человечности персонажей и фиксировать таинственное биение жизни» (110—111).
Среди высказываний автора монографии о драматургии особенно интересна идея о том, что «по сути, пьесы Чехова охватывают две сферы действительности, два мира: мир людей, живущих своей серой жизнью, и мир их мечтаний; оба эти мира стоят друг против друга, не в силах соединиться, смешаться. Время, проходя мимо, не приближает к людям мир, о котором они мечтают, мечты никогда не воплощаются в жизнь. Но они продолжают мечтать и надеяться» (287).
Основа новаторства Чехова-драматурга определяется в книге следующим образом: «Глубину революции, осуществленной Чеховым, можно измерить, анализируя роль, которую играет в его пьесах время. Напряжение рождается здесь не из нагромождения событий, происшедших за короткий срок, не из их быстроты и напора, не из неотложного требования их разрешения. Напряженность рождается отсутствием происшествий и решительных перемен в жизни эпохи. Когда общество, зашедшее в тупик, требует перемен, а минуты проходят, не принося с собой ни одного события, когда герои, обещающие разрешить самые насущные проблемы, ничего не предпринимают, положение становится драматическим» (290).
Выразительны в книге Б. Эльвина выдержки из писем Чехова, из свидетельств его современников; из них вырисовывается подлинный облик художника и человека, вся деятельность которого посвящена служению благородным идеалам жизни и искусства. При этом не забыт социальный смысл чеховских произведений, устанавливается их тесная связь с эпохой, выявляется критика капиталистического строя и самодержавия. Но здесь проявляется, однако, и слабость монографии, ее чрезмерный социологизм, т. е. слишком прямолинейное, иногда узкое понимание общественного характера искусства. Так, например, о повести «Черный монах» сказано, что в ее основе лежит противоречие между стремлением Коврина к идеалу и окаменелой действительностью, «множеством неосознанных запретов самодержавия» (222). Очевидно, что в центре этой повести — вовсе не такой конфликт, а внутренние противоречия героя, идейно-философские вопросы о смысле жизни и утверждении человеческой личности в конкретных условиях России того времени, воспевание жизни и красоты во имя человека, что отнюдь не снижает, конечно, социального значения повести. Но справедливость требует отметить, что чрезмерная социологизация — дань догматическому подходу — в сравнительно небольшой степени определяет общую трактовку Б. Эльвином творчества Чехова, и в основном его книга сохраняет свое значение до наших дней.
В ряде статей, посвященных русскому писателю, как и в своей кандидатской диссертации «О новаторских чертах реализма прозы А.П. Чехова», защищенной в МГУ (1967), Мария Арвинте уделяет внимание целому ряду актуальных аспектов миросозерцания Чехова и его поэтики29. Автор исходит из того, что чеховский гуманизм представляет собой своеобразный синтез гуманистических достижений русской и мировой культуры. Ближайшим образом в него входит борьба за самоутверждение человека, за освобождение человеческого сознания от невежества и рабской психологии, мечта о свободе и справедливости, вера в пробуждение человека. Обращаясь к специфике форм повествования, контексту и подтексту, исследовательница пишет: «Чехов умел организацией целого расставлять акценты отдельно от рассказчика и тем самым позволял читателям делать выводы более широкие, чем те, которые делали заинтересованные лица, уточнять мысли, которые мелькали у рассказчиков, иногда не осознанные ими самими». Особое внимание уделяется раскрытию авторской объективности, беспристрастности изображения, в силу чего огромное значение получает каждый элемент художественного произведения, каждый его штрих. На фоне гуманизма писателя эта установка на объективность выглядит прежде всего как стремление человека (персонажа) говорить о себе без посредника, быть самим собой. Чехова нельзя отождествлять с его персонажами, он освещает явления «с высшей точки справедливости» (Горький) и при этом дает читателю возможность постоянно проецировать произведение на уже имеющиеся у него сведения и знания, почерпнутые из жизни и из литературы30.
В соответствии с таким взглядом, именно контекст придает произведениям Чехова глубину и перспективу, выявляя подтекст, «подводное течение», как идейно-оценочный пласт. Такой подход имеет важное методологическое значение: «изучение широких контекстуальных связей Чехова позволяет не становиться на путь механического цитирования, вырывая из произведения отдельные фразы и цитируя их якобы в подтверждение авторской мысли. Высказывания персонажей проецируются обычно на контекст и характеризуют только их самих»31.
Особое значение уделяет М. Арвинте категории времени в прозе Чехова, так как она, по ее мнению, тесно связана с общим авторским отношением к изображаемой действительности: «Чехов выявляет контраст между объективным временем, которое само по себе течет быстро, и временем той жизни, которую ведут люди, — жизни, текущей «медленно», однообразно, пусто». Он сосредотачивает внимание на «утраченном времени», на ушедшей бесполезно жизни. «Аморфность субъективного времени и вместе с тем окаменелость, застылость жизненных порядков отмечены у него в существовании городов, целых коллективов, но показаны и в жизни отдельных людей»32.
Для углубления перспективы изображаемых событий большое значение имеет включение прошедшего времени в настоящее время повествования. Прошедшее время возникает обычно в воспоминаниях героев о прошлом. Эти воспоминания свободно пересекают широкие временные пласты, отсюда «насыщенность времени, которая является также и доказательством его растяжимости, огромных возможностей одного мгновения охватить — благодаря отбору, который производит память чувств, — целые эпохи»33.
Опираясь на работы Н. Берковского и В. Лакшина, М. Арвинте раскрывает семантические функции временных пластов в ряде рассказов и повестей писателя, подчеркивая поливалентность настоящего времени, насыщенного опытом веков. В этом же плане отмечается, что «параллельно с живучим прошлым, которое сохраняется по инерции, писатель показывает и молодежь, пытающуюся пробить «заграждающую ей горизонт стену»». Но старое рушится еще раньше, изнутри («Архиерей»), обнаруживая свою моральную несостоятельность («В овраге», «Учитель словесности»). Нужно сказать, что раскрытие лишь частично указанных актуальных вопросов творчества Чехова не всегда связано с общей характеристикой произведений, трактовка которых оказывается в отдельных случаях малоубедительной. Такова, например, интерпретация «Черного монаха»: автор слишком уверенно относит образ Коврина к положительным героям и ставит его рядом с Дымовым из «Попрыгуньи».
Широкий, хотя и не однозначный отклик вызвала в литературной печати вторая румынская книга, посвященная русскому писателю. Речь идет о «Драматургии Чехова», принадлежащей перу писательницы Леониды Теодореску, преподавателя Бухарестского университета34. В основу книги, вышедшей в 1972 г. в издательстве «Универс», в серии «Исследования», была положена диссертация автора, защищенная годом раньше.
Во вступительной части книги излагается интересная программа интерпретации творчества Чехова, главным постулатом которой является утверждение о том, что четыре большие пьесы: «Чайка», «Дядя Ваня», «Три сестры», «Вишневый сад» — представляют собой, во-первых, исключительно новое художественное явление и, во-вторых, результат широкого синтеза. Автор утверждает, что все попытки критиков рассмотреть произведения писателя под знаком того или иного литературного направления оказались неудачными. «Творчество Чехова, — пишет Теодореску, — подводилось под разные флаги — например, под флаг импрессионизма, символизма, натурализма, реализма вообще и реализма конца века, но результат всех этих эстетических определений был плачевным: Чехов им не поддавался»35.
Абсолютное новаторство Чехова, наследие которого «возвышается» над всеми литературными направлениями, подтверждает, по мнению автора, и то, что представители самых различных ориентаций — от реализма до театра абсурда — признают в нем своего предшественника.
Первый раздел основной части книги, озаглавленный «Предыстория чеховской драматургии», посвящен творческому пути писателя с ранней поры вплоть до 1887—1888 гг. в прозе и до 1895—1896 гг. в драматургии. Здесь подробно рассматривается соотношение в его творчестве двух литературных родов — эпического и драматического. В концепции Л. Теодореску можно выделить следующие опорные пункты:
1. В период 1888—1892 гг. Чехов находил себя только в прозе. Первые семь лет, прошедшие после дебюта, были периодом становления, и даже очень немногочисленные оригинальные произведения этого периода, несущие на себе личный отпечаток, оказываются таковыми лишь в свете поэтики утвердившего себя в последующие годы мастера. Параллельно с процессом становления утверждается принцип осознания ценности, то есть последовательного применения критерия художественности ко всем написанным произведениям. Если из «урожая» 1884 г. в Собрание сочинений, составленное впоследствии автором, вошла только четверть написанных и опубликованных вещей, то все произведения, созданные в 1888 г., были включены писателем в это собрание, то есть оценены как достойные его подписи. «Принцип ценности, — пишет автор, — проявляющий себя в особенности в механизме отбора, предшествующего самому творческому акту, начал действовать безотказно, неумолимо, выпуская на орбиту большой литературы удивительно длинный ряд равноценных шедевров: «Степь», «Пари», «Княгиня», «Скучная история», «Попрыгунья», «Палата № 6», «Володя большой и Володя маленький», «Черный монах», «Учитель словесности», «Дом с мезонином», «Моя жизнь», «Ионыч». Все это — лишь отдельные примеры, потому что назвать все образцы чеховской прозы, обладающие огромной художественной ценностью, — это значит назвать фактически все его произведения. Плотность необычная даже для великих писателей мира» (76—77).
2. Тот факт, что писатель нашел себя только в прозе, ставит его драматургию того периода в особое положение: «Во-первых, драматургия Чехова не имеет своего драматургического прошлого, его пьесы, написанные до «Чайки», не обладают определяющей для генезиса его драматургии ценностью, входя в общий процесс становления его творческой манеры наряду с любым прозаическим произведением. Во-вторых, поскольку настоящий драматургический дебют Чехова состоялся в 1895—96 гг. («Чайка») <...> ясно, что вся предшествующая эволюция Чехова создала возможность подлинного творческого взрыва, обозначившего второе направление в его творчестве, ибо эти годы не представляют собой ничего особенного в развитии прозы, а более поздние произведения составляют ценность в смысле художественном, но не в смысле структуры или эволюции. 1892 год — год появления «Палаты № 6» — является одним из вершинных в творчестве писателя; после него Чехов вступил в период того высочайшего устойчивого равновесия, которое порождает в творчестве любого писателя создание произведений исключительной ценности. После этого кульминационного момента Чехову оставалось лишь создавать ряд равноценных, равных самим себе и его гению произведений, ибо эталон его гения был создан» (19—20). В 1887 г., работая над пьесой «Иванов», Чехов отдавал еще дань старой литературной манере. В этом вопросе наш автор опирается на высказывание Ф.Д. Батюшкова, чье мнение о первых пьесах Чехова как о произведениях массовой русской драматургии 80-х гг. прошлого века, то есть традиционного, не чеховского склада, принимается им целиком не только как фактически достоверное, но и как выражение эстетической оценки, то есть отказа признавать за ранней драматургией особое художественное значение.
3. Другим, можно сказать центральным и наиболее оригинальным итогом этой главы является мысль о том, что для появления подлинно чеховской драматургии решающее значение имела его новаторская проза. Художественные закономерности прозы, новая чеховская поэтика создали условия и для появления новаторской драматургии (после семилетнего молчания в этом жанре, вызванного главным образом неудачей постановок «Иванова» и «Лешего»), воплощенной впервые в «Чайке».
Художественные закономерности этой принципиально новой прозы наш автор раскрывает на примере повести «Палата № 6», подробному анализу которой отводится большое место — поскольку, по мнению Л. Теодореску, поэтика этой повести предваряет искусство большой чеховской драматургии.
Давая короткую ссылку на существующие толкования этой повести, автор утверждает, что два ее основных героя антиномичны и «каждый из них представляет собой оборотную сторону другого», его противоположность: следовательно, источник саркастической чеховской трагедии исключает возможность какого бы то ни было ответа на поставленные вопросы. «В самом деле, что порождает явление Палаты, что заставляет людей войти в палату № 6 — динамическая концепция Громова или статическая концепция Рагина, психическое заболевание первого или отсутствие такого заболевания у второго? Что представляет собой сама Палата — отделение для сумасшедших, тюрьму, Россию того времени или целый мир — мир человеческого бытия? На каждый из этих вопросов — или почти на каждый — критикой был дан ответ, но любой ответ сам по себе является уже искажением смысла повести. Палата — это прежде всего метафора, и в этом своем качестве, как метафора, она подразумевает целый ряд возможных интерпретаций, число которых не исчерпывается приведенным выше рядом. Неповторимую оригинальность искусству Чехова придает то, что его в основном нереалистический вымысел, лишенный любой точной детерминации, воплощается при помощи реалистических приемов» (83).
Вглядимся внимательно в подчеркнуто оригинальную интерпретацию автора данной работы. По его мнению, в «Палате» реализуется старый чеховский (встречавшийся уже в «Полиньке») мотив закрытого пространства: «Палата может быть чем угодно, в определенной системе сигналов она напоминает нам ад — ад, который не убивает диалога между Громовым и Рагиным, но который выявляет опрокинутый порядок, поскольку диалог живет сам по себе, превращая все в предлог для собственного развертывания, — беспокойная натура Громова, созерцательность Рагина и даже сама Палата являются всего лишь предлогами для диалога. Диалог перестает быть средством и превращается в цель. Но если целью существования Рагина и Громова является диалог, знаком этого существования становится «Палата № 6»» (83—84).
И несколько ниже, отрицая пессимистический или оптимистический смысл произведений Чехова, автор пишет: «Стремление обнаружить значение чеховской метафоры и особенно — обнаружить ее правильный смысл — не только бессмысленно, но и нежелательно. На первый взгляд кажется, в самом деле, наиболее разумным дать единственный ответ, но единственного ответа не существует, Чехов не предлагает нам никаких уравнений, даже не дает экзистенциальной точки зрения. Но он создает особый мир и, может быть, даже более того: модель, подверженную, если воспользоваться словами Пушкина, лишь законам, созданным самим автором» (85).
Интерпретация «Палаты № 6» в разбираемой книге существенно отличается от других, бытующих в румынской литературной критике. Читателям и критикам бросались в глаза именно жизненные, реальные проблемы, поставленные в этой повести. Прочтение Л. Теодореску, останавливающееся на уровне абстрактных психологических мотивов, не может претендовать (впрочем, автор и не претендует) на раскрытие эстетического, идейного смысла повести «Палата № 6». Но прав ли он, исключая из идейно-тематической сферы повести проблемы реального бытия человека и — почему не сказать прямо? — проблему общественного строя? Зачем сводить реализм к его вульгарным концепциям, исключающим метафоричность и символичность, и толковать полифоничность искусства как отсутствие валентности, то есть значения? Не «другие критики», а сам текст чеховской повести, на уровне реальных деталей и символов, отвечает на вопросы, «почему люди попадают в Палату», и «что такое Палата». Судьба Громова не сводится к «движению в сторону неудовлетворенности», так же как судьба Рагина не воплощает «движения в сторону удовлетворенности»; первый заболевает, не вынеся подавления своей личности и страха перед — пусть и теоретическим только — протестом против угнетения, а на второго обрушиваются побои сторожа Никиты, нанесенные в ответ на его попытку вырваться из Палаты. Это ли — отсутствие точной детерминации?
В главе «Предисловие к чеховской драматургии» автор вплотную подходит к изложению своей концепции относительно жанровой структуры пьес Чехова. В теоретическом плане за основу берутся положения эстетики Гегеля о комическом, точнее, только одна идея случайности, поскольку все остальное, в том числе определение комического как выявления противоречия между сущностью и внешним проявлением, целью и ее осуществлением, по мнению Л. Теодореску, играет у немецкого философа второстепенную роль, определяя ипостаси комедии, но не ее структуру. Из этой предпосылки выводится основное положение автора: «классическая или дочеховская комедия — это прежде всего комедия случайности» (94).
Модель классической комедии характеризуется на примере гоголевского «Ревизора». Доказывая свое основное положение, в силу которого «комедия — не что иное, как случайное в своем развитии», автор пишет: «Исходный пункт «Ревизора» не порождает сам по себе комедии (то же происходит с «Севильским цирюльником»). Известие о приезде ревизора и страх перед ним городничего и его группы (основные моменты гоголевской предпосылки) еще не создают условий для возникновения комедии. Даже комический характер первого акта не является сам по себе моментом генезиса будущей комедии. Все данные первого акта «Ревизора» (известие, страх, комический характер) составляют еще не обращенный контекст, который, следовательно, может быть обращен в драму или в трагедию, тем более что страх перед ревизором является всего лишь вариантом идеи ожидания. Ведь и «Нора» Ибсена также построена на известии и страхе, только в этом случае ожидание обращается в драму, в то время как у Гоголя оно будет обращено в комедию... Первоначальные элементы «Ревизора» получают определенное направление лишь с появлением случайного, представляющего собой разновидность кви-про-кво (Хлестакова принимают за ревизора) и знаменующего момент обращения контекста, еще нейтрального (в плане жанра), в комедию» (96—97). Таким образом, продолжает Л. Теодореску, «то, что сложится после появления случайности, будет антипредпосылкой по отношению к первоначальному контексту» (97).
Несостоятельность этой аргументации в некоторых основных пунктах выступает слишком явно. Комедия Гоголя — это в высшей степени «комедия характеров», нравов, социальных проблем, положений, ошибок; уже в первом акте, с первых же реплик — даже уже в перечне действующих лиц и в именах — выявляется основа комического, противоречие между сущностью характеров и идеалом. Исходный пункт отнюдь не нейтрален. Случай или ошибка не создают «ложных отношений», точнее, такие отношения существуют лишь на уровне действующих лиц (за исключением отчасти Хлестакова и его слуги), но не на уровне автора и воспринимающего зрителя или читателя. Дело как раз в том, что «случай» — не сущность и не самоцель в «Ревизоре», а, пользуясь словами Михая Эминеску, «прекрасный предлог»36.
Увлечение чистой случайностью как структурным элементом, точнее отказ от восприятия ее художественного значения противоречит понятию искусства как средства общения между людьми и ставит на одну доску противоположные в ценностном отношении эстетические категории. Говоря о том, что комедия как литературное произведение — не что иное, как перевернутая драма, Л. Теодореску продолжает: «Таким образом, «Ревизор» — это драма городничего, который, используя разные пути — честные и нечестные — создал себе положение, рушащееся на наших глазах из-за случайности — Хлестакова. Этот драматический мотив комедии «Ревизор», не являвшийся объектом «серьезной» трактовки — и в «Шинели» Гоголя и в «Станционном смотрителе» Пушкина — представляет собой по отношению к «Ревизору» не что иное, как вариацию на заданную тему» (104—105).
За два с половиной тысячелетия «комедия случайности» исчерпала себя в созданиях Аристофана, Теренция, Кальдерона и Лопе де Веги, Шекспира, Мольера, Бомарше и Гоголя. Пришел Чехов и «сделал одно-единственное дело — отстранил случайность», что позволило ему прибегнуть к новому типу обращения предпосылок, отказаться от возможности «восстановления» и «перевернутого катарсиса». Обо всем этом подробнее говорится в главе «История чеховской драматургии», посвященной сопоставлению пьесы старого типа — «Леший», с новаторской — «Дядя Ваня».
Анализируя «Дядю Ваню», автор уделяет большее внимание любовной интриге, устанавливая три треугольника: «Серебряков-Елена-Войницкий»; «Астров-Елена-Войницкий»; «Серебряков-Елена-Астров» и меньшее — конфликту, который определяется им как столкновение «терпящего несправедливость Серебрякова» с «лишенным всех прав Войницким». При этом «реплики персонажей независимы от них», не характеризуют их. Система авторизации реплик оставляется Л. Теодореску без внимания, как и их контекст, ибо, по мнению исследователя, Серебряков — такая же жертва, как и Войницкий, Астров, Телегин или Соня. В свете этой концепции Чехов «ставит вопрос об условиях человеческого существования посредством комедии, в которой нормальный порядок вещей переворачивается — но переворачивается не при помощи случайности, а это значит, что он не восстановим и не носит эпизодического характера» (145).
Следующая глава — «Чеховская комедия» — посвящена высшему образцу чеховской драматургии — пьесе «Три сестры». Исходный пункт анализа заключается в следующей композиционной схеме: «Три сестры» построены на синтезе двух антитетичных структур: пьесы, воспроизводящей духовное состояние, с одной стороны, и пьесы, построенной на нагнетании событий, с другой. В отличие от классицистической комедии, в «Трех сестрах» нет доминирующих событий; поэтому продолжительность времени определяется здесь циклом, составляющим реальное время пьесы, а события, подсказывающие идею течения времени, являются чем-то вроде комментариев к этому реальному времени (161).
Специфические черты пьесы связываются далее с идеей ожидания и — так же как и в других случаях — с переосмыслением диалога, о котором говорится: «Непосредственное значение реплик совершенно аннулируется, диалог не является больше семантическим или информационным фактором, а превращается в явление само по себе» (167).
Идея ожидания, по мнению исследователя, снимается в репликах героев и превращается в предлог для диалога. Но аннулируется и правда, поскольку неизвестно, кто прав: Ирина, которая хочет работать, или Ольга, которая мечтает отдохнуть; Ольга, желающая выйти замуж, или Маша, обманывающая мужа и т. д. «Таким образом, — продолжает автор, — иерархия ценностей опрокидывается, и все превращается в фарс» (170). У читателя книги Л. Теодореску создается впечатление, что не столько Чехов, сколько сам исследователь отвлекается здесь от всякого семантического и информационного значения, полностью игнорирует авторский голос драматурга.
Все же для одной положительно выраженной идеи автор книги «Драматургия Чехова» делает исключение. Это — идея смерти: «...нужно сказать, смерть постоянно присутствует во всех четырех пьесах Чехова. В «Чайке» она воплощена в черном платье Маши, в отрывке из пьесы Треплева, в состоянии Сорина, в самоубийстве Треплева. В «Дяде Ване» — в смерти стрелочника, которую навязчиво вспоминает в своих репликах Астров, в попытке Войницкого убить Серебрякова...» (170). Все это верно, но думается, что в мире Чехова смерти предшествует жизнь — труд, страдание, красота, любовь, мечта о будущем, которые не являются объектом фарса.
В связи с динамикой пьес особое внимание уделяется конфликту. Указав на то, что многие исследователи — Дж. Кэлинеску, Р. Джексон, В. Ермилов, — говорят, например, о конфликте «Чайки», связанном с проблемой искусства, что почти все исследователи признают наличие конфликта между дворянским и буржуазным укладом в «Вишневом саде», Л. Теодореску выдвигает положение, в соответствии с которым конфликт не полностью отсутствует в пьесах Чехова, но постоянно переживает процесс распада, превращающий его в объект диалога. Это положение аргументируется следующим образом: «В самом деле, трудно найти более верный источник комизма, чем старание Лопахина спасти имение Раневской и Гаева и в то же время — старание Раневской и Гаева аннулировать усилия Лопахина. Как и в «Дяде Ване», в «Вишневом саде» аргументы совершенно конкретны. <...> Реальный смысл положения «вишневого сада» перестает интересовать прежде всего самих собственников; таким образом, сад не становится источником возможного конфликта. Чем сильнее становится желание Лопахина спасти для Раневской и Гаева их сад (желание, идущее против его собственных интересов), тем контраргументы Раневской и Гаева (противные их интересам) становятся патетичнее и искреннее. Таким образом, имение становится все менее важным и превращается из объекта предполагаемого конфликта в предлог для диалога» (179).
В последней главе под названием «Чеховская пьеса» автор исходит из положения В. Шкловского об обновлении искусства за счет так называемых периферийных жанровых форм. В этом смысле для драматургии Чехова огромное значение имеет фарс, принцип которого не исчезает в его творчестве одновременно с жанром его ранних пьес. Первоначальная постановка вопроса проницательна: «Чехов увеличил, по сравнению с классической комедией, расстояние между объективным драматическим характером драмы и структурой комедии. Объективная субстанция чеховской драматургии трагическая, а структура — фарсовая. Существенное различие между классической и чеховской комедией сопоставимо с различием между драмой и трагедией. Эпизодический характер классической комедии заменен тотальной комедией, которая, однако, питается не драмой случайности, а трагедией человеческого существования. Таким образом, расстояние между объективной сущностью произведения и его структурой нарастает» (204).
От этого исходного пункта автор монографии отклоняется, по нашему мнению, когда подробнее объясняет сущность чеховской трагикомедии или трагического фарса. «У Чехова мы являемся свидетелями гибели ценностей через их опрокидывание, и в этом заключается дихотомия чеховской драматургии. В чеховской драматургии мы наблюдаем, стало быть, двойной процесс: гибель ценностей и осуществление этой гибели через опрокидывание иерархии ценностей. Гибель ценностей составляет трагическую субстанцию чеховских пьес, их опрокидывание — комическое видение. Но гибель ценностей является в то же время и объективной реальностью пьес Чехова, а реализация этой гибели через опрокидывание иерархии ценностей составляет их субъективную реальность. С этой точки зрения пьесы Чехова можно назвать трагикомедиями или трагическими фарсами, при условии что эти моменты не накладываются друг на друга, ибо в «Вишневом саде» мы имеем дело не с сосуществованием двух контрастных моментов, — трагедии и комедии, а с единым процессом» (215—216).
В свете такой концепции герои «Вишневого сада» не раздавлены судьбой, которая, кстати сказать, отнюдь не оказывается неумолимой: она их просто-напросто не интересует. В результате, диалог Трофимова и Ани в конце второго акта оказывается ««чистым фарсом», а радостный возглас Трофимова в конце пьесы: «Здравствуй, новая жизнь!» — тупым и смехотворным» (225).
В книге есть указания на связь Чехова с театром абсурда. Автор стремится отметить и общность этих художественных явлений, и различия между ними. «У Чехова, — пишет он, — речь не идет о кризисе языка, как у Ионеско, и хотя некоторые современные исследователи говорят о некоммуникабельности чеховского героя, эта некоммуникабельность существует в семантическом плане диалога (который, однако, находится в фазе разложения), а не в плане эстетическом, и диалогические отношения (как, например, сцена покушения в «Дяде Ване») являются определяющими для подлинных отношений между персонажами. Слова, а не их смысл устанавливают связи в пьесах Чехова; но, в отличие от программных произведений искусства абсурда, у Чехова этот смысл существует, хотя и разлагается, и Чехов описывает процесс, а не результат разложения, как это происходит в современном театре абсурда» (222). И в другом месте, говоря о том, что в драматургии Чехова перед нами — не трагический фарс, а ««трагедия», осуществленная через фарс», автор утверждает: «Чеховский фарс не является симуляцией трагедии, не является какой-то одной трагедией, хотя и является фарсом, как определил Ионеско своих «Носорогов». У Чехова трагедия может проявиться лишь через фарс, но фарс — это не знак трагедии, а сама трагедия» (229)37.
Почти одновременно с книгой Л. Теодореску, под тем же заглавием «Драматургия Чехова», выходит статья М. Новикова в книге «Русские писатели»38. Занимаясь вопросами содержания, автор подчеркивает прежде всего доброту героев Чехова, тот факт, что в его пьесах по существу нет отрицательных персонажей: в конечном счете, таковыми не являются ни Серебряков из «Дяди Вани», ни Наташа из «Трех сестер». Выделяя из общего числа характеров два главных — образ русской женщины и образ молодого неудачника, автор считает, что все чеховские персонажи имеют с ними общий знаменатель: «с определенной точки зрения, все они — люди порядочные, добрые, не способные совершить подлость, но вместе с тем и смешные. Однако их комизм — особого рода, не похожий на комизм соответствующих персонажей Щедрина или Толстого. Есть что-то исключительно своеобразное, подлинно чеховское в том, как высмеиваются все эти Ивановы, дяди Вани, Треплевы, Астровы и т. д., потому что они остаются в своем мире, сейчас уже никого не осуждают и — странное дело — сейчас они являются перед общественным мнением в другой перспективе, как бы уменьшенные вогнутой линзой»39.
М. Новиков ставит вопрос: является ли юмор Чехова «горьким юмором того типа, какой в нашей литературе ввел Топырчану? Нам кажется, что да», — отвечает автор. Трудно установить с той или иной долей точности явное влияние, но ясно, что горький юмор Чехова — это также смех над симпатичными людьми.
Источник драматизма чеховских пьес М. Новиков видит в том, что в них представители разваливающегося, уходящего мира стремятся сохранить свое человеческое статус-кво. «Общую тему его пьес можно было бы определить как протест против торжествующей пошлости, который прозвучал, как призыв к новой жизни». Осмысленная жизнь оказывается иллюзией, как об этом свидетельствует финал «Дяди Вани»: «трагедия добропорядочных людей, опошлившихся против своей воли, — вот основной мотив чеховской драматургии», — заключает М. Новиков40.
Заметным явлением в румынском чеховедении явились диссертация и ряд других работ Татьяны Малицы на тему «Драматургия Чехова и американский театр»41. На базе огромного материала исследовательница прослеживает этапы восприятия чеховской драматургии в США с начала века и до 70-х гг. В работе освещаются аспекты, связанные с предпосылками проникновения творчества Чехова в США, в рамках взаимосвязей двух великих литератур, в соответствии с возможностями и потребностями воспринимающей культуры, выдвижением талантливых переводчиков, актеров, театральных деятелей и т. д.
Особое внимание уделяется «волнообразному» распространению драматургии Чехова, спадам и взлетам увлечения его искусством (вершинные периоды постановок чеховских пьес, как показывает статистика, падают на 1924—1934, 1965—1970 гг.). В книге изучаются факторы, обуславливающие распространение, освоение и влияние чеховской драматургии.
Отправляясь от мысли о том, что художественное наследие осваивается заново каждым новым поколением и что творчество русского драматурга поливалентно (хотя при этом подчеркивается: «Чехов — один»), автор заключает: «Для американской публики существует Чехов 20-х годов и существует Чехов каждого последующего десятилетия. В этих приливах и отливах публика познает автора в соответствии с широтой собственного кругозора, в соответствии с господствующим течением своей собственной культуры. Первый Чехов это, конечно, «русский с самоваром»; здесь есть намеки на сложность его характера, на черты того образа, какой мог возникнуть в представлении иностранца о человеке царской России. Но в этот образ вкрапливается уже и представление о потрясающей тонкости и очаровании русской культуры. Есть Чехов оптимистический, веселый, полный надежды и веры в жизнь, но есть и Чехов мрачный, задыхающийся, певец гибнущих родов, создатель одиноких героев, близких людям эпохи кризиса и разложения в воспринимающей культуре. В наши дни существует в Америке Чехов «симультанизма» или сопоставления, наложения друг на друга самых разнородных мотивов и идей, в отличие от искусства линейного перехода, господствовавшего в прошлом столетии. Наконец, возможно, что в последующие годы по тем же причинам будут играть Чехова, в котором любовь к природе, мечта о ее сохранении будет соответствовать современной тенденции к очищению среды, к ее спасению»42.
Более подробно останавливаясь на критике 50-х гг., исследовательница отмечает такие черты чеховского творчества этого времени, как «пророчество заката» и «элегическое воспевание потерь». Подчеркивая абсурдность отдельных ситуаций, комизм персонажей, эта критика приходит к выводу, что Чехов писал комедии и даже фарсы. Односторонний характер этих крайних утверждений, которые привели к двойственности восприятия и оценки Чехова — как творца атмосферы грусти и упадка или как создателя абсурдного фарса, — почти единодушно осуждается американской критикой последнего времени. Она по праву говорит о необходимости «уравновешенного взгляда», среднего пути, который привел бы к более полному жанровому определению чеховских пьес как «иронических трагикомедий».
Многогранность Чехова — одно из условий его устойчивого воздействия на читателей разных поколений, глубины его проникновения в культуру Нового света. «Несомненно, — говорит Т. Малица, — влияние Чехова в США могло бы составить целую главу истории американской литературы, и эта глава сказала бы много существенного о самом Чехове. На каждом новом этапе освоения сохраняются и какие-то постоянные, доминантные черты чеховского творчества: современность, актуальность, общечеловеческое значение. В этом отношении восприятие Чехова в Америке сопоставимо с восприятием других великих писателей мировой литературы, таких как Шекспир и Гете»43.
Вопросы о влиянии Чехова на американскую драматургию обсуждаются, прежде всего, в связи с именами первых «последователей» русского драматурга в «красное десятилетие» — 30-е годы: Сьюзан Глэспелл, Поль Грин, Клиффорд Одетс и с переработками Дж. Логана. В плане переклички с большой драматургией автор останавливается на творчестве Теннесси Уильямса. В статье «Созвучие драматургии Теннесси Уильямса с Чеховым» Т. Малица представляет и оценивает мнения американской критики, сравнивающей этих двух драматургов. Обосновывается появление у них параллельных тем и мотивов. Автор статьи критикует случаи неправомерного сближения американского драматурга с Чеховым — например, на основе не существующей в «Вишневом саде» темы «чужого» (intrus). Отмечается органическая природа чеховского символа, всегда вырастающего из художественной ткани, «правдоподобных» образов, как это происходит и у Теннесси Уильямса со стеклянным зверинцем Лауры или с алкоголизмом Бланш, в отличие от накладывания символа в пьесе «Лето и дым». На этом последнем произведении Т. Малица останавливается подробнее, обнаруживая типологические параллели в рамках любовной темы: Алма-Джон, с одной стороны, и Лопахин-Варя — с другой. Не настаивая на прямом влиянии, говоря лишь о сходстве и параллелизме, автор завершает свою работу выводом: «С нашей точки зрения, наиболее важен тот факт, что восприятие Чехова в Америке настолько глубоко, что он оказывается эталоном ценности в связи с постановкой любой новой пьесы, с появлением любого нового драматурга какого бы то ни было значения»44.
Бухарестское издательство «Альбатрос» выпускает для молодого читателя микромонографии о выдающихся представителях румынской и зарубежной литературы. В этой серии в 1981 г. вышла книга Моники Сэвулеску «Антон Павлович Чехов», написанная в 1974 г.45 У автора — преподавателя столичного театрального вуза — естественно, верх берет пристрастие к театру Чехова, хотя Сэвулеску представляет своим читателям и чеховскую прозу. Построенная по принципу свободного изложения с сугубо личным взглядом на творчество писателя, книга написана в привлекательном эссеистском стиле.
По сравнению с двумя предыдущими румынскими книгами, документальная основа микромонографии М. Сэвулеску намного уже и скромнее, хотя и здесь использована часть фундаментальных исследований, среди которых — ряд работ советских авторов. В своей концепции исследовательница опирается на работу Г. Стайнера «Смерть трагедии», но не следует за ней слепо. Развивая, в определенном плане, концепцию Л. Теодореску, М. Сэвулеску охотнее останавливается на гуманистических началах творчества писателя. М. Сэвулеску выявляет ряд важнейших сторон личности и творчества писателя. По ее мнению, у доктора Чехова был постоянный культ жизни, «но эта жизнь не сводилась у него к самоценности, как у экзистенциалистов (которые разграничивают ценность и антиценность исключительно в плане жизни-существования и смерти-небытия). Для Чехова жизнь сама по себе включает определенные ценности и антиценности; ценность для него — это естественность, правда, обнаруженная в мире и в отношениях между людьми, а антиценность — отклонение от естественного, сотворение напрасных иллюзий на почве слабости и неспособности сделать правильный выбор из-за отсутствия щедрости или, может быть, альтруизма. Его творчество — это крик протеста не только против абсурдности смерти (в глазах ученого — естественного явления), но и против абсурдной жизни — без красоты, без морального возвышения и призвания» (42).
В трактовке творчества Чехова и в особенности его драматургии М. Сэвулеску исходит из множественности возможных интерпретаций, «подобно тому, как реальный предмет может быть освещен под различными углами зрения». Автор книги разделяет мнение тех критиков, которые считают, что на протяжении десятилетий «Немирович-Данченко и Станиславский клали в основу чеховских спектаклей принципы реалистического и даже натуралистического театра. В соответствии с требованиями системы Станиславского они пытались воссоздать, при помощи пьес Чехова, характеры и ситуации» (34).
Критические замечания Чехова, высказанные в ходе подготовки спектаклей Художественного театра, свидетельствуют, в свете такой концепции, о недовольстве драматурга реалистической трактовкой. «В концепции современников, — говорится далее, — реалистическое театральное искусство предполагало характеры, ситуации, сценические жесты — поступки... Но в этом отношении — особенно в отношении поступков — Чехов не поддается не только реалистической системе Станиславского, но и никакой системе театрального искусства вообще; здесь его драматургия окончательно встает на почву иконоборчества, порывает с любой традицией, разрушает драматические жанры. Больше того, она разрушает и жанры литературные, ибо его пьесы являются не только драматургией, но всегда и чем-то еще: новеллами, романами и т. д. Более того, у него размываются и границы между различными видами искусства, поскольку каждое его произведение — это не только драматургия (спектакль), но и философское размышление, и музыка» (34).
Вывод М. Сэвулеску гласит: «В отношении норм реализма Чехов создает, по-видимому, театральное искусство, свободное от предрассудков. Он строит художественные миры, в которых факты, бытие полностью теряют свой смысл и, создавая «комедии», непринужденно убивает в этих мирах своих героев. Это может быть объяснено только тем, что его герои перестали быть характерами, это уже не самостоятельные персонажи, а сосуществование различных оттенков, воплощение одного общего духовного состояния, состояния реального мира, который, в свою очередь (и здесь, вероятно, кроется предполагаемый в подтексте смысл), является отклонением от естественного порядка вещей. Значит, это перевернутый мир, в котором естественные, разумные законы уже не действуют» (40).
К своему герою — собирательному персонажу своих произведений — Чехов относится двойственно, одновременно осуждая его и сочувствуя ему. «Персонаж, на сцене вызывающий к себе сочувствие, подобно герою классической трагедии, осужден уже с самого начала, как скрытыми законами судьбы, так и собственным бессилием, неспособностью подняться на борьбу с судьбой (здесь его отличие от трагического героя становится явным), оказывается не в состоянии действовать, не может сделать ни малейшего движения для своего спасения. Считать трагическим положение этих «жертв без жертвенности» значит, на самом деле, приписывать им экзистенциальное зло. Здесь, в мастерской рокировке, проявляется гений Чехова: он останавливает зрителя на полпути, перерезает нить аргументации, вводя фразу, слово или реплику «в сторону», благодаря которым вся постройка рушится, аргументация диаметрально переворачивается, возвращается к своему исходному пункту, оказывается несостоятельной и ложной» (70—71).
Истолкование «чеховского персонажа» становится опорным пунктом характеристики творчества писателя. Приводя мнение критики о том, что если бы многочисленные персонажи Чехова были выпущены на улицу, они составили бы население целого города, М. Сэвулеску продолжает: «Но при более внимательном чтении в этом и в самом деле огромном числе персонажей открываешь четыре или пять прототипов, всегда одних и тех же, с бесконечным повторением черт, их определяющих. Или, лучше сказать, поражаешься открытию одного единственного прототипа — правда, очень своеобразного: доктора и «сумасшедшего» философа, на этот раз сплавленных воедино, в одном человеке, прогуливающемся где-то в старом порту Таганрога и смиренно ожидающем прибытия парохода, который давно уже должен был быть здесь...» (79).
В дальнейшем этот единый персонаж воссоздается — точнее, «создается» — М. Сэвулеску при помощи выделения (вырывания из контекста) сквозных тем, мотивов, повторяющихся деталей. Почти все герои стремятся попасть в Москву или уехать из Москвы, одни теряют галоши, другие зонтики и т. п. На каждом шагу встречаешь готовящихся в путь девушек: романический, слегка «старомодный» уход в революцию какой-то Нади из «Невесты» («Не так приходят к революции» — сказал, прочитав рассказ, Горький. — «Каждый приходит по-своему»* — хмуро ответил ему Чехов, который превыше всего ставил свою чистую совесть) <...> тот же дюжинный романтизм — революция в шляпке с лентами — у миленькой и посредственной Ани из «Вишневого сада»» (77).
Особое место отводится «человеку в футляре». Если воспользоваться современным термином, можно сказать, что это «инвариант» чеховского творчества. В десятках своих книг не говорит ли автор постоянно о комизме жизни в футляре и о трагической неспособности вырваться из нее? Мир писателя как будто одновременно защищается и угнетается этим футляром. Существующий порядок приводит в отчаяние, но напряжение разряжается в скрытом пространстве, без какого-либо внешнего отклика, без какой-либо целенаправленной силы (79).
Как мы уже отметили выше, в концепции М. Сэвулеску конфликт переносится из сферы сущностей в сферу видимостей, и в его условном художественном мире не происходит ничего важного, поскольку трагедия произошла еще до начала эпического или драматического действия. Раньше произошло и отчуждение в настоящем уже изолированных друг от друга героев. Впрочем, говорит автор, «герои Чехова — несчастные добряки, страдающие на пороховой бочке. Их страдания показаны писателем с большим мастерством и совершенной эстетической гармонией, в тонах и полутонах, в музыкальных, тонко показанных душевных состояниях» (87).
Резко противопоставляя свой подход догматическому истолкованию литературного произведения, М. Сэвулеску пишет, что «вульгарно-социологическая трактовка творчества Чехова была построена на принципе отделения «нового» и противопоставления его «старому», осуждаемому в противоположность этому новому, от которого можно ожидать события, избавления. Но такая резкая линия раздела оказывается для Чехова излишней и формальной. И нигде это не видно яснее, чем в «Вишневом саде» (который, как это ни парадоксально, подвергался самым крайним, вульгарно-социологическим интерпретациям). Эта «комедия», по крайней мере для двух главных героев — Гаева и Раневской, — является драмой в самом точном значении слова, драмой бытия в двойном смысле — материальном и духовном» (97). Деньги, обеспечивающие человеку пребывание в мире, дают лишь иллюзию свободы. Лопахин вызывает не сочувствие, а презрение зрителя, так же как в презрение превращается постепенно сострадание к людям, теряющим свое привилегированное положение: «Перед нами комедия, полная скрытого сарказма, ласковая и обжигающая — подлинная проверка совести». Явный конфликт существует в «Вишневом саде» только между Лопахиным и Трофимовым — продолжает М. Сэвулеску, — но и этот конфликт испаряется в сцене, где новый владелец «Вишневого сада» и «вечный студент», остановленный в своем порыве к новому миру, «примиряются, целуются по-русски, хлопают друг друга по плечу — иначе говоря, признают, что зло заключается не в том, что у Пети Трофимова нет денег и не в стремлении Ермолая Алексеевича обогатиться, и понимают, что оба — таковы, каковы они на самом деле, по другим, более глубоким причинам» (116). Может быть, спрашивает автор, Трофимов — это просто Гамлет Щигровского уезда, то есть «лишний человек»? Да, дается утвердительный ответ, и в дальнейшем к этой категории причисляются такие варианты данного типа, как Иванов, Платонов, Астров, Вершинин, Андрей Прозоров и другие — все одержимые меланхолией и страхом перед жизнью. Трофимов смешон, как и все «лишние люди» Чехова, пристрастием к «разглагольствованиям о светлой заре будущего», но отличается от своих «собратьев по прогрессу» тем, что лишен всякой привлекательности: «Бедный юноша, репетитор в помещичьих домах, неоднократно исключенный из университета, познавший, по его хвастливым словам, голод и холод (все это звучит как фанфаронство), — прежде чем стать комичным, становится удручающим. Гротеск имеет здесь своим источником противоречие между его внешностью экстропического человека и бесконтрольной верой в себя (куда пропали моменты ясновидения таких героев, как Платонов, Иванов или Астров?)». Мотив потерянного предмета, считает М. Сэвулеску, связывает Трофимова с Платоновым, который теряет перед смертью шляпу, с Тригориным, забывшим зонтик перед прощаньем с Ниной Заречной. Но в отличие от них он находит свои старые галоши и восклицает: «Здравствуй, новая жизнь!»
Истолкование творчества русского писателя в книге М. Сэвулеску колеблется между отрицанием и признанием его «экзистенциального смысла»: «В общем философском плане смерть Тузенбаха лишена всякого значения. Следовательно, реалистическое истолкование чеховской драматургии равнозначно недозволенному искажению, обеднению ее значения. Все же, противореча себе и на этот раз, мы не можем не восхищаться тем множеством реалистических элементов, которые дает нам автор в биографии этого барона!» (163).
В духе признания за Чеховым постановки экзистенциальных проблем оценивается образ героини «Чайки»: «Нина Заречная принадлежит к типу человека, который, захотев, претворяет свою волю в действие. Она выходит из ряда комических героев и через страдание и поступки находит избавление» (176 и след.).
Определяя мир Чехова как мир, в котором господствует враждебная человеку судьба, автор разбираемой книги обнаруживает все же и другую его сторону: «Чехов — выразитель невыносимого, кризисного состояния, которое, однако, не абсолютизируется им, поскольку он сохраняет веру в человека и в будущее; это будущее не столько «светлое», каким видят его «гамлетовские герои» Чехова, сколько трудовое, стремящееся к улучшению условий человеческого существования, будущее больших свершений и, естественно, трагического катарсиса» (212).
В сфере театральной интерпретации чеховских пьес точка зрения М. Сэвулеску определена более строго, хотя и здесь не лишена глубоких противоречий. Так, например, признавая поливалентность текста и право режиссера на «измену» — на новый, актуальный подход, автор чуть ли не исключает из сферы искусства интерпретацию Станиславского, считая ее ««искажением смысла» по линии если не фальшивой, то во всяком случае отклоняющейся от подлинника» (222). Объяснение, что такая трактовка была создана «ради зрителя» и перед нами явление, подобное китчу, вряд ли может считаться состоятельным.
Среди румынских работ о Чехове 1980-х гг. нужно особо выделить исследования Сорины Бэлэнеску — историка русской литературы, преподавателя Ясского университета. В своем лекционном курсе и в статье «Динамика чеховского реализма» Сорина Бэлэнеску рассматривает вопрос о месте Чехова в рамках литературных направлений эпохи46. Точно и глубоко проанализировав историю вопроса — от Андрея Белого до современных работ, — исследовательница определяет манеру Чехова как своеобразный сплав реализма и импрессионизма. Временами кажется, что С. Бэлэнеску просто «примиряет» эти два художественные метода или манеры: «На наш взгляд, импрессионизм, понимаемый как особое видение, обуславливающее манеру письма, является доминантой чеховского творчества. Это не значит, что импрессионизм отменяет реализм; импрессионизм является именно той новой формой реализма, чью сущность стараются определить исследователи русской литературы конца XIX века. Тагер и Фридлендер видят в творчестве Чехова завершающее звено русского реализма, специфика которого состоит в обновлении тематики, в наличии подтекста и ассоциативных средств. Вернее считать чеховский импрессионизм — как это делает немецкий исследователь Д. Чижевский — более выпуклой формой реализма с уклоном в сторону выделения некоторых черт, которым автор дает особое субъективное освещение... Таким образом, характерным деталям придается все большая смысловая нагрузка, превращающая их в символы»47.
Опираясь на В.И. Кулешова в стремлении учесть «все творческие импульсы, которые шли к писателю от его литературной эпохи», С. Бэлэнеску придает импрессионизму принципиальное значение: «В чужой оболочке гауптмановского и метерлинковского письма навстречу Чехову шло его собственное стремление к более свободным формам. Его творчество предстает в виде отточенного реализма, граничащего с натурализмом и символизмом еле уловимыми переходами. Что касается самой сущности чеховских произведений как новой ступени русского классического реализма, импрессионистическое видение мира является их стержнем, что дает возможность узнать чеховскую печать и в «натуралистических», и в «символических» импульсах»48.
В упомянутой выше статье «Динамика чеховского реализма» исследовательница опирается на спорное, с нашей точки зрения, положение о случайности как таковой, заимствованное из работ А. Чудакова и Л. Теодореску. Убедительно однако решение ряда других вопросов, и прежде всего — вопроса о связи новаторства Чехова в области прозы с изменением структуры повествования, что проявляется в переносе акцента на повествователя-посредника, чаще всего — свидетеля. В раскрытии этой проблемы плодотворно используется ряд положений фундаментального труда А. Чудакова «Поэтика Чехова». В своих конечных выводах С. Бэлэнеску склоняется к тому, чтобы отграничить чеховский реализм, в некоторых его самых существенных чертах, от импрессионизма: «Индивидуальность персонажа не исчезает полностью, подобно тому как это исповедуют импрессионисты... Равномерное распределение акцентов не приводит к растворению персонажа, динамика внутреннего «я» и текучесть психологических состояний не исключают существования персонажа как структурного единства, основанного на определенных доминантах, ибо превращение происходит в рамках реализма»49.
В диссертации на тему «Символы в драматургии Чехова», защищенной в Бухарестском университете, С. Бэлэнеску демонстрирует гибкий подход, разностороннее освещение темы50. Владея современным методом исследования и освоив результаты изучения Чехова учеными разных стран, вышедших на основных европейских языках, автор сосредоточивает свое внимание на символах и драматических мотивах чеховской драматургии. Ее работа — важный вклад в научную разработку вопросов поэтики русского писателя.
В сравнительно-литературоведческом плане написано исследование Т. Николеску «Чехов и Сологуб»51. Т. Николеску сопоставляет рассказ «Человек в футляре» с романом «Мелкий бес», считает их двумя дополняющими друг друга произведениями на общую тему: тему критики мещанства, мелкобуржуазного духа. То, что «Человек в футляре» дает концентрированно, сжато и насыщенно, «Мелкий бес» развивает, дополняет, прибавляя детали, элементы, вариации. Сосредоточивая свое внимание на общности характеров Беликова и Передонова, Т. Николеску сознательно отвлекается от «важных или неважных черт различия». Следуя этой линии, она останавливается на общем психологическом мотиве, связывающем (помимо темы мещанства) эти два произведения, — чувстве страха, нередко изображаемом и у Бунина, Белого, Ремизова, а также Горького. В художественном плане отмечаются общие для обоих писателей приемы импрессионизма. Но точно схваченные Чеховым реалистические детали отличают его героев от гротескных, сатирических образов и масок Сологуба.
Тема «Чехов и румынская литература» предполагает, в более широкой перспективе сравнительного анализа, обнаружение связей (параллелизма, возможного влияния или отталкивания) непосредственно с художественным творчеством румынских писателей. Постановка подобных вопросов не была обойдена румынской критикой. Еще Н. Дунэряну в предисловии к «Избранным рассказам» Чехова 1908 г. сравнивал стиль Чехова и Караджале. Построенное на парадоксе предисловие Н. Дунэряну не всегда понималось правильно, и его определения: простота и естественность, с одной стороны, и искусственность, стилизация — с другой, воспринимались как оценочные категории. Постановка и решение подобных вопросов остаются актуальными и сегодня.
Критические работы, статьи и исследования, посвященные сравнительному изучению творчества Чехова и румынских писателей, сосредоточивали свое внимание преимущественно на тематических и сюжетных перекличках, а также на некоторых особенностях восприятия, переводов, откликов, на которых мы остановились выше. Тематическое сходство и сюжетные параллели отмечаются в статьях Ч. Петреску, Т. Гане, Т. Николеску и др., вышедших в послевоенный период. Своеобразный свод этих проблем находим в упомянутой уже статье Дж. Кэлинеску52.
Более подробно останавливается на отдельных аспектах этой темы Тамара Гане в своей работе «Чехов и румынские писатели Садовяну и Ребряну»53. Так, в отличие от Ч. Петреску, говорившего только об аналогиях, Т. Гане оттеняет и различия между писателями, творчество которых изучается параллельно. Примером такого подхода может служить характеристика одной общей для Чехова и Садовяну темы — «неудовлетворенности жизнью». «Эту коллизию, — пишет Т. Гане, — можно отнести к категории «приглушенных страданий». Именно так называет один из сборников ранних рассказов Садовяну. Подобные никому не ведомые драмы тайно переживались многими героями Чехова. Основу рассказа «Тихая заводь» М. Садовяну — счастье, мелькнувшее перед Александриной Виссарион на минуту и навсегда утраченное, — можно было бы усмотреть уже в рассказе Чехова «Ведьма». Правда, для чеховского рассказа характерна иная атмосфера внутренней напряженности. Тему «приглушенных страданий» Садовяну развивает и в романе «Увядший цветок». Описанием провинциальной жизни роман напоминает рассказы Чехова, хотя в нем порой чувствуется и тургеневская грусть по уходящей в прошлое патриархальной жизни»54. Определяя реальные координаты воздействия Чехова на Садовяну в соответствии с развитием его собственного художественного восприятия мира и историко-литературными фактами, в том числе и с увлечением молодого прозаика русской литературой, Т. Гане отмечает, что для определения места Садовяну среди литературных течений эпохи «не столь важно указать на непосредственное влияние того или иного писателя на его творчество, сколько на то, что в период, когда западный реализм под влиянием натурализма и эстетизма был на грани кризиса, Садовяну, вдохновленный любовью и уважением к простым людям, в значительной мере под влиянием русской литературы, шел к реализму, и не только к критическому, но и утверждающему»55.
Конкретный подход характеризует и параллельный анализ творчества Чехова и Ребряну. Останавливаясь на переводах и переделках чеховских произведений, сделанных румынским прозаиком, Т. Гане говорит о возможном влиянии на него Чехова: «если автору удалось выявить скрытый трагизм существования «маленьких людей», этим он в значительной мере обязан Чехову». Заслуживает внимания вывод исследовательницы: «Ребряну соблюдал принцип объективности в повествовании, но одностороннее применение этого принципа иногда приводило его к натуралистическому отображению действительности. Преувеличивая значение инстинктивного начала, ограничивая себя в описании духовной жизни человека, художник рискует забыть о его внутреннем мире. Ребряну, как известно, не всегда умел избежать этого. И мы думаем, что к числу факторов, ограничивших воздействие натурализма на его творчество, нужно отнести влияние Чехова»56.
Думается, что дальнейшая разработка этой темы потребует более широкого учета связи румынского прозаика с писателями, чьи произведения близки ему по структуре, в том числе — с Толстым и Достоевским. Вообще от выявления тематической общности и близости психологических особенностей пора, на наш взгляд, перейти к исследованию литературных мотивов, что позволит определить как сходство, так и своеобразие каждой творческой личности.
Путь Чехова в румынской литературе продолжается. После выхода в начале 60-х гг. Собрания сочинений появились десятки отдельных изданий на румынском языке и на языках совместно проживающих национальностей — венгерском и немецком57. Интерес к драматургии Чехова после постановки Лучианом Пинтилие «Вишневого сада» в Бухарестском муниципальном театре постоянно растет. Несколько ранее, в 70-е г., появились новые сценические интерпретации Алексы Виссариона («Дядя Ваня»), Лучиана Джуркеску («Три сестры») и др.58 Появилось много взволнованных откликов на фильм Н. Михалкова «Неоконченная пьеса для механического пианино». Критика и научные исследования охватывают самые разнообразные стороны художественного наследия писателя, обращая особое внимание на его поэтическое искусство, его вечно современное мировосприятие, тревогу за судьбы человека и мира. Явятся, конечно, и новые формы откликов на чеховское творчество. Сошлемся только на один пример, свидетельствующий о живом восприятии наследия русского писателя в Румынии.
Один из лучших румынских писателей, Сорин Тител, опубликовал свои признания о проделанном им пути к творчеству русского писателя в статье «Открытие Чехова». В открытии Титела интересен и сам процесс, и содержание, интересен и важен его Чехов: «В существовании каждого из нас есть книги решающие. Они навсегда кладут на нас свою печать. Мы живем и пишем под их знаком, и трудно сказать, какими мы были бы, если бы в какой-то момент та или иная книга не поставила под знак вопроса все, что, по нашему мнению, мы знали о литературе, произведя перемену направления, переворот. Для меня таким потрясением были произведения Чехова, его короткие рассказы и пьесы»59.
Первая особенность восприятия румынским прозаиком творчества русского писателя — это ощущение сложности, часто односторонне трактуемой критиками и режиссерами: «Упрощать Чехова, выдвигать всего лишь одну сторону его сложнейшего художественного мира значит, по сути, фальсифицировать его. Если, например, вам нравится Брехт, вам нет никакого смысла обращаться к Чехову! У великого русского писателя ничто не подается запросто, ничто не говорится прямо в лоб, напротив, во всем сказывается что-то вроде притворства, очень тонкого и умелого. Вот почему так легко поддаться его розыгрышу и ничего не понять!»
На определенном этапе для румынского прозаика существовал и Чехов, герои которого, одинокие и изолированные, говорят, не понимая друг друга, между ними нет подлинного общения, они отчуждены и подавлены: «Эти грустные повести, благодаря которым я приблизился к личности и творчеству Чехова, привели меня прямо к горькому зерну его писаний, к Чехову, лишенному надежд и иллюзий, к Чехову-«нигилисту», о котором писал Шестов60. И все же я был бы неправ, если бы попытался создать себе по ним окончательное мнение, потому что, примерно в то же время, я прочел и «Дом с мезонином» Чехова, прочел «Степь» — эту прекрасную песнь родной земле, шедевр, полный света и нежности... Это был Чехов, полностью опровергавший этюд Шестова о «великом нигилисте», автор, полный надежды, которого я полюбил с первого мгновения».
И наконец, был открыт «неудержимый смех Чехова». Современный прозаик — в бытность студентом режиссерского отделения театрального института и учителем сельской школы — вместе со своими учениками поставил пьесу «Юбилей»: «Я работал над этой постановкой, как в лихорадке, и до сих пор уверен, что мне удалось создать потрясающий, исключительный спектакль! «Премьера» была настоящим триумфом. Раскаты хохота — от начала до конца! Мерчуткина была удивительная — подлинная стихия природы, общественный враг номер один, адская машина, разрушавшая все, что попадалось ей на пути. По этому примеру я понял, что означает чеховский смех и какое это потрясающее явление».
В заключение Сорин Тител ставит вопрос, найдет ли он путь к великому Чехову? Думается, что он уже сделал это.
О вреде табака. Бухарест, Дом румыно-советской дружбы, 1960. Юбилейные торжества по случаю 100-летия со дня рождения Чехова. Гр. Василиу-Бирлик — арт. Национального театра им. Й.Л. Караджале. Литературный музей, Москва
Три сестры. Бухарест, Национальный театр им. Й.Л. Караджале, 1954. Наталья Ивановна — Т. Коча, Ирина — М. Бота. Сцена из II действия. Литературный музей, Москва
Вишневый сад. Бухарест, Муниципальный театр, 1960. Лопахин — Б. Черней, Аня — В. Тастаман, Раневская — Н. Стериан, Варя — К. Бертола. Сцена из II акта. Литературный музей, Москва
Примечания
*. Укажем на фактическую неточность: обмен репликами об уходе в революцию имел место не между Чеховым и Горьким, а между автором «Невесты» и Вересаевым. Чехов сказал: «Туда разные бывают пути» (10, 466) — А.К.
1. Roman Filip. Literatura rusă şi sovietică în limba română. 1830—1959. Contribuţii bibliografice. Introducere de Tamara Gane. E.S.I.P.P. Bucureşti, 1959. С. 59—80; Tchekhov en Roumanie. 1895—1960. Bibliografie littéraire selective par George Baiculescu, Alexandru et Angela Duţu et Dorothea Sasu-Timmerman, introduction par Tatiana Nicolescu. Commision nationale de la Republique populaire Roumaine pour l'UNESCO. Bucarest, 1960. 129 с.
2. Николеску Т. Чехов в Румынии // Румынско-русские литературные связи второй половины XIX века — начала XX века. М., 1964. С. 206.
3. См.: Николеску Т. Tchekhov en Roumanie. С. 21—44.
4. См. об этом подробнее: Николеску Т. Указ. соч. С. 208—214; Vîrlan Tatiana. Aspecte ale procesului pătrunderii dramaturgiei lui Cehov în România pînă în 1944 // Studii de literatură, limbă şi metodică. Universitatea Babeş-Bolyai. Cluj; Napoca, 1980. С. 176—186.
5. Cehov A.P. Ghinion. Schişe umoristice. Traduse din ruseşte de R. Donici. Bucureşti. Universul. 1945. 146 с.; Sala № 6. Traduţ cere din limba rusă de prof. S. Sanielevici. Bucureşti. Cartea rusă. 1945. 95 с.; Trei surori. Traducere dim limba rusă de Violeta Jianu. Bucureşti. Cartea rusă. 1945. 125 с.; Livada cu vişini, Ivanov. Unchiul Vania, Pescăruşul. Traducere din limba rusă de R. Teculescu. Clasicii ruşi, Cartea rusa. 1948. 231 с.; Nuvele. In româneşte de Val. Cordun şi Const. Argeşeanu. Prefaţa de N. Moraru. Clasicii literaturii universale. Ed. de stat. 190 с.; Nuvele. Vol. I. Traducere din limba rusă de Anda Boldur. Clasicii ruşi. Cartea ruşă. 1950, 1952. 252, 283 Nuvele. Vol. II. 1952. 443 с.
6. Dobrogeanu-Gherea Constantin. Opere complete. Vol. VI. Ed. Politică. Bucureşti, 1979. С. 377.
7. Там же. Vol. VII. 1980. С. 459.
8. См.: Николеску Т. Указ. соч. С. 213.
9. Cehov A.P. Nuvele alese. Trad. din ruseşte de Dunăreanu. Bucureşti. Librăria SOCEC, 1908.
10. Dr. Duscian I. Anton Cehov // Universul literar. Bucureşti. XL. 1924. № 24. Junie 15. С. 4—5.
11. Theodor Scorţescu. Teatrul lui Cehov // Viaţa românească. XVI. 1924. № 2. С. 260—263.
12. Ralea Mihai. Disociaţii // Ibid. XVIII. 1926. № 4. С. 94—96.
13. Weiss Aureliu. Opera lui Anton Pavlovici Cehov // Adevărul literar şi artistic. Bucureşti. VI. 1925. № 219—222, febr.—martie; Weiss Aureliu. Autori şi păreri. Ed. Naţională S. Ciornei. Bucureşti, 1929. С. 141—186.
14. Weiss Aureliu. Autori şi păreri. С. 143—144.
15. Ibid. С. 171.
16. Boitoş Olimpiu. Teatrul lui Cehov // Familia. Oradea. IV. 1937. №№ 6—7, iunie—iuloe. С. 71—85; № 8, aug.—sept. С. 73—83.
17. Stancu Zaharia. Perioada marilor opere cehoviene // Gazeta literară. Bucureşti. VII. 1960. № 8. С. 3.
18. Philippide Al. Aspecte din opera lui Cehov // Contemporanul. Bucureşti. 1954. № 28, iulie 19. С. 1; Sentimentul naturii în opera lui Cehov // Veac nou. Bucureşti. X. 1954. № 34, iulie 9. С. 2; Arta scriitorului // Contemporanul. Bucureşti, 1960. № 5, ian. 29. С. 3. Под заглавием Aspecte din opera lui Cehov вошли в книгу автора: Philippide Al. Studii şi portrete literare. Ed. Pentru literatură. Bucureşti, 1963. С. 140—159.
19. Philippide Al. Studii şi portrete literare. С. 144.
20. Ibid. С. 148—149.
21. Vianu Tudor. Arta poetică a lui Cehov // Gazeta literară. VII. 1960. № 5, ian. 28. С. 1.
22. Călinescu G. Anton P. Cehov // Studii şi cercetări de istorie literară şi folclor. Bucureşti. III. 1954. С. 7—26. Перепечатывалось в книге Călinescu G. Studii şi conferinţe. Bucureşti. E.S.P.L.A., 1956. С. 224—259 и в других изданиях.
23. Кэлинеску Дж. Избранные произведения. М., 1982.
24. Călinescu G. Scriitori străini. E.L.U. Bucureşti, 1967. С. 585, 603—604.
25. Sadoveanu Ion Marin. Locul lui Cehov în dramaturgia universală // Veac nou. Bucureşti. XI. 1955. № 37, sept. С. . 16. С. 2.
26. Damian S. Pecetea dramaturgiei cehoviene // Gazeta literară. Bucureşti, I. 1954. № 18, iulie 15.
27. См.: Tchekhov en Roumanie. С. 69—85; Kovàcs Albert. Cshehov — otthon (Чехов y себя дома) // Igaz szó. VIII. 1960. Sz. 2. С. 209—215. Статья знакомит читателей с достижениями советского чеховедения.
28. Elvin B. Anton Pavlovici Cehov. Oameni de seamă. Ed. Tineretului. Bucureşti. 1960. 320 с. В дальнейшем ссылки на эту книгу даются в тексте, страница указывается в скобках.
29. Arvinte Maria. Aspecte din activitatea publicistică a lui Cehov // Lucrări ştiinţifice. Inst. ped. «Maxim Gorki». 1961. С. 176—185; Арвинте Мария. О новаторских чертах реализма прозы А.П. Чехова. Автореферат. МГУ, 1957. Arvinte M. Consideraţii despre relaţiile temporare în proza lui A. Cehov // Analele Universităţii Bucureşti. Limbi slave. Anul XVIII. 1969. с. 116—128.
30. Арвинте М. О новаторских чертах реализма прозы А.П. Чехова. С. 4—5, 6.
31. Там же.
32. Там же. С. 9.
33. Arvinte Maria. Consideraţii despre relaţiile temporare in proza lui A. Cehov. С. 120.
34. Teodorescu Leonida. Dramaturgia lui Cehov. Editura Univers. 1972. 276 с.
35. Teodorescu Leonida. Ibid. С. 11. В дальнейшем ссылки на эту книгу даются в тексте.
36. Eminescu Mihai. Revista teatrală XVII. Revizorul general // Eminescu M. Scrieri de critică teatrală. Editura Dacia. Cluj, 1972. С. 77.
37. См. рецензии на книгу Л. Теодореску: Harea V. O nouă interpretare a dramaturgiei lui Cehov // Cronica. 1973. № 3, ian. 19; Titel Sorin. Dramaturgia lui Cehov // România literară; Kovacs A. Dramaturgia lui Cehov // Ramuri, IX. 1972. № 11, noiembrie 15, 16.
38. Novicov M. Scriitori ruşi. Editura Univers. Bucureşti, 1972. С. 269—291.
39. Ibid. С. 269.
40. Ibid. С. 274—275.
41. Maliţa Tatiana. Dramaturgia lui Cehov şi teatrul american. Rezumatul tezei de doctorat. Universitatea din Bucureşti. 1973. С. 32. «Afinităţi cehoviene» la Tennesse Williams // Probleme de filologie rusă. Universitatea din Bucureşti. 1977. С. 229—236; Prima piesa cehoviană — Alion's house de Susan Glaspell // Cercetări actuale în domeniul limbilor şi literaturilor străine. Vol. II. Bucureşti, 1978. С. 250—255.
42. Maliţa T. Dramaturgia lui Cehov şi teatrul american. С. 13—14.
43. Там же. С. 14—15.
44. Maliţa T. «Afinităţi cehoviene» la Tennesse Williams. С. 236.
45. Săvulescu Monica. Anton Pavlovici Cehov. Ed. Albatros. Bucureşti, 1981. С. 238. В дальнейшем ссылки на эту книгу даются в тексте.
46. Bălănescu Sorina. La dinamique du réalisme tchékhovien // Romanoslavica. XIX. Bucureşti, 1980. С. 259.
47. Которча Ливия, Бэлэнеску Сорина. Лекции по истории русской литературы XIX века. Ясский университет имени А.И. Кузы, 1976. С. 187.
48. Там же. С. 189.
49. Bălănescu Sorina. La dinamique du réalisme tchékhovien. С. 259.
50. Bălănescu Sorina. Simbolul în dramaturgia lui Cehov. Universitatea din Bucureşti, 1972. Опубл.: Bălănescu Sorina. Dramaturgia Cehoviană — simbol şi teatralitate. Iaşi, 1983.
51. Nicolescu T. Cehov şi Sologub // Studii de literatură, limbă şi metodică. Universitatea «Babeş-Bolyai». Cluj; Napoca, 1980. С. 133—144.
52. Călinescu G. Scriitori stăini. С. 606.
53. Гане Т. Чехов и румынские писатели. Садовяну и Ребряну // Румынско-русские литературные связи второй половины XIX — начала XX века. М., 1964. С. 217—227.
54. Там же. С. 219.
55. Там же. С. 224.
56. Там же. С. 227.
57. Cehov A.P. Nuvele. Vol. I, III. E.L.U. Bucureşti, 1966, 1967; Pescăruşii. Teatru. Prefaţă de Dimitru Solomon. In rom. de M. Sorbul, N.Al. Toscani şi M. Sevastos. E.P.L. Bucureşti, 1967. XXIV. 442 с.; Piese într-un act. E.L.U. Bucureşti, 1963. 136 с.; Teatru. Cuvînt inainte de L. Teodorescu, ed. «Univers». Bucureşti, 1970. 431 с.; Schiţe şi nuvele. «Clasicii literaturii universale», Editura Univers. Bucureşti, 1971. 480 с.; Csehov A. A völgyszakadékban. Válogatott novellák. Orosz könyv. 1960, 324 с.; Csehov A. Sirály. Fordította Makai Imre. Irodalmi Könyvkiadó. Bukarest, 1963. 112 с.; Csehov A.P. A piros ruhás lány. Forditotta Magos László, Dacia Könyvkiadó. Cluj, 1970. 248 с.; Csehov A.P. A főkertés elbeszélése, Kriterion. Bukarest, 1979. 472 с.; Tschechow A.P. Kaschtanka. Ion Creangă Verlag. Bukarest, 1976. 88 с.
58. Подробнее см.: Bălănescu Sorina. Piesa cehoviana pe scenele româneşti, tradiţie şi modernitate // Studii de literatură, limbă şi metodică. Universitatea Babeş-Bolyai. Cluj; Napoca, 1980. С. 166—175.
59. Titel Sorin. Descoperirea lui Cehov // Caiete nr. 58. Teatrul Naţional din Bucureşti. Stagiunea 1981—1982. № 58. С. 15.
60. Речь идет о статье Л.И. Шестова «Творчество из ничего» (1905). См.: Шестов Л.И. Начала и концы. СПб., 1908.
| Предыдущая страница | К оглавлению | Следующая страница |