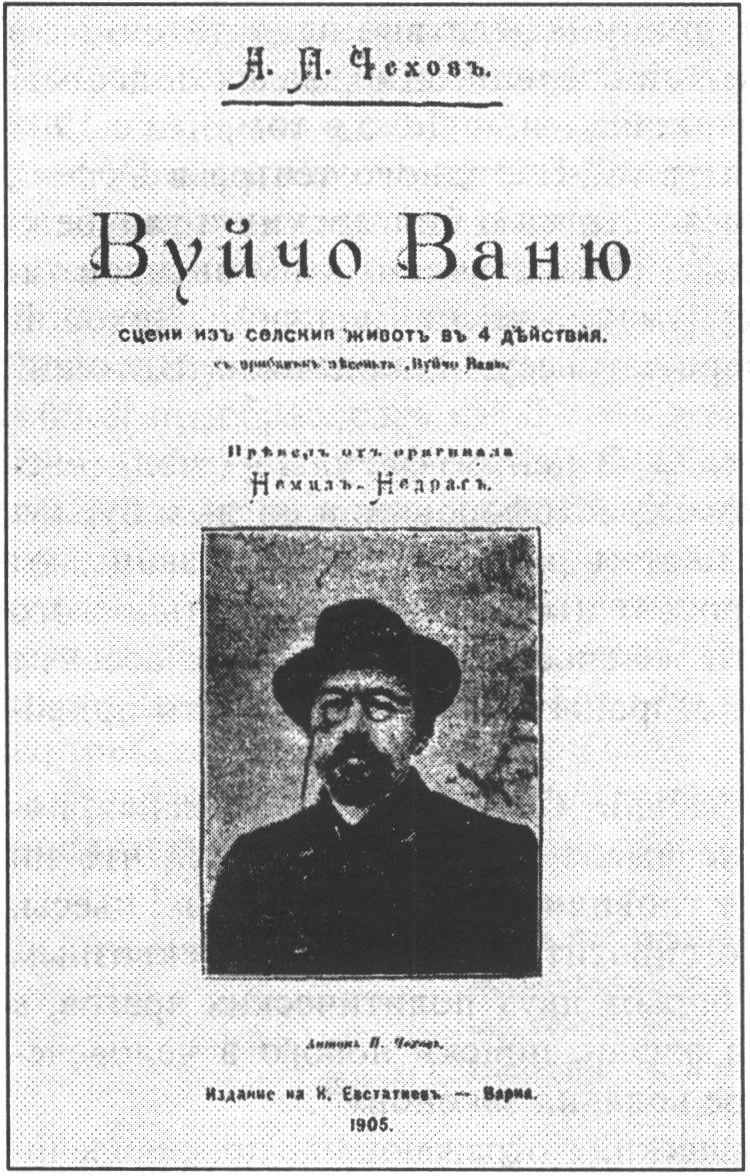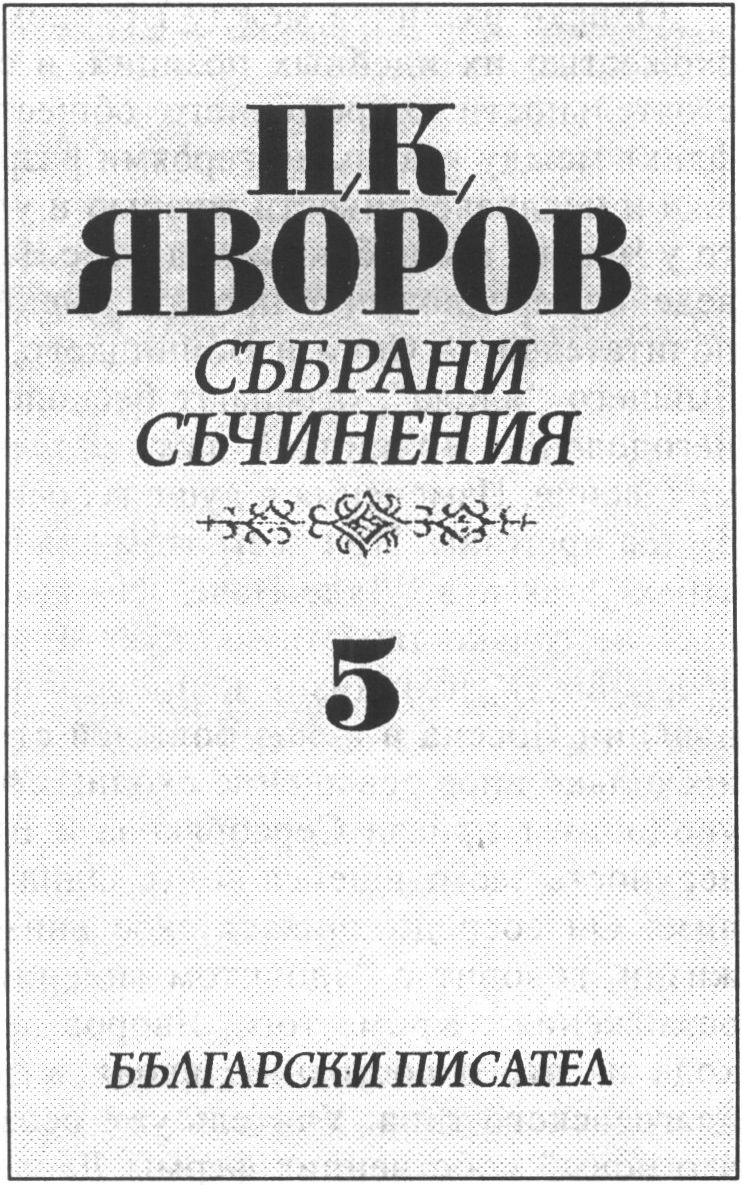Творчество Чехова стало известно болгарским писателям с конца 80-х годов XIX века1. Это были первые десятилетия после освобождения Болгарии от османского ига, когда в стране устанавливались и быстро утверждались капиталистические отношения. В жизни Болгарии и России этого времени было много общего. Нашим читателям была близка психология героев и события, которые изображал Чехов в своих ранних рассказах. Идеалы национально-освободительной борьбы 60—70-х гг. в Болгарии сменились стремлением к накоплению материальных благ, ослаблением духовных интересов. В той или иной степени это те явления, которым есть соответствия в первых сборниках рассказов Чехова.
По случаю выхода в свет в болгарском переводе первого тома сочинений Чехова Х. Ценов писал: «Читая остроумные рассказы Чехова, мы невольно спрашиваем себя <...> не такие ли и мы сами, не делаем ли и мы подобных вещей?» И отвечал: «Потому что многие из осмеянных в них <рассказах> пороков встречаются и у нас: и у нашего гимназиста положение не лучше, чем у русского, и у нас ищут «девушек с идеями», а в жены берут девушек с деньгами, и у нас хирурги еще ломают зубы, и у нас проводят экзамены «на чин», и у нас много жадных до орденов, как в «Льве и солнце» и пр., и пр.»2
Из болгарских авторов И. Вазов (1850—1921) первым изобразил исторические перемены в Болгарии, сходные с теми, которые были в России и привлекли внимание Чехова. Во время диктаторского режима Ст. Стамболова, сменившего правительство русского ставленника князя Александра Баттенберга (имя которого, кстати, юмористически обыгрывается в ряде произведений Чехова), И. Вазов из-за своих русофильских убеждений находился в политической эмиграции в России (1887—1889).
В письме к С.С. Бобчеву от 24 мая 1888 г. из Одессы Вазов признавался: «Я пишу ряд рассказов о нашей политической и общественной жизни...» Оговаривая, что эти рассказы отличаются от добродушного, юмористического изображения устаревших патриархальных отношений в его прежних повестях «Митрофан и Дормидольский», «Наша родня» и других, Вазов пишет о своих новых произведениях: «...Они более художественны и у них более реалистические и трезвые задачи»3. Определенное представление о духе этих новых произведений Вазова дает ответ С. Костова на его несохранившееся письмо: «Рассказы о нашей новой политической и общественной жизни, которые Вы мне описываете, будут, наподобие рассказов Щедрина, зеркалом современной жизни. Думая, что мое предположение недалеко от истины, я вновь повторю, что сегодня Вам больше всего удается работа подобного рода»4.
Несмотря на то, что определяющий толчок к этому перелому в творчестве Вазова исходил из самой болгарской жизни, интересно отметить, что в это время И. Вазов был уже знаком с творчеством Чехова. Из его путевых заметок «За пределами Болгарии», в которых он пишет о своей эмиграции в Россию, видно, что писатель следил за русской литературой. Хотя он считал, что в те годы среди молодых русских поэтов и писателей нет ни одного, который бы занимал главенствующее положение, он верил в будущее русской литературы: «Будет абсурдным мнение, что источник русского творческого духа исчерпался в произведениях Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Тургенева, графа Толстого; русской мысли предстоит еще широкое поприще для развития и творческой деятельности: гигантские силы могущественной династии еще не развернулись. Ей предстоит преследовать благородные цели в области духа и всемирной истории». Подойдя таким образом к вопросу о достойных наследниках титанов русской литературы, Вазов с удовлетворением сообщает, что «русская печать отмечает Короленко и Чехова»5.
После возвращения в Болгарию И. Вазов не перестает интересоваться творчеством Чехова. В интервью для журнала «Светлина» в 1905 г. Вазов отмечает самобытный характер чеховской драматургии6. Еще более важно признание Вазова, что Чехов его «усладил кучей прелестных рассказов»7. А в 1910 г., рассуждая о характере романа и драмы, Вазов дает определение: «Роман не отвечает темпераменту людей сегодняшнего дня. Чехов хочет понять конфликты и переживания других, но как-то в сгущенном виде, быстро...» и добавляет: «Чехов пишет очень хорошо, но он не пишет романов. Его рассказы — это романы современного человека, они насыщены драматизмом»8.
Произведения, которые Вазов написал в России: «Эпоха рождает героев», «Темный герой», «Гость-краснобай на казенном пиру», «Дед Нистор». Все они изображают в сатирическом свете распад патриархальных нравов, разгул реакции в стране9. Вероятнее всего, еще в России, а может быть, по возвращении в Болгарию, Вазов читал сборники Чехова «Пестрые рассказы» (1886), «В сумерках» (1887), «Рассказы» (1888) и др. Не исключено и то, что название чеховского сборника «Пестрые рассказы» подсказало Вазову заглавие его сборников «Царапины и пятна» (ч. 1—2), 1893—1895 гг. и «Пестрый мир» (1902).
По тематике к произведениям Чехова из названных сборников Вазова ближе всего рассказы из книги «Царапины и пятна». В истории болгарской литературы их верно определяют как критическое изображение различных сторон жизни Софии. Особенно показателен цикл рассказов «Кардашев на охоте», составивший вторую часть книги «Царапины и пятна». В этих рассказах выведен писатель, натыкающийся в своем походе за литературными сюжетами на «уродливые явления», характерные для многих сфер действительности Болгарии. Среди героев — предприниматель, на которого возложили постройку здания, поскольку он «сочувствует правительству»; вдова, которая демонстративно носит траур по умершему мужу, чтобы получить большую пенсию и др. Есть и ситуации, знакомые читателям Чехова, — например, брак по расчету. Кардашев желал было найти предмет более возвышенный, но пришел в конце концов к выводу: «...Настоящее способно давать материал только для сатиры. Что ж, пусть будет сатира!»10
В «Царапинах и пятнах» и других книгах И. Вазов изображает явления, в которых также можно найти мотивы чеховских произведений. Характерны в этом отношении: предприниматель, которого подавляет положение собственника («Украсил столицу»); супруга, получившая для своего мужа должность от министра с помощью недостойных средств, и муж, в умилении от этого своего «успеха» ласково ее обнимающий («Выхлопотала»). Рельефно изображен корыстолюбивый врач, который без надобности, любой ценой хочет сделать операцию бедному больному, чтобы получить деньги для меблировки собственного дома («Занавески для окон»). Такой характер носит и рассказ «Адвокат», в котором служитель Фемиды обманывает своих клиентов и присваивает деньги («Две двери»).
Можно привести и другие произведения, в которых форма короткого рассказа служит Вазову для изображения грубых нравов, суеты, фальши в семейных отношениях и т. д.
Но особенно показателен рассказ Вазова «Не поклонился», который наиболее ощутимо соотносится с известным рассказом Чехова «Смерть чиновника». Политические нравы Болгарии 90-х годов, тяжелое и нестабильное положение мелкого государственного служащего, угодничество, на которое обречен чиновник, не могли не привлечь внимания Вазова к указанному рассказу Чехова. В рассказе Вазова несколько полнее раскрыта история мелкого чиновника с характерной фамилией — Славчо Плужев («плужек» — «улитка»); этой фамилии соответствуют внешность и характер героя. «Он маленького роста, с коротким туловищем и короткими ножками, которые всегда спешат, но так, чтобы при этом не наступить даже на муравья»11. И этот столь внимательный, предусмотрительный человек от радости, что его старания учтены на службе и он представлен к награде, проявляет непростительную растерянность — не замечает своего министра и не приветствует его вовремя, хотя он столько раз раньше специально проходил по этой улице, чтобы иметь возможность засвидетельствовать свое нижайшее почтение. Это невинное упущение (подобно чиханию героя Чехова) становится для него трагедией. Утешения жены, которая более трезво смотрит на случившееся, не успокаивают чиновника. «Бывает, — возражает он ей. — Но никто, никто не имеет права быть рассеянным и не поклониться, если этот кто-то — его высший начальник»12. Чрезвычайна важна характеристика, данная самому себе Славчо Плужевым: «За месяц я снимаю шляпу миллион раз. Кстати, почистила бы ты ее опять керосином. Кланяюсь встречному и поперечному. А в кои-то веки встретился мне мой министр, ждал от меня поклона и не дождался. А ведь он меня к ордену представил!»13
До карикатурности раболепный чиновник в своих переживаниях доходит до такой степени огорчения, что при случайной встрече с похоронной процессией воображает себя самого мертвецом; полученная министром бумага кажется ему приказом об увольнении и т. д. А когда на следующий день Славчо Плужев возвращается с работы на обед, он чуть было не теряет сознание у своего дома. Его жена плачет, ожидая, что он принесет ей приказ об увольнении, утешает его привычной фразой: «Лишь бы ты был здоров» и т. д. Но к ее удивлению, он показывает письмо с сообщением о его награде... Однако от «сердечного волнения» Славчо Плужев заболевает и не встает две недели. От двойного удара — страха перед увольнением и от награды — его природа «была сломлена» и через шесть месяцев он умирает. Изображая судьбу своего героя, И. Вазов приходит к обобщению: подобное явление для жизни Болгарии неслучайно, и подчеркивает, что люди, подобные Славчо Плужеву, встречаются каждый день.
И. Вазов учился у Чехова сжатости письма. Он сосредоточивал описание на одном эпизоде из жизни героя, уделяя особое внимание отдельным характерным деталям. Вслед за Чеховым он строго придерживался центральной линии развития действия, задерживая свой взгляд на том, что самым непосредственным образом раскрывает сущность характера героя. Но в отличие от своего предшественника, жалкое положение героев Вазов связывает лишь с их личными свойствами, забывая об объективных причинах деградации человека, коренящихся в общественных условиях.
Начавшееся в 90-е годы XIX века обострение классовых отношений в Болгарии углубляется в первое десятилетие XX века. В соответствии с этим развивались основные направления литературы. Пролетарская литература в союзе с общедемократической выступала против декадентского искусства, не интересовавшегося нуждами народа. Ряд писателей в эти годы пристальное внимание обращают на жизнь болгарского села в условиях развивающихся торгово-промышленных отношений (А. Страшимиров, Х. Максимов, М. Георгиев и др.)14.
Кроме И. Вазова, из болгарских писателей, начавших свой творческий путь еще при Чехове и испытавших на себе его влияние, следует особо отметить двух: Елина Пелина (псевдоним Димитра Иванова, 1877—1949) и П.К. Яворова (1878—1914). Оба вслед за Чеховым выступали против народнической идеализации патриархальной психологии крестьянства. Как и в России, в Болгарии произошло социальное расслоение крестьян, распад патриархальных отношений (хотя и несколько менее интенсивно), и это, по словам Д. Благоева, «в корне преобразило облик жизни» деревенского населения15.
Уже при первом появлении рассказов поэта и прозаика Елина Пелина была замечена их близость к новеллистическому творчеству Чехова. Много позже эта близость стала предметом научного исследования в работе П. Русева16.
В период формирования своего творчества, в 1898—1904 годах, Елин Пелин интенсивно читал Чехова. По его признанию, русский писатель пленил его, стал любимым автором: «Я очень любил, люблю и сейчас русскую литературу. Особенно мне нравятся рассказы Чехова. Я знаю их наизусть. Кто хочет стать хорошим рассказчиком, должен учиться у него»17.
Не случайно некоторые крестьянские сюжеты Елина Пелина напоминают подход молодого Чехова к этой теме (рассказы «Андрешко» — 1903, «Адвокат» — 1904 Елина Пелина — и «Злоумышленник», «Пересолил» Чехова).
Молодой Елин Пелин, увлекавшийся социалистическими идеями, в стихотворении «Жалоба мужика» не только сочувственно откликнулся на сельские волнения 1899—1901 годов, вызванные тяжелым налогом на крестьян — десятиной, но и призывал крестьян к борьбе.
Рассказ «Прошение жителей села Большая Неволя Господу Богу» заканчивается открытой расправой с сельским богачом и старостой, которого избивают до смерти. А в «Душе учителя» активность, противопоставленная пассивности и молчаливому страданию, возведена автором в философский принцип. После смерти учителя, безропотного труженика, за его душу борются Ангел и Дьявол. Побеждает Дьявол: душа праведника соблазняется нарисованной им картиной ада, где ему обещана свобода и «борьба», которой он не знал в жизни, а без нее человек «не может жить»18.
Со временем социалистические настроения Елина Пелина гаснут, хотя он навсегда остается непримиримым к злу, которое принес болгарскому народу капитализм. Это особенно видно из сборника «Я, ты, он». Рассказ «Тот, о ком все хлопочут» (1933) в этом сборнике свидетельствует во всяком случае о неколебимом демократизме писателя.
Елин Пелин сатирически изображал сельских богачей, попов, представителей власти. Его любимыми героями были бедные крестьяне, на судьбе которых сильнее всего отразились негативные стороны капитализма в деревне. Это малоимущие крестьяне Боне Крайней («На борозде», 1904), дед Матейко («На том свете», 1902), дядя Кола и Доне Козица («Первый снег», 1911) и др. Чаще всего безропотные, смирившиеся со своим положением, некоторые из них все же осознают тяжесть своей нерадостной судьбы, как например, дядя Горан из рассказа «Мечтатели» (1910). Товарищу по своей участи он говорит: «Коли ты беден, друг, — твое дело дрянь. Всякий, кому не лень, вокруг пальца тебя обведет, как хочет, будет тобой вертеть...» Дядя Горан понимает и демагогический характер забот государства о таких, как они с другом: «Дома хоть шаром покати <...> а барин городской <...> скажет тебе <...> у тебя, скажет, самое великое богатство на свете — избирательное право»19.
Елин Пелин с явным сочувствием, но не без сдержанной иронии, изображает героев, которые в своем бессилии против социальной неправды ищут спасения в утешительных иллюзиях. Это Благолаж из рассказов «Косари» (1903) или Еникий из «Веселого монаха» (1934), несущий людям надежду, которой он согревал, ободрял и привязывал их к жизни. Дядя Горан из «Мечтателей» убежден, что бедность непобедима, избирательное право в буржуазном обществе — обман, но и он попадает в плен иллюзии, что если поймает бессмертную, белую кукушку, которая стережет церковный клад, — раем земля бы обернулась.
Писатель развенчивает и бедных народных интеллигентов, чьи надежды на счастье в браке разбиваются о пошлость и меркантильные отношения, захватившие село («Грязь», 1903, «Селза Младенова», 1910).
Галерею бедняков дополняют образы разорившихся хозяев, вынужденных стать батраками или работать в чужих краях, таких, как Матей Маргалак в повести «Гераковы» (1904—1911), Добрян в рассказе «Любовь» (1903), Липо в «Преступлении» (1904) и др. Следует отметить и то, что несмотря на свою крайнюю бедность, некоторые из них сохраняют человеческое достоинство, стремление к лучшей жизни. Свилен из рассказа «У мельницы» (1903) с горечью объясняет своей возлюбленной Милене, вышедшей замуж не по своей воле за другого человека, почему он не женился на ней: «Бедность виновата! Я ведь говорил тебе <...> Все в батраках, в батраках, совсем кабальный стал. И ты бы со мной горе мыкала... Как мне было молодость твою калечить, жизнь твою отравлять?.. Думал, думал... голову себе ломал — и не решился»20. Некоторые из героев этого типа протестуют против бедности и бесправия. В «Несжатой полосе» (1904) Дойно убивает богача, который пытается очернить его семейную честь. Андрешко из одноименного рассказа узнает от бездушного государственного служащего, которого везет в своей телеге, что тот в качестве судьи-исполнителя едет в село, чтобы конфисковать зерновые бедняка Станоя, не уплатившего налоги. Оставив в болоте своего отвратительного клиента, он спешит предупредить односельчанина, чтобы тот скрыл свое жито. «Андрешко думал о бедном Станое, у которого завтра конфискуют пшеницу. И это сделает тот самый человек, которого он теперь везет»21. Наиболее сильно развенчиваются порядки буржуазного государства в рассказе «Сумасшедшая» (1904). Бедная крестьянка лишается рассудка из-за грехопадения дочери в городе, куда та уехала, чтобы стать служанкой. Обезумев от горя, героиня дает волю чувствам, которые она испытывала и раньше, в нормальном состоянии. В исступлении она говорит в церкви, обращаясь прямо к священнику: «Нет правды... Нет Бога!.. Слышите? Царя согнать с царства... с архиерея сан снять... попа постричь. Батюшка... не лгите нам, помогите нам... избавьте нас... Говорите нам правду!»22
Хотя болгарский тип капитализма отличается от российского (более интенсивно развивающегося и в городе, и в деревне), у Елина Пелина было много общего с чеховским изображением губительных для народа последствий торгово-промышленных отношений. Чехов говорил о повести «В овраге»: «Я описываю тут жизнь, которая встречается в средних губерниях, я ее больше знаю. И купцы Хрымины есть в действительности. Только на самом деле они еще хуже»23. В подобном духе и Елин Пелин, говорил о повести «Гераковы» (1904—1909): «Я знал много таких семей, поэтому мне не трудно было их изобразить, конечно же, без точного копирования лиц и событий»24.
«Гераковы», а также более поздняя повесть «Земля» (1921—1922), в какой-то степени могут рассматриваться как произведения, написанные в традициях беспощадного реализма автора «Мужиков» и «В овраге». Так, фабула «Гераковых» повторяет основные события повести «В овраге».
У Чехова сын процветающего купца Цыбукина Анисим, осужденный на каторгу в Сибирь, оставляет отца, жену Липу и маленького сына Никифора без опоры. Аналогичную роль в повести «Гераковы» играет Павел. Оставшись на сверхсрочную службу, он предается пьянству и разврату, бросает жену Элку, маленького сына Захаринчо и бесследно исчезает. Подобно Аксинье у Чехова, которая постепенно оттесняет от хозяйства старика Цыбукина и становится владелицей фабрики на общих паях с соседями, в повести Елина Пелина брат Павла — Божан крадет деньги у отца, развертывает интенсивную хозяйственную деятельность и становится первым человеком на селе.
Есть общее и в развязке произведений. У Чехова Аксинья в конце концов выгоняет Цыбукина из его собственного дома. Невыносимо и положение Герака, болезненно переживающего распад старого уклада жизни. Но чеховский старик горько плачет, а Герак подводит итоги своей погубленной жизни: «Нет любви в сердцах человеческих, перестали люди быть братьями», «Чем я был и чем стал!»25 Это связано, думается, с тем, что Цыбукин, некогда властный глава дома и лавки, никогда не испытывал жалости к беднякам и теперь, может быть, сознает, что расплачивается за зло, которое сам совершал, а за Гераком, несмотря на его страсть к богатству, были все же в прошлом добрые дела: он относился дружелюбно к односельчанам, помогал им, и они его за это уважали. Основа для такого характера как Герак была, по-видимому, в самой природе болгарского деревенского капитализма, с более явными, чем в России, признаками патриархальности в отношениях между богатыми и бедными.
Несмотря на мрачность исхода событий в чеховской повести, в ней есть все же светлое начало. Плотник Костыль обладает чувством собственного достоинства. «Кто трудится, кто терпит, тот и старше», — говорит он (10, 163). Эта мысль поддерживает Липу, потерявшую ребенка. Она сознает, что, несмотря на низкое социальное положение, ей и ее матери можно еще надеяться на лучшую жизнь: «...в числе бесконечного ряда жизней и они сила, и они старше кого-то...» (там же). Или: «...как ни велико зло, <...> все же в божьем мире правда есть и будет...» (там же, 165).
Более того, в момент тяжелой материнской скорби, с мертвым сыном на руках, Липа находит утешение в словах случайного спутника, вдоль и поперек обошедшего русскую землю, что в мире есть не только зло, но и добро, потому что «велика матушка Россия», и от нее многого можно ожидать...
В повести «Гераковы» нет подобных просветов. Старый Герак и Элка умирают. Судьба Захаринчи печальна. Божан торжествует в своей ненасытной алчности.
Но и Елин Пелин, как и Чехов, сочувственно изображает бедняков, способных на благородство. Таков в его повести Матвей Маргалах. Такова в рассказе Елина Пелина «Ветряная мельница» (1902) Христина, вышедшая замуж за Лазаря Дыбака, который, со своей стороны, посвятил себя заботам о других (например, он лихорадочно строил планы по борьбе с засухой). К героям этого типа относится и чуждая социальным предрассудкам дочь священника Ивка из рассказа «Любовь» (1903): когда отец, разгневанный ее сердечным влечением к батраку — пахарю Добряну, прогнал с работы батрака, она покончила с собой... Таковы и Милена из рассказа «У мельницы» (1903), сохранившая после свадьбы с немилым свою любовь к бедному пахарю Свилену, и пастушка Калина Лилова, желтоволосая «Пшеничка» из рассказа «Самодивы», музыкант Скворец из одноименного рассказа 1922 года, и другие.
Романтически, в духе раннего Горького, Елин Пелин в рассказе «Самодивские скалы» (1902) на материале болгарской легенды поведал о бесстрашной и гордой паре влюбленных: Магдалене и Перуне. По легенде эти скалы поднимались в сердце Болгарии — «матушке Старой планине», и с них можно было видеть «полоску Эгейского моря, в котором утром и вечером купается солнце»26. В подножии этих скал живет прекрасная пастушка Магдалена. По ней сгорают от любви парни из разных селений и просят ее в жены у старого отца: «Богатеи старались прельстить его своим достатком; бедные, но обладающие пылким сердцем, готовы были пойти на смертельно опасный подвиг, лишь бы только завоевать эту горную царицу»27. Но отец и дочь едины в своем отношении ко всем увещеваниям и соблазнам мнимой ценности. С твердой решимостью отец говорит: «Я не хозяин ее сердца. <...> Пусть сама выбирает себе молодца»28.
Волю независимых героев не может сломить ни сожженный парнями дом, ни заколотое стадо. Когда Магдалена объявляет, что выберет того парня, который поднимет ее на вершину самодивских скал, на это решается только красавец Перун. «Сгорая от страстной любви к Магдалене, он решил либо погибнуть, либо добиться ее»29. Из всех окрестностей, как на свадьбу, стекаются люди, они следят за опасным восхождением до тех пор, пока не теряют молодых людей из виду. Легенда заканчивается словами: «Никто не знает, удалось ли им взобраться на вершину... Но все с удивлением говорят об их любви и смелости».
На первый взгляд, поэт и драматург П.К. Яворов прошел иной, чем Чехов, путь творческого развития. В 1895 году он «горячий социалист», основатель партийной организации в своем родном городе Чирпане, мечтающий о новом солнце, которое «согреет землю»30. Хотя после 1903 г. он внешне отходит от социализма, его интерес к коренному преобразованию общества сохраняется. Поэтому Яворов так восторженно приветствует революцию 1905 г. в России. В письме к своему идейному товарищу М. Янкову от 16 января 1905 г., спустя лишь несколько дней после кровавого воскресенья в Петрограде, он пишет: «Революция в России не остановится на конституционных обещаниях. Социал-демократия там представляет собой такую силу, которая поведет события далее самых смелых предположений. И тогда... Представь себе этот 150-миллионный народ, освобожденный от жестокой тирании и разбуженный для идеалов, предвосхищенных лучшими его сыновьями. Он стал бы силой, способной преобразовать мир»31. Но после поражения Ильинденского восстания 1903 г. против османского ига (Яворов принимал участие в восстании), а также после разгрома русской революции он, по его собственному признанию, переживает глубокий кризис, из которого выходит «совсем с другой душой»32. Это отразилось на его творчестве. Начав с гражданской лирики в первом сборнике «Стихотворений» (1901), он теперь удаляется от социальной тематики и в следующем сборнике — «Бессонницы» (1907) уходит в сферу внутреннего мира человека.
В одном из замечательных произведений — «Песнь песне моей» (1906) — он патетически провозглашает свою новую эстетическую программу:
«Ведь нет страданья, зла, заботы,
нет жизни — бед ее и прав,
вне сердца моего — киота,
где истин-лжей таится прах»33.
Но это не значит, что поэзия Яворова отошла от действительности. В этом отношении показательно стихотворение «Я не одинокий» (1907). В нем не развенчиваются объективные ценности жизни как ненужные для отдельного индивида, а утверждается непреодолимая сила самой жизни:
«Так явно шепчешь ты! Тревожишь вечно слух
Во мне иль надо мною? — трезвый дух».
В стихотворении «Я не одинокий» нет пафоса трагической изоляции поэта. Оно предвещает выход из кризиса, в котором находился поэт34.
В своей драматургии Яворов вновь обращается к общественной проблематике своего времени, возрождаются его прежние социалистические взгляды, которые при всех перипетиях его сложного и противоречивого пути никогда не угасали.
В октябре 1913 г. Яворов признается, что хочет создать «тип капиталиста, чтобы дух Маркса остался доволен». «Социальной поэзии требуют от меня, — говорит он А. Златарову, — я им дам истинную социальную драму, чтобы они увидели, изменил ли я своей старой любви...» И заканчивает свою исповедь так: «Я был социалистом... Когда я роюсь в глубине души, я нахожу, что из всех светлых мгновений моей жизни время этой веры было самым прекрасным... К социализму у меня чувство верующего: единственным человеческим светлым учением новых веков остается именно он»35. И Яворов доказывает на деле все это в своих драмах, в которых он обращается к жизненным проблемам своего времени, воссоздавая болгарскую жизнь в перспективе ее развития к новым социальным отношениям.
Еще в 1904 г. Яворов задумывает драму из героического прошлого Болгарии с центральным героем — прославленным Индже-воеводой. Он собирает материалы, делится своими намерениями с Пенчо Славейковым и М. Янковым, признается, что «действие и отдельные герои очерчиваются очень ясно», но он не в силах написать драму вследствие недостаточности сведений об эпохе36. В несравненно большей степени он оказался подготовленным для написания драмы из современной жизни. Дело в том, что с 1908 года Яворов стал «драматическим секретарем» Народного театра в Софии, участвовал в подборе его репертуара, писал статьи о болгарских и зарубежных драмах, изучал теорию драмы и т. д.37 Среди изучаемых им авторов такие, как Софокл и Шекспир, Ибсен и Гауптман, а также Горький и Чехов. В таких условиях Яворов создает свою первую пьесу «У подножия Витоши» (1911).
Это социально-психологическая трагедия. В центре фабулы — политическая борьба между честным интеллигентом Христофоровым и наглым буржуазным хищником Драгоданоглу. Важное место в развитии событий занимают сердечные отношения между Христофоровым и сестрой его политического соперника Милой Драгоданоглу. На пути их счастья встают как классовые предрассудки, так и нерешительность со стороны Христофорова, что приводит их обоих к самоубийству.
Но структура трагедии сложнее этой фабулы. С. Каракостов, объясняя, почему при первой постановке эта пьеса не имела успеха, утверждал, что ни режиссер, ни исполнители, ни критики не уловили «внутренний план» пьесы. Он писал: «Если языком Станиславского спросить, что является «сквозным действием» этой пьесы, мы ответим: не борьба двух политических врагов, а мучения, драма, тоска по прекрасному в жизни, поиски нового в человеческих отношениях и гибель человека в мире волчьих законов»38.
Христофоров — образ автобиографический, отражающий противоречивость Яворова в его стремлении решить жизненные проблемы. Вмешиваясь в политическую борьбу, он не может выбрать ни одной идейной платформы, переходит из партии в партию, останавливается на просветительских иллюзиях об усовершенствовании общества и т. д. Своему другу Чудомиру, занимающему в политике твердую позицию, Христофоров объясняет, почему он уходит из партии, к которой до этого времени принадлежал. «Под защитой любви я пойду по путям и перепутьям и, подняв факел разума, буду светить. Кому — для меня неважно. Зачем — я не спрашиваю себя об этом». Мотивируя свой отказ служить определенной общественной доктрине, Христофоров объясняет последний акт своего поведения: «Так нам предназначено, это — наш долг. Вихри площадной политической борьбы превратились для меня в холодную снежную метель. Я найду новый путь и буду светить новым светом»39.
Так же неопределенен, абстрактен и противоречив Христофоров в своих рассуждениях о любви к Миле и их будущем. Особенно существенно то, что Мила, несмотря на свое высокое социальное происхождение и материальную обеспеченность, хочет разделить судьбу с ним, честным бедным интеллигентом. При последней встрече на кладбище она решительно говорит, что их вопрос не может решаться «так или иначе», что у нее только один выход — «не возвращаться домой». «Может быть, — говорит она, — я люблю тебя еще за то, что ты не стал богатым, наподобие некоторых...» (т. е. путем коррупции и классовой эксплуатации). На это Христофоров отвечает, что при его положении он не может связать с ней свою судьбу, потому что она будет «страдать» от того, что он не может предложить ей каких-либо «удобств». И самое важное: под давлением условий жизни он может «поскользнуться», «продать себя», т. е. отступиться от своих личных убеждений. И когда после подобных рассуждений Христофоров говорит Миле: «Пойдем со мной», она отвечает «Нет»40. Видно, что если Мила поднялась до более высокого идеала в жизни, то Христофоров остается на уровне своего народническо-просветительского утопизма и индивидуализма. Эта несовместимость становится причиной их разлуки. И когда Христофоров говорит Миле об их общем несчастии, она отвечает: «Несчастна только одна я... Мне кажется, что сегодня я впервые тебя увидела, полюбила и потеряла»41. Оставшись по существу в одиночестве, принуждаемая родителями к браку с чуждым и отвратительным ей человеком, она не находит места в жизни и видит свое спасение лишь под колесами трамвая. Завершает свою жизнь самоубийством и Христофоров.
Из других героев трагедии к чеховским традициям ближе в какой-то мере образ студента Чудомира Чипиловского. Если в событиях пьесы он занимает эпизодическое место — как посредник между влюбленными, остроумный критик политического развала в стране, то в психологическом смысле он может считаться центральной фигурой: именно он осуждает безволие и непоследовательность Христофорова, внутренне приняв позицию Милы. Он после ухода из жизни героев остается носителем социального прогресса — подобно чеховскому Пете Трофимову42.
Вторая пьеса Яворова, «Как замирает эхо после грома» (1912), тоже несет на себе следы чеховского влияния. Служа в Народном театре, Яворов принимал участие при включении драм Чехова в репертуар43. Особенно важным для определения связи между пьесой «Как замирает эхо после грома» и драмой «Дядя Ваня» является толкование, которое дает Яворов в одной из рецензий на чеховскую пьесу, и его признание, что замысел новой драмы связан с нею. Особый интерес представляет оценка, которую Яворов дает моменту приезда профессора Серебрякова с молодой супругой. «Мы ощущаем, — замечает рецензент, — зловонное испарение застоявшейся воды, в которую, подобно камням, попали этим летом профессор со своей женой, чтобы заставить воду двигаться до самого их отъезда. После этого лишь какой-нибудь отравленный пузырек будет выдавать процесс скрытого разложения»44. Почти такими же словами Яворов рассказывал о замысле пьесы «Как замирает эхо после грома», в которой дает событиям толчок тоже приезд одного из героев — полковника Витанова. Этот приезд рушит иллюзию мнимого благополучия в семье: «Внезапно, спустя более 10 лет, в эту воду падает камень и сотрясает гладкую поверхность, чтобы показать весь процесс гниения, который происходит в глубинах. Затем поверхность вновь успокаивается и лишь мелкие ядовитые пузырьки выдают процесс внутреннего разложения»45.
Это совпадение восприятия драмы Чехова, с одной стороны, и с другой стороны, замысла собственной пьесы знаменательно. В то же время в интервью после премьеры своей драмы Яворов проводил параллель между нею и другими произведениями современной драматургии, например, «Дикой уткой» Ибсена (считая свою пьесу критикой «Дикой утки»)46.
В пьесе Яворова в самом деле жизнь изображена в тех же ее проявлениях, что и в «Дяде Ване», и во многих драмах Ибсена (мнимые ценности, на которых держится современное общество, бунт личности).
Центральное место в действии драмы «Как замирает эхо после грома» занимает жизнь фермера-идеолога Саввы Поповича, человека по характеру честного, душевно глубокого, плененного идеей личного нравственного самоусовершенствования как способа преобразования жизни. Своеобразный филантроп толстовского типа, он слывет «отцом» у работающих у него крестьян, дарит селу лес и т. д. Более того, радуясь внешне счастливой семейной жизни со своей добродетельной супругой Бистрой, Попович мечтает воспитать сына так, чтобы и тот стал примерным, справедливым фермером. Но после 23 лет кажущегося благополучия в семье Саввы Поповича к ним приезжает эмигрант-русофил полковник Витанов, которому Попович покровительствует. Это внезапное посещение, а также поведение Витанова вносит смуту в душу Бистры.
Из последней сцены между ней и Витановым сын Поповичей Данаил догадывается, что он сын не Саввы Поповича, а полковника. Это гром, о котором говорится в заглавии, его эхо разнесется и по-разному определит судьбу героев. Савва Попович кончает жизнь самоубийством, представленным в сатирико-водевильном ключе47, его жена Бистра уходит в монастырь во Франции, сын Данаил становится наследником фермы. И его невеста Ольга, позднее ставшая его женой, поддается чувствам поручика Друмева — эмигранта, друга Данаила... Таким образом, история не только повторяется, но и указывает на перспективы все большего разложения семейных отношений.
Общим между драмами Яворова и Чехова, Ибсена и других современных им драматургов является разоблачение кажущегося благополучия жизни, той лжи и мнимой опоры, на которой она держится. Внешний толчок к рассеиванию дымной завесы над ситуацией, описанной в «Дяде Ване», Яворов видит в приезде профессора Серебрякова и его молодой жены. В собственной драме Яворова такой толчок к развитию действия дает появление полковника Витанова. В «Дикой утке» Ибсена счастливое и безоблачное повседневие Х. Энделя нарушается приездом его друга Г. Верде.
Однако различие между Ибсеном, Чеховым и Яворовым обусловлено несхожестью их идейных позиций, в свете которых трактуется мысль о несостоятельности современного общества. Если в «Дикой утке» Ибсена конфликт между главными героями разрешается примирением с построенной на лжи и несправедливости жизнью и удовлетворением человека своей судьбой, то у Чехова мы наблюдаем другое. Приезд Серебрякова и его супруги, их поведение, предложение продать имение вызывают негодование у его прежних почитателей — Сони и Войницкого. Они убеждаются в ничтожности своего бывшего «идола», осознают бесполезность своих трудов для него. В своем негодовании Войницкий даже стреляет в Серебрякова. Но все это лишь на мгновение. Изменения в душе героев происходят, но устройство их жизни остается прежним. При всем этом для Чехова характерно то, что как в «Трех сестрах», так и в «Дяде Ване» «неизменность жизни порождает у героев этих пьес не только тягостную скуку и печаль, но и предчувствие, а иногда даже уверенность, что жизнь непременно должна измениться»48. При бесспорном влиянии Ибсена и в еще большей степени Чехова Яворов в своей драме дает несколько иное освещение сходных явлений жизни. Мы уже говорили, что он уподобляет приезд Серебрякова и Витанова падению камня на гладкую поверхность застоявшейся воды. Однако Яворов идет еще дальше в своем анализе. Он сосредотачивает свое внимание на корнях явлений изображаемой жизни, говорит о «ядовитом гниении в глубинах», о процессе «внутреннего разложения». Кроме того, Яворов предсказывает перспективу реального выхода из этого состояния, вводя в эпилог драмы образ учителя-социалиста благоевского типа. Учитель уже осознал ложь буржуазного общества, понял, что новый собственник фермы Данаил в своем классовом хищничестве пойдет дальше своего отца.
Идеи Саввы Поповича, «бывшего толстовца», своеобразного гуманиста, забудутся его сыном Данаилом. Хотя и он сам когда-то, обучаясь за границей, увлекался идеями социализма, теперь он набросится на людей своего края, согласно прогнозу учителя-социалиста, и отдастся беспощадному накоплению капитала.
В этом оголении классовой сущности господствующего социального строя, его загнивания и разложения, Яворов выразил сохранившуюся в его сознании привязанность к социализму, который, как он полагал, предвещает человечеству достойное существование.
* * *
Из числа более поздних, пролетарских писателей 20—30-х годов выделялся Хр. Смирненский (1898—1923), юморист и сатирик, горячо приветствовавший Октябрьскую революцию. К писателям, стоявшим на общедемократической позиции с середины 30-х годов до народной победы 1944 года, примыкал другой юморист и сатирик — Чудомир (1890—1967), а также прозаик, мастер психологической прозы Е. Станев (1907—1979), вступивший в ряды коммунистов.
Анализ творчества этих писателей в сопоставлении с произведениями Чехова может стать предметом специальной работы.
Елин Пелин. Собрание сочинений. Т. 10. София, 1959. Суперобложка
А.П. Чехов. Дядя Ваня. Варна, 1905. Титульный лист. Национальная библиотека им. Кирилла и Мефодия, София
П.К. Яворов. Собрание сочинений. Т. 5. София, 1979. Обложка
Примечания
1. См. А.П. Чехов. 1860—1960. Сборник по случай стогодишнината от рождението на писателя. София, 1961.
2. Ценов Х. Съчинения на А.П. Чехов. Т. I / Перев. К.Т. Митишев под ред. на А. Карима // Ново време. 1904. № 10. С. 880—881.
3. Вазов Ив. Непубликувани писма. Подбор, редакция и коментар на В. Велчев. София, 1955. С. 108.
4. Музей Ивана Вазова. София. Инв. № 422.
5. Вазов И. Събрани съчинения. Т. 11. София, 1946. С. 289.
6. Там же. Т. 22. 1950. С. 332.
7. Там же. С. 320—321.
8. См.: Любенов И.Г. Вазов и един юноша. София, 1959. С. 135.
9. См. об этом: Шишманов И.Д. Иван Вазов. Спомени и документа. София, 1929. С. 82.
10. Вазов Иван. Сочинения: В 6 т. Т. 3. М., 1957. С. 94. Произведения Вазова, переведенные на русский язык, и далее цитируются по этому изданию.
11. Там же. Т. 2. С. 483.
12. Там же. С. 485.
13. Там же.
14. См.: Зарев П. Българската литература от началото на XX в. до края на Първата световна война // История на българската литература. Т. 3. София, 1970. С. 714 и др. Ср. также: Очерки истории болгарской литературы XIX—XX веков. М., 1959. С. 175 и др.
15. Благоев Д. Общественно-литературни статии. Пловдив, 1901. С. 5.
16. Русев П. Творчеството на Чехов и Горки — школа за реализма и художествено майсторство на Елин Пелин // Известия на Института за българска литература. 1957. № 5. С. 169—250. См. также: Левшина Ю.А. Деревенские повести А.П. Чехова и Елина Пелина // Русская и болгарская литература XX века. (Типология и связи). М., 1982. С. 35—44.
17. Елин Пелин. Събрани съчинения. Т. 10. София, 1958. С. 407.
18. Елин Пелин. Сочинения: В 2 т. Т. 1. М., 1962. С. 188 (перевод Д. Горбова).
19. Там же. С. 262—263 (перевод его же).
20. Там же. С. 88 (перевод его же).
21. Там же. С. 57 (перевод Г. Займовского).
22. Там же. Т. 2. С. 28, 20.
23. А.П. Чехов о литературе. М., 1955. С. 283.
24. Митева М. Елин Пелин за себе си // Изгрев. 1948. № 1173. 31 июля.
25. Елин Пелин. Сочинения: В 2 т. Т. 1. С. 466.
26. Там же. С. 102—103.
27. Там же. С. 104.
28. Там же.
29. Там же. С. 105.
30. См.: Стоилова-Найденова Г. П.К. Яворов. Летопис за живота и творчеството му. София, 1959. С. 30.
31. Яворов П.К. Събрани съчинения. Т. 5. София, 1979. С. 125—126.
32. Арнаудов М. Яворов. Личност, творчество, съдба. София, 1970. С. 110—111.
33. Яворов П.К. Избранное. Составление и вступит. статья Д. Маркова. Переводы стихотворений под редакцией М. Павловой. М., 1958. С. 81. («Песнь песне моей» — в переводе В. Соколова).
34. Об этом периоде творческого развития писателя см.: Велчев В. Яворов и руската революция от 1905—1907 г. // Яворов. Раздвоеният и единият. Нови изследвания. София, 1980. С. 42—59.
35. См.: Златаров А. Трагедията на П.К. Яворов. (Спомени и бележки). София, 1925. С. 61—62.
36. Яворов П.К. Събрани съчинения. Т. 5. С. 125.
37. См.: Арнаудов М. Указ. соч. С. 130—131.
38. Каракостов С. Драматургията на Чехов на българска сцена // А.П. Чехов. 1860—1960. С. 81. — Неверно и неубедительно искать в пьесе «У подножия Витоши» еще и «водевильный» план, в котором Яворов будто бы хотел представить своего героя Христофорова (См.: Русев П. Социалистически моменти и тенденции в драмите на Пейо Яворов // Яворов. Единият и раздвоеният. С. 81).
39. Яворов П.К. Избранное. С. 206—207.
40. Там же. С. 177, 179.
41. Там же. С. 183.
42. О пьесе П.К. Яворова «У подножия Витоши» ср. также: Русев П. Драмите на Чехов и драматургът П.К. Яворов // Годишник на ВИТИЗ. Т. 14. 1974. I. С. 3—35.
43. См.: Стоилова-Найденова Г. П.К. Яворов. Летопис... С. 338.
44. Яворов П.К. Събрани съчинения. Т. 4. София, 1979. С. 112.
45. Там же. Т. 5. С. 127.
46. Седмична илюстрация. Принос. 1913. № 1. 5 авг. Ср. также: Арнаудов М. Указ. соч. С. 133.
47. См.: Русев П. Указ. соч. С. 83.
48. Бялый Г. Чехов и русский реализм. Л., 1981. С. 90—91.
| Предыдущая страница | К оглавлению | Следующая страница |