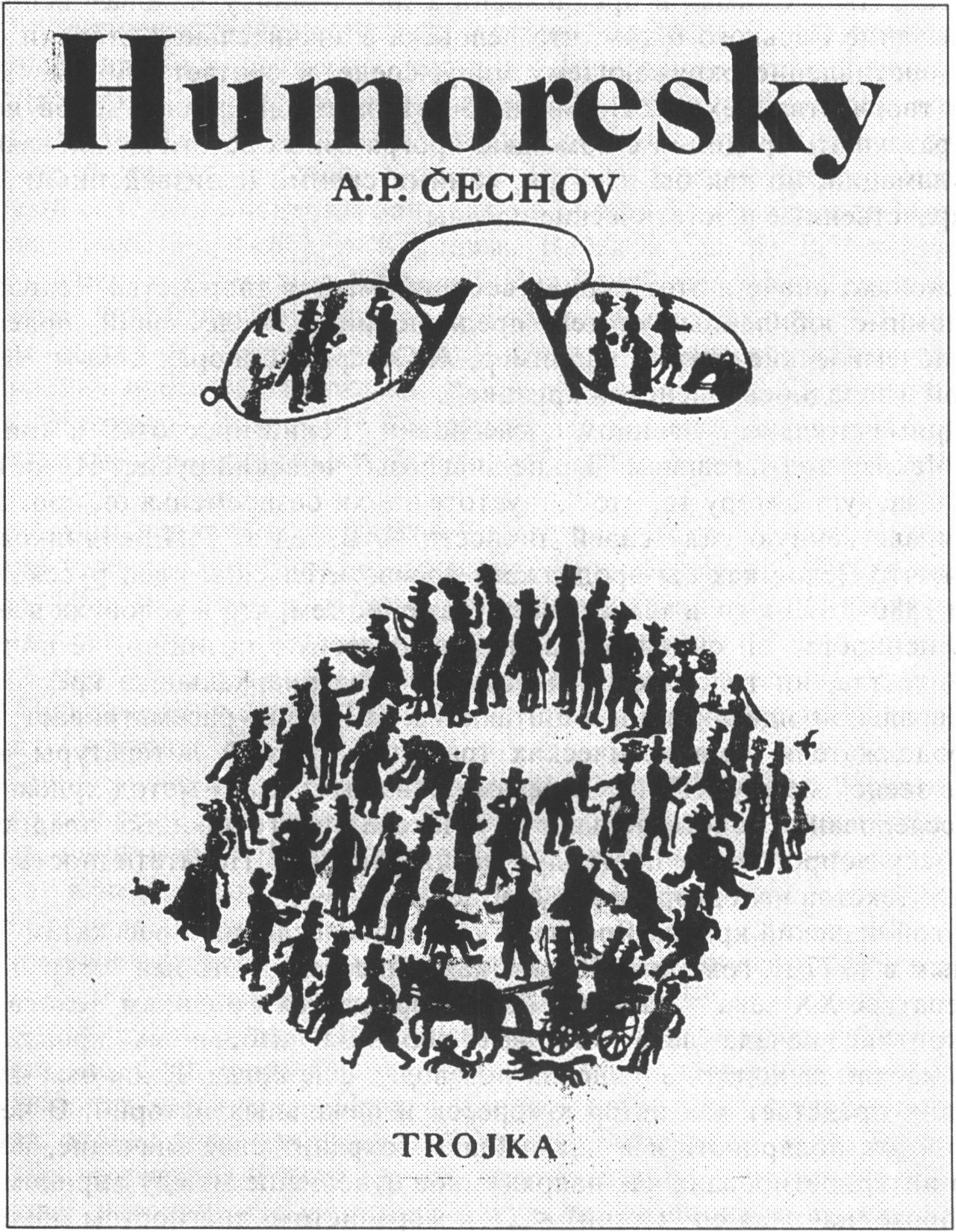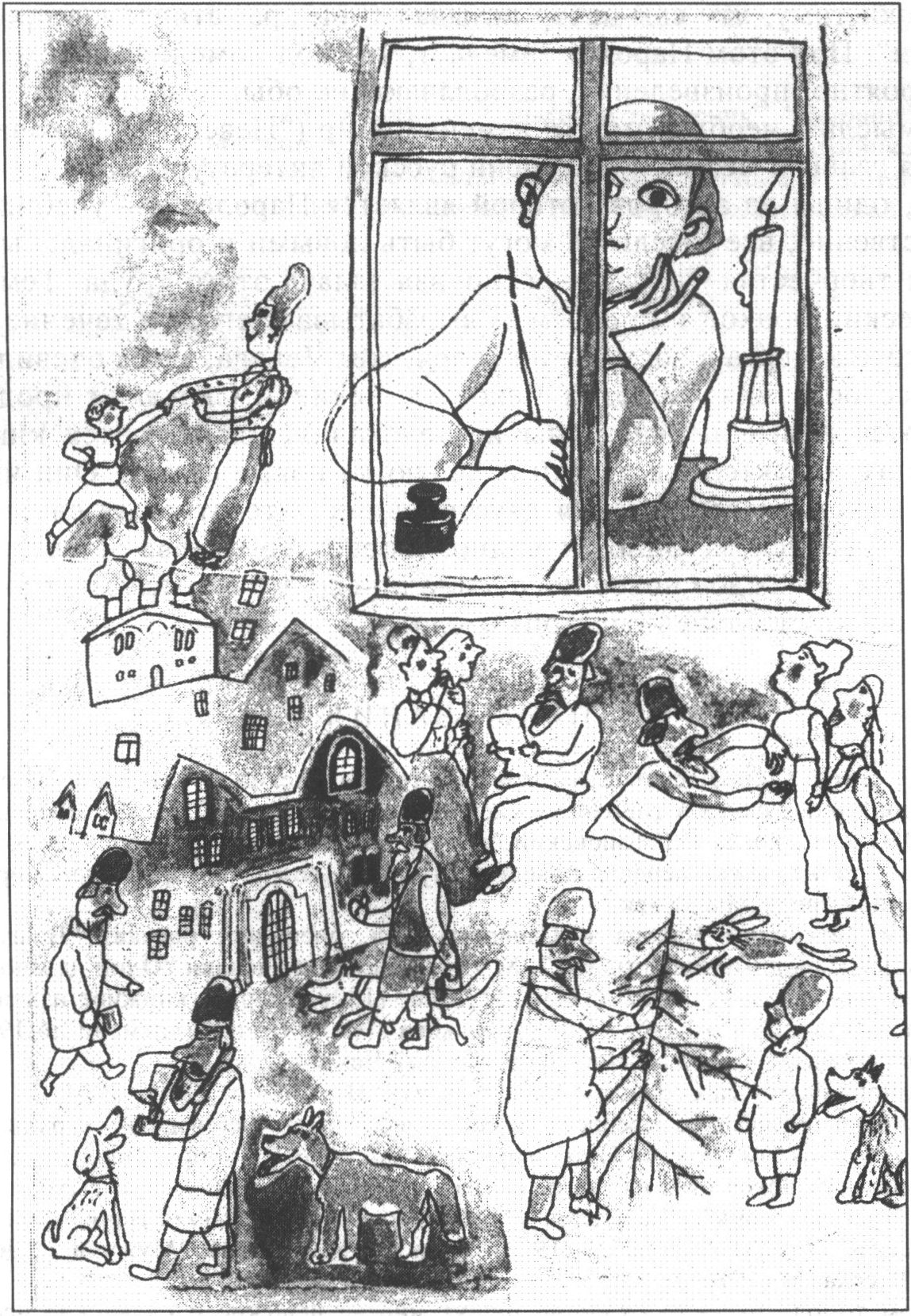«Я любил Россию еще до того, как познакомился с ней. Я любил ее за литературу Гоголя, Тургенева, Толстого, Чехова и Горького, у которых я учился понимать свой народ», — писал известный словацкий писатель-реалист Йозеф Грегор Тайовский, большой почитатель и переводчик Чехова1. Сказанное примечательно в двух отношениях: не только как выражение любви к русской литературе, но и как осмысление ее роли в художественном познании своей национальной проблематики в общечеловеческом аспекте. Тайовский писал прежде всего о словацкой деревне и, стремясь преодолеть идеализирующие тенденции в изображении деревенской жизни, сохранившиеся от периода национального возрождения, особенно ценил у Чехова повесть «Мужики», хотя переводил и публиковал также другие произведения писателя уже на рубеже веков2, не изменив этой своей литературной любви до конца жизни.
На разных этапах исторического развития чешскими и словацкими художниками русская литература воспринималась по-разному, что представляет собой факт общеизвестный и тем не менее его необходимо иметь в виду при изучении литературных связей как многосторонних, так и двусторонних. По ряду причин литературного и внелитературного характера русскому искусству особенно большое внимание у нас начало уделяться после окончания Второй мировой войны. Традиционное русофильство приобрело новое качество, русская литература, классическая и современная, начала осмысливаться с новых мировоззренческих позиций. Впрочем, основу для серьезного восприятия творчества Чехова создали критические заметки и выступления чешских и словацких писателей еще в 1920—1930-е гг., а также выход в свет сочинений Чехова в издании И. Отто3.
Процесс этот продолжается поныне. Каждое новое поколение приносит что-то свое в восприятие и интерпретацию творчества Чехова, иногда чрезмерно модернизируя его (это относится больше всего к кризисным 1960-м годам).
На рубеже XIX—XX веков и в канун Первой мировой войны произведения Чехова (особенно пьесы) вызывали у его чешских и словацких почитателей известную растерянность. Иногда это определялось противоречивостью оценок творчества писателя в русской критике, из которой чехи и словаки часто черпали знания о Чехове. Но еще важнее был тот факт, что произведения Чехова не отвечали пафосу антиавстрийских национально-патриотических настроений в Чехии и антивенгерских в Словакии, которые были эхом эпохи национального возрождения и в той или иной форме жили очень долго. Русофильской части чехословацкой общественности не всегда был понятен критицизм рассказов Чехова (не принял их, например, словацкий писатель Святозар Гурбан-Ваянский, резко полемизировавший в свое время с Тайовским). Были и попытки поставить творчество Чехова ниже таких величайших представителей русского реализма, как Лев Толстой или Достоевский. Положительную роль на первом этапе восприятия Чехова в Чехословакии сыграли непосредственные контакты писателя с чешскими и словацкими современниками, в первую очередь с переводчиками4, а также ощущение известной близости Чехова к таким европейским писателям, как Мопассан, с одной стороны, и Ибсен — с другой. Нужно было время для того, чтобы читатель мог шире познакомиться с творчеством Чехова, понять художественное своеобразие его произведений5.
В период между двумя мировыми войнами Чехов воспринимается уже более адекватно. В сознании читателей, критиков и историков литературы он становится постепенно классиком. Да и в самой чешской и словацкой литературах появляются писатели типологически ему близкие, такие как Ярослав Гашек, Карел Чапек, Янко Есенский и другие (ведь юмор — неотъемлемое свойство чешского художественного мышления, наряду с философским осмыслением бытия в его обыденности и глубине)6.
Сложнее обстояло дело с постановками пьес Чехова, особенно в Словакии, которая в 20—30-е гг. была более отсталой по сравнению с индустриальной Чехией, где условия для развития культуры были более благоприятными. До Первой мировой войны в Словакии практически не было профессиональных театров, необычайно остро ощущался недостаток культурных кадров, особенно переводчиков7. В то время даже одноактные пьесы Чехова в Словакии ставились лишь коллективами актеров-любителей.
После окончания Второй мировой войны и образования народно-демократической, затем — социалистической Чехословакии Чехов как бы был открыт заново.
Вскоре после 1945 г. начинается период нового, всестороннего ознакомления с творчеством Чехова. Этим наша культура была обязана выходу в свет двух больших собраний сочинений Чехова. К столетию со дня рождения Чехова в 1960 г. вышло десятитомное издание его произведений на чешском языке, примерно в то же время, т. е. в сущности еще на протяжении 1950-х гг. вышло и пятитомное издание на словацком языке8. Это дало возможность новой интерпретации прозы и драматургии Чехова.
Заслуга принадлежит здесь прежде всего издательствам, которые помимо собраний сочинений знакомили читателя также со сборниками рассказов, тематически организованных, а также переводчикам. Среди них были переводчики старшего поколения (прежде всего — переводчик и пропагандист русской литературы с 30-х гг. Богумил Матезиус) и целая плеяда переводчиков среднего и младшего поколений, которая продолжает пополняться.
Названный период по-своему сложен и противоречив, что выразилось особенно в интерпретации пьес Чехова на некоторых пражских сценах. Со своими концепциями выступали также авторы предисловий и послесловий к отдельным чеховским изданиям, а также статей исследовательского характера, публиковавшихся на страницах чешской и словацкой печати. Содержание этих работ часто выходило за рамки чисто литературные и приобретало характер общественно-политический, идеологический. В свое время чешская критика писала о том, как менялся смысл чеховского текста в зависимости от того, кто и как его переводил, как интерпретировал значение отдельных, казалось бы, незначительных реплик, с их скрытыми интонациями, подтекстом и т. п.9 Когда же речь шла о пьесах, то немалое значение имела интерпретация актеров, но главное — режиссерская концепция. Стремление к многообразию и углубленному толкованию произведений Чехова — совершенно новое явление по сравнению не только с межвоенным периодом, но и первыми годами послевоенного времени. Далеко не все здесь можно принять безоговорочно, но необходимо учесть, что это — свидетельство исключительно большого интереса к творчеству писателя.
Начнем с того, что в предисловии к первому тому собрания сочинений Чехова, вышедшему к столетию со дня рождения писателя (см. примеч. 8), его творчество сравнивается с пушкинским. Эта параллель на протяжении последующих десятилетий повторялась неоднократно в разных вариантах (пушкинский лаконизм, простота, ясность, переходящая порой в своего рода ясновидение, художественное предчувствие будущего). Чешский читатель тем самым подводился к истокам русской классической литературы. С другой стороны, творчество Чехова осмысливается через сравнение с Горьким, т. е. в контексте литературного движения конца XIX — начала XX вв.10 Возникают попытки понять личность Чехова через воспоминания современников. Большой популярностью пользуются переведенные с русского языка книги мемуарного характера11, что свидетельствует об интересе и к личности писателя, и к его окружению.
Изменение восприятия творчества Чехова в послевоенные годы связано уже с особенностями взаимодействия нашей литературы с русской в различные периоды исторического развития Чехословакии, о чем убедительно писал в свое время крупнейший чешский славист Франк Вольман12. В восприятии Чехова в Чехословакии свою роль сыграла также и советская критика.
Чехов осмысливается в данный период уже не просто как русский автор, но и как писатель мирового значения, который довел «анализ своего общества до совершенства»13 и пришел к осознанию неизбежности социальных перемен. Многие авторы статей, сопровождающих публикации произведений Чехова и исследований о нем, подчеркивают тот факт, что для него как художника решающее значение имеет часто не столько предмет, сколько своеобразие повествования. Вопросы художественной манеры писателя, ее самобытности оказываются в центре внимания исследователей. Все чаще ставится вопрос: что означает творчество Чехова сегодня и каково его мировое значение?
В Словакии в конце 50-х — начале 60-х гг. делаются первые попытки изучения творчества Чехова как в плане конкретно-историческом (работы Эмы Панововой в первую очередь)14, так и с точки зрения собственно художественной. Например, в статье «Ваянский и Чехов» словацкий исследователь Павол Петрус обращает внимание на то, что эти авторы как художники являются антиподами15. Ваянский внимательно изучил творчество Чехова (читал он его произведения в оригинале, делал заметки и собирался написать большую статью о нем, о чем свидетельствуют письма из тюрьмы 1903—1904 гг., где Ваянский находился за выступления против Австро-Венгерской монархии).
Но после внезапной смерти Чехова Ваянский написал лишь некролог, в котором выразил свое преклонение перед талантом русского писателя16. В собственном творчестве Ваянский следует скорее традициям Гоголя, Тургенева, Гончарова, при этом, в отличие от русских классиков, он часто поэтизирует действительность в каком-то постромантическом духе. По мнению П. Петруса, Ваянского сближает с Чеховым тема гибели человеческого счастья на фоне утраты подлинных нравственных ценностей и их общая мысль, что «эгоизм, рождаемый буржуазным обществом, враждебен полноте человеческой жизни, враждебен правде чувств, враждебен счастью»17.
Постепенно творчество Чехова становится все ближе словацкому читателю, особенно благодаря деятельности ученого и просветителя, а также издателя Йозефа Шкультеты и его супруги Богданы Шкультеты, которые публикуют рассказы писателя на страницах журнала «Словенске погляды».
Количество переводов возрастает. Если до 1901 г. их насчитывалось всего 16, то за период до 1914 г. оно достигло 17818.
В 1903 г. появляется отдельное издание пьесы «Медведь», в 1910 г. — сборник «Рассказы». Как уже упоминалось выше, до Первой мировой войны пьесы Чехова ставились лишь любительскими коллективами, а в 20-е годы уже на сцене Словацкого национального театра была поставлена «Свадьба».
В годы Второй мировой войны известный словацкий режиссер Ян Бородач пытался включить в репертуар Национального театра (Братислава) «Три сестры», но это ему не удалось и только в 1954 г. на сцене этого театра был поставлен «Дядя Ваня». Одновременно пьесы Чехова стали ставиться на сценах других профессиональных театров Словакии и постепенно вошли в их постоянный репертуар.
Особенный интерес к драматургии Чехова возникает в Чехии на рубеже 1960—1970-х гг. Наиболее оригинальными по режиссерской концепции и в то же время наиболее спорными были постановки «Трех сестер», «Иванова» и «Чайки» в театре режиссера Отомара Крейчи «За браноу» («За воротами»)*. «Вишневый сад» был поставлен также в «Чиногерном театре» (драматическом), «Дядя Ваня» — в Остраве, в театре Петра Бузруча. В Остраве же Государственным театром была поставлена пьеса «Три сестры» (реж. Радим Ковал), та же пьеса шла в Опаве в театре Зденека Неедлы (реж. Я. Новачек). «Вишневый сад» был инсценирован также в Брно в Театре братьев Мрштиковых (реж. Павел Римский), в Карловых Варах в Театре В. Незвала (реж. И. Далик), в театре И. Прухи в Кладно. «Дядя Ваня» шел в Камерном театре в Праге (реж. Фр. Мышка), в Иглаве в Горацком театре (реж. К. Брында), в Слезском театре Зд. Неедлы (реж. Я. Лингардт), в качестве телевизионного представления пьеса была показана в Братиславе (реж. В. Стрниско). Снова ставятся «Медведь», «Свадьба», «Хирургия» (в г. Свитавы, реж. И. Кереш) и весьма трудная для сцены пьеса «Платонов» (Брно, Драматический театр Ма-гена).
Пьесы и инсценировки рассказов Чехова постоянно появляются на Чехословацком телевидении: «Лебединая песня» (Прага), «Дуэль» (Прага, реж. Эва Садкова), «Драма на охоте» (Прага, реж. Милан Ружичка), «Шведская спичка» (Братислава, реж. С. Парницкий). Поэтическое кафе «Виола» ставит сценический монтаж «Уездный Гамлет», составленный из рассказов и сценок Чехова. Перечисление можно было бы продолжить, прежде всего за счет постановок в Словакии**.
Особенно много материалов о Чехове появляется в 1970 г. в связи с 110-летием со дня рождения писателя. Это статьи обобщающего характера и специальные, например, о Чехове-враче. Появляются и тематические сборники рассказов. Кроме того, произведения Чехова включаются в сатирические сборники разных авторов.
Остановимся на статьях и исследованиях, появившихся на рубеже 1970—1980-х гг. (в 1980 г. отмечалось 120-летие со дня рождения Чехова).
Систематически занимается изучением Чехова словацкая русистка Соня Леснякова. Ее перу принадлежат проблемные исследования о восприятии творчества писателя в канун Первой мировой войны, ряд статей юбилейного характера, анализ перевода рассказа «Скрипка Ротшильда» и др. Трудности в восприятии творчества Чехова его современниками в Словакии она объясняет сложностью историко-литературной ситуации, различиями между уровнем общественного и художественного развития России и Словакии в канун войны. Исследовательница приходит к выводу, что воздействие Чехова на литературу других стран и народов не ограничивается временем появления его произведений, но приобретает вневременное, общечеловеческое значение. С ее точки зрения, «Чехов в своем творчестве до известной степени отразил процесс развития от поэтики классического реализма до поэтики новой литературы»19.
Словацкие литературоведы (А. Матушка, Д. Дюршинин и др.) обратили внимание на то, что русскую школу, особенно Пушкина и Чехова, прошли многие словацкие авторы, в частности переводчик, поэт и сатирик Янко Есенский.
На рубеже 1980-х гг. новое поколение критиков и переводчиков в Словакии и в Чехии ищет дальнейшие пути к осмыслению творчества писателя в контексте современных общественных, нравственных и литературных проблем. Так, Иван Слимак в предисловии к двухтомнику Чехова20 вспоминает высказывание Горького о том, что человека в значительной степени формирует сопротивление окружающему миру, среде, и считает эту мысль доминантой творчества Чехова. По мнению автора предисловия, Чехов не стремился разрушать традиции с помощью программных эстетических заявлений и прокламаций, но как бы изнутри, самими своими произведениями, утверждал нравственные и эстетические идеалы.
Несколько иначе в этот период воспринимается творчество Чехова в Чехии. Помимо юбилейных статей, предисловий и послесловий, появляются также полемические статьи, например, Ж. Секеры, о спорах вокруг Чехова в чешской и западноевропейской критике21.
В примечательно названном послесловии «Гений простоты» к книге рассказов Чехова под заглавием «Тихие диагнозы» чешский русист Иржи Гонзик ставит в заслугу автору то, что «...пустоте эпохи безвременья он противопоставил нравственную силу своей личности»22. Вслед за Г.П. Бердниковым он считает, что Чехов как бы продолжает просветительские идеи русской литературы 1880—1890-х гг. и завоевывает уважение тем, что в условиях всеобщей утраты ценностей он сумел сохранить свою особую позицию, не приняв ни народничества, ни толстовской идеализации патриархального крестьянства, ни либеральной идеализации капитализма. И. Гонзик рассматривает Чехова как продолжателя гуманистических традиций русской литературы и «связующее звено» между XIX и XX веками. Аналитический метод художественного исследования действительности у Чехова, по его мнению, предполагает постановку вопросов, не претендуя на их решение. Непатетичность и сжатость его текстов неповторима, — считает он.
Другой чешский критик Ярослав Гулак в послесловии к рассказам Чехова, изданным в 1977 г., говорит о Чехове как о писателе, который «открывает пути литературе XX века»23. При этом он возвращается к оценкам Чехова в чешской критике начала века: «Первые сборники избранных произведений Чехова начали выходить в чешских переводах еще когда Чехов был жив. Чехов в них предстает как автор юморесок и печальных историй. В чешском сознании эта полярность и в дальнейшем сохранит свое значение, но будет однако интерпретирована как напряженное отношение между лириком в драмах и прозе, начиная со «Степи» <...> и моралистом, диагностом общественных болезней и недостатков». Я. Гулак призывает «смеяться с Чеховым» (так он назвал свое послесловие), — т. е. в известной степени вернуться к исходному восприятию чеховской «двузначности», и видеть в его творчестве, помимо трагического, и печальное, и веселое, проникнутое юмором.
Обобщающий характер имеет глава в «Истории русской литературы» (Прага, 1977), написанная профессором Пражского университета Радегастом Паролеком24. Прежде всего он подчеркивает у Чехова «искусство сокращения», требования максимальной объективности и краткости. Искусство детали представляется автору этой главы основным средством выражения. И главное: «С Чехова начинается, бесспорно, одна из самых перспективных традиций развития современной прозы, которая нашла многообразное выражение в советской литературе, в литературах Западной Европы и Америки».
Далее повторяется, варьируясь, концепция молодого Чехова как веселого юмориста, который убежден, что смех сам по себе достаточен для того, чтобы оздоровить мир (скорее всего, однако, молодой Чехов просто не думал об оздоровлении мира). Повторяется характерная для чешской критики мысль, что смех Чехова не тождествен гоголевскому «смеху сквозь слезы». По мнению Р. Паролека, молодой Чехов смеется как бы стихийно, радуясь веселью как таковому. Нет у него ничего общего, пишет он, и с язвительным смехом Щедрина.
В конце 80-х гг., считает исследователь, все усложняется, поскольку писатель уже понимает, что победить зло только смехом невозможно. Начинаются поиски и положительных явлений в самой жизни («Степь»), но одновременно здесь появляется печаль, чуждая сентиментальности, благородная печаль, в которой однако много безысходности. Возникает кризис в творчестве писателя, разрешению которого способствует поездка на Сахалин. После возвращения начинается период, когда над «микрорассказами» (по терминологии Паролека) у Чехова уже преобладает «микророман» (новелла), часто с философским подтекстом, с утверждением жизненной активности, но и скептицизмом. И все же: «В самые черные, отчаянные минуты у Чехова между строчками появляется скрытый источник надежды». И далее: «В его рассказах и драмах часто кажется, что лишь шаг отделяет мир прекрасной человечности от мира повседневности... В драмах особенно — картина погубленной жизни является как бы упреком людям в том, что они не умеют жить». Станиславский и Немирович-Данченко поняли, что драматизм пьес Чехова — скрытый. Все происходит как бы под покровом обыденности, «центр тяжести — в подспудном, внутреннем процессе, который в конечном счете трагичен, вопреки тому, что сам автор называл свои драматические произведения комедиями». При этом Паролек замечает, что под комедиями Чехов подразумевал, вероятно, произведения, разоблачающие обыденность. И все чаще появляется мысль о необходимости изменить мир («Невеста»). Такова, в целом, концепция главы о Чехове в «Истории русской литературы».
Книга, одним из авторов которой является Паролек, — учебник, в котором, естественно, все мысли не могут быть новыми и оригинальными. Популяризация творчества Чехова — основная задача этого труда. Тем не менее специфический подход к проблемам вырабатывавшегося в течение десятилетий чешского аспекта в восприятии творчества Чехова, здесь очевиден.
Процесс освоения наследия Чехова в Чехии и Словакии продолжается. Открываются новые перспективы исследования, планируются книги монографического характера, в печати появляются новые статьи. Они имеют значение как в контексте изучения двусторонних литературных связей, так и в плане типологическом. Одно очевидно: творчество Чехова остается живым и в наше время, и каждое новое поколение по-своему осмысливает уже сделанное до него и то, что еще предстоит сделать.
Три сестры. Братислава, Национальный театр, 1984. Постановка Л. Вайдички
А.П. Чехов. Юморески. Прага, 1979. Предисловие Я. Гулака. Обложка
Иллюстрация к рассказу «Ванька». Художник — М. Ягр. Из кн.: А.П. Чехов. Юморески (Прага, 1979)
Примечания
Обзор за период до 1960 г. см.: Богатырев Ш.Ш. Чехов в Чехословакии // ЛН. Т. 68.
*. О постановках О. Крейчи подробнее см. ниже, в сообщении Л.П. Солнцевой.
**. См. таблицы постановок пьес Чехова в Словакии ниже, в обзоре А.Г. Машковой.
1. Цит. по статье Сони Лесняковой: Йозеф Грегор Тайовский и А.П. Чехов // Чехословацко-русские литературные связи в типологическом освещении. М., 1971. С. 91. Высказывание относится к 1930-м гг., когда Й.Г. Тайовский был уже общепризнанным переводчиком Чехова, в частности, ему принадлежал перевод повести «Мужики», вокруг которой шли споры в словацкой литературной среде начала века.
2. Первым переводом Чехова в Словакии был, очевидно, рассказ «Враги» (перевод Й. Шкультеты) // Народные новины. 1887. № 15—17. Затем следовали «Один из многих» (1887), «Конек» («Тоска», 1888), «Ванька» (1889) и «Дома» (1890). Первое книжное издание — одноактная пьеса «Медведь» в переводе Й.Г. Тайовского (1903). С этого времени до 1983 г. в словацких переводах было издано 55 книг произведений Чехова.
3. Spisi Antona Pavloviča Čechova v Praze. T. I—VIII. Изд. J. Otto. 1911—1920.
4. См. в наст. кн. публикацию переписки Чехова с иностранными переводчиками, раздел «Чехия».
5. В вышеупомянутом издании Отто творчество писателя было представлено довольно полно, да и в Словакии Чехов стал издаваться более интенсивно: в 20-е годы выходят «Дом с мезонином», «Страшная ночь», «Каштанка», «Заблудшие» (1920), «Дядя Ваня» (1921), «Ионыч» (1922), «Рассказы» (1923), «Свадьба» (1923), «Три сестры» (1924), «Мужики», «Дочь Альбиона» (1925), «Рассказы» (1928) и т. д.
6. Об этом типологическом сходстве пишут многие чешские и словацкие исследователи (С. Леснякова и др.).
7. В кн. Pamatnica Slovenského národného divadla. Sbornik Slovenskè vidavatalstvo krásnej literatury (Bratislava, 1960) приводятся конкретные факты, свидетельствующие о сложности ситуации в театральной жизни в канун Первой мировой войны, после ее окончания и в период Второй мировой войны — вплоть до конца 50-х гг.
8. Čechov A.P. Spisy. Sv. I—X. 1951—1960. Rediguje E. Frynta. I—VI. Povídky. VII. — Ze Sibáře. Ostrov Sachalin. VIII. — Divadelní hry. IX. — Korespondence. Zápisky. X. — Deníky, zápísky, vzpomínky. Praha; Čechov A.P. Vibrané spisy v 5. svazkoch. Sv. I. Poviedky. 1953. Sv. II. Povíedky. Sv. III—IV. Povíedky. Sv. V. Hry. Bratislava, 1955.
9. См.: Anton Pavlovič Čechov. Nudná historie. Praha, 1960. Doslov napsa Jaroslav Hulák.
10. Такому осмыслению способствовало, в частности, издание книги: A. Čechov. Korespondence. Praha, 1954. S. 13—15.
11. Setkání s Čechovem. Paměti, korespondence, documenty. Praha, 1962; Stanislavskij K.S. A.P. Čechov v Moskevském umělickém divadle, 1962; Mrian R. Čechov znamý a neznamý // Pravda. 1979. 28.2. S. 5.
12. См.: Wollman F. Hlarni, jíkoly historickosrovnávaciho Zkoumaní slovanskych literatur // Slavia. 1958. Sv. 27. Č. 2.
13. Kochannyj Dmitrij. Jubileum A.P. Čechova // Rudé právo. R. 50. 1970. С. 24. 29. 1. Č. 7.
14. Panovová Ema. Ruská literatura v slovenských časopisoch koncem a začátkem 20 storočia // Slovanské studie II. SAV. 1959. S. 275—325.
15. Petrus Pavol. Vajanský a Čechov // Slovenská literatura. R. 9. 1962. Č. 3. S. 288—303.
16. V. Anton Čechov // Národné noviny XXXV. С. 87.
17. См. примеч. 15. С. 302.
18. Публиковались на страницах журналов «Словенски тыжденик», «Денница», «Глас». Перевод пьесы «Медведь» Тайовский опубликовал на страницах газеты «Роботницке новины».
19. Lesňaková Soňa. A.P. Čechov a predprevratová slovenská literatura // Slovenská literatura. R. 21. 1974. Č. 4. К vývinovej polarite čechovových poviedok // Československá rusistika. XV. 1970. Č. 1.
20. Čechov A.P. Sv. 1: On a ona; Sv. 2. Černý mnich. Anna na krku. Moj život a iné. Pral. Elena Krišková, Jozefina Lackovičová, Ivan Izakovič, Dana Lekutová. Bratislava, 1980.
21. Sekera J. Měla Sophi Laffitová pravdu? // Tvorba. 1971. Č. 19. S. 10.
22. См.: Anton Pavlovič Čechov. Tiché diagnózy. Praha, 1973. Doslov Honzíka Jiři. «Genius prostoty». S. 419—429.
23. См.: Čechov A.P. Humoresky. Praha, 1974. Doslov Jaroslava Huláka «Smát se s Čechven». S. 271—272.
24. Parolek Radegast, Honzík Jiři. Ruská klasická literatura (1789—1917). Praha, 1977. S. 507—517.
| Предыдущая страница | К оглавлению | Следующая страница |