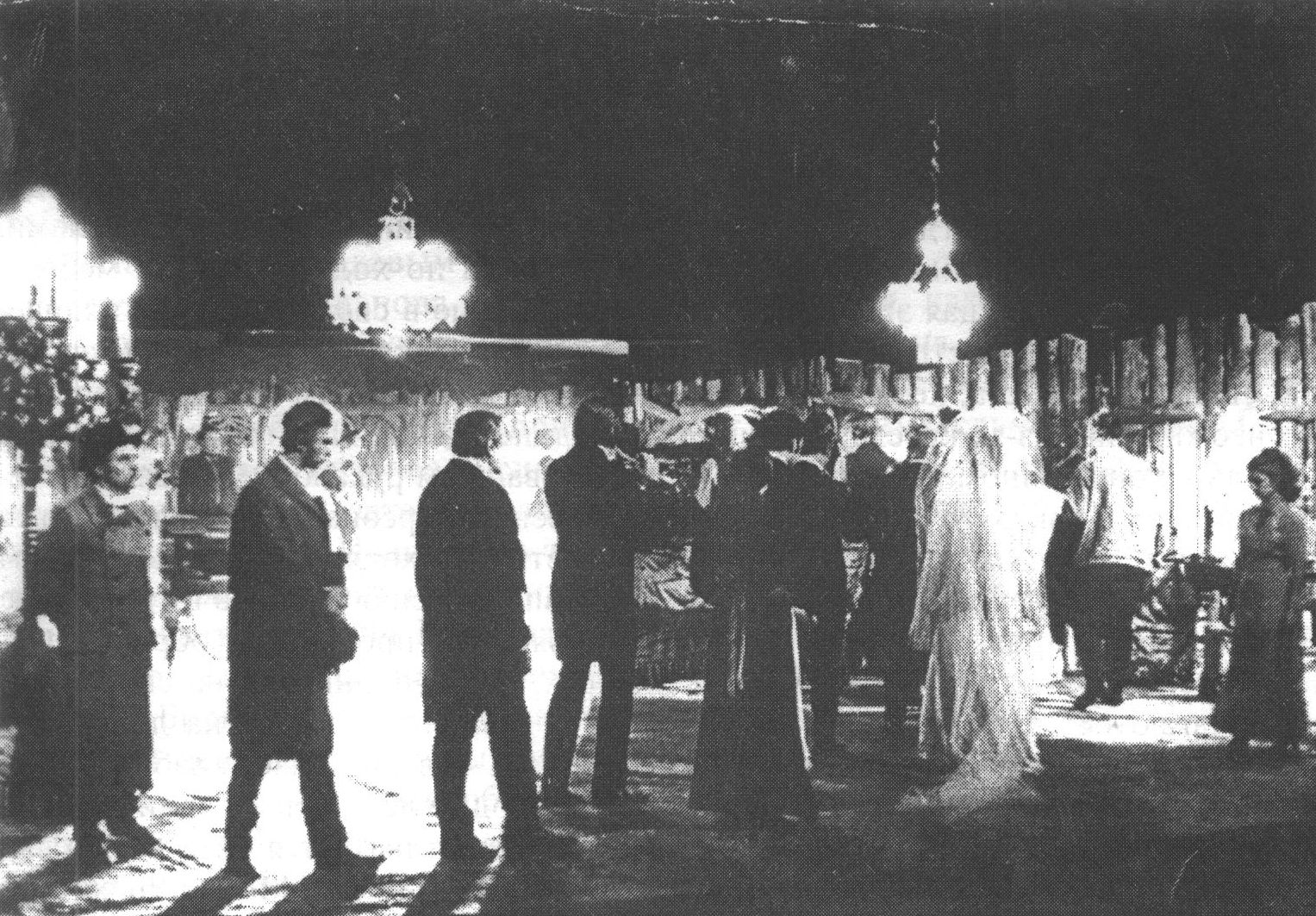В 2001 году в Москве состоялась выставка «Чехов в Чехии», устроенная Посольством Чешской республики. На афише знакомая фигура Антона Павловича возвышалась над зданием Пражского Национального театра, а на переднем плане из пасти веселой собачки игривым завитком летели слова — «А все-таки Чехов был чех!» В самом деле, быть может, за пределами родины писателя в мире нет страны, где бы так близко воспринималось его творчество на сцене и где бы оно так активно на протяжении всего XX века присутствовало в духовной жизни граждан. Чешский театр один из первых за рубежом обратился к постановке пьес Чехова. С 1890 по 1907 гг. здесь были поставлены все его драматические произведения. «Чехов является несравненным живописцем жизни, ее трагических и комических сторон, ее вечно тянущегося однообразия и ее поэзии. Наконец-то явился поэт, который не боится будничности, волшебник, который руду повседневности умеет обращать в сверкающее золото»1.
Чехов помог чешскому театру вступить в XX век. Если художники сцены первой половины столетия учились с помощью его героев осмысливать процессы текущей жизни, то во второй половине века чешский театр совершил прорыв к тем пластам его драматургического творчества, которые благодаря масштабам поэтических обобщений ставили русского писателя вровень с могучей фигурой великого британца.
После 1945 года в Чехословацкой социалистической республике сеть государственных театров была значительно расширена. Не было в этот период сколько-нибудь серьезно работающего коллектива, в репертуаре которого не значилась бы пьеса Чехова. Цифры не всегда определяют шкалу эстетических завоеваний, однако цифру поставленных на чешской сцене пьес Чехова с средины 1950-х до конца 1990-х гг. обходить не стоит: более ста спектаклей.
Большинство постановщиков первого десятилетия после окончания Второй мировой войны, обращаясь к драматургии Чехова, добросовестно копировали спектакли Московского Художественного театра, тем более, что девизом времени был лозунг, провозглашенный Клементом Готвальдом: «Советский Союз наш образец!».
Правда, ряд молодых режиссеров, как то: Карел Палоуш, Ян Гроссман, Лубош Писториус, Ян Качер стремились преодолеть в подходе к драматургическому материалу подражание мхатовским образцам. Но подлинным новатором, сломавшим традицию, стал Отомар Крейча. Спектакли, поставленные им совместно с художником Йозефом Свободой, своим единомышленником: «Чайка» на сцене Пражского Национального театра, «Три сестры» и «Иванов» — в театре «За браноу» освободили драматургию русского писателя от исторических вериг и, следуя точно за текстом его пьес, ввели их автора в круг своих современников.
Крейча родился в 1921 г., после окончания школы в 1939 г. поступил в кочующую по провинции труппу и играл в ней весь период оккупации страны. В 1945 г., после освобождения Чехословакии, Крейчу пригласил в свой театр Д-34 вернувшийся из концлагеря режиссер Эмиль Франтишек Буриан, затем Крейча в Городском театре на Виноградах в постановке режиссера Фрейки сыграл с успехом роль Макбета в одноименной трагедии Шекспира (1947) и роль Тузенбаха в «Трех сестрах» Чехова (1948). Первая режиссерская работа Крейчи осуществилась на той же сцене в 1948 г. Это был спектакль по пьесе Горького «Фальшивая монета». Благодаря тому, что оба режиссера, с которыми Крейче довелось работать, являлись яркими представителями чешского авангарда 30-х годов, он не приобщился к повальному, массированному изучению «системы Станиславского», когда для этой цели административным путем актеров собирали в летние лагеря. В 1951 г. Крейча становится актером Пражского Национального театра, труппа которого состояла из блистательных индивидуальностей, в то время как режиссура переживала кризис. С 1956 года Крейча — художественный руководитель драматической труппы ведущего коллектива страны — Пражского Национального театра. Поскольку в этот период чешские театры стремились приглашать для постановок советских пьес советских режиссеров, Отомар Крейча пригласил Г.А. Товстоногова ставить «Оптимистическую трагедию» Вишневского на сцене Национального театра в Праге. В результате тесного общения с русским режиссером система Станиславского стала для Крейчи основой в создании собственного режиссерского метода. В 1961 г. Крейча ставит «Чайку», спектакль, ставший событием не только для отечественной, но и мировой сцены. Пьеса Чехова наиболее счастливо соединила в себе давно волновавшие режиссера проблемы, которые он с большим или меньшим успехом поднимал в предыдущих спектаклях. Именно «Чайка» с ее темой бескомпромиссности исканий в жизни и искусстве, стойкости, ненависти к рутине непосредственно отвечала художественной программе чешского режиссера. Он поставил «Чайку» как новую, словно никогда ранее не игранную пьесу, никем не прокомментированную, кроме самого автора. На сцене знакомый «чеховский быт», но лишенный натурализма, сконцентрированный. Повседневная жизнь людей была как будто погружена в буйную зелень сада. Густые зеленые ветви склоняются над чеховскими персонажами не только вне дома, но и в комнатах. Тема властно зовущей жизни решена художником поэтично, по-чеховски. Потому что, по замыслу постановщиков, это — спектакль о смысле жизни, о жизни творческой и нетворческой.
Спектакль в Национальном театре начинается с того, что где-то вдали воет пес. Маша и Медведенко, как их играют Д. Медржицкая и Р. Лукавский, привычно рассуждают о жизни и любви. Объяснение Медведенко Маша слышит не впервые, и не в первый раз Сорин просит ее отвязать воющего пса. Просьба Сорина вызывает у нее большую реакцию, нежели вопросы, связанные с ее собственной судьбой. Маша одета в черное платье, говорит буднично: она состарилась, еще не начав жить. Медведенко также на протяжении всего спектакля появляется в одном и том же костюме, повторяя до бесконечности слова о жаловании и ребеночке. Их жизнь тосклива и однообразна, как вой этого пса, привязанного на цепь. Судьба Маши — повторение судьбы матери, только в еще горшем варианте. Полина Андреевна была возлюбленной Дорна, а вышла замуж за Шамраева, Маша выходит замуж за Медведенко, а любит Треплева.
Сорин Б. Загорского — это человек, как бы вобравший в себя черты неудачника. Жизнь его прошла впустую, а он все цепляется за нее, хотя по существу ничего от нее не ждет. Загорский играет Сорина очень больным человеком, его обморок в III акте воспринимается драматически. Он на грани жизни и смерти. Невысокий, в потертом сюртуке, с седыми космами волос, он смотрит с тоской на груду чемоданов отъезжающих. «А все-таки в город я поеду...» — говорит Сорин, прижимая к груди свой дорожный саквояж, а затем осторожно присоединяя его к приготовленным для отправки в город вещам. Во время обморока он падает на эту же груду, обняв чемоданы, точно в них заключено счастье, которое миновало его. А когда он приходит в себя, упрямо крутит головой — «А все-таки в город я поеду... полежу и поеду...», то берет свой саквояж обратно и уходит прочь.
Дорн, в отличие от Сорина, прожил жизнь содержательно, со вкусом. Смысл жизни для него в увлекательном труде. Он слишком самодоволен и равнодушен. Актер Богач оттеняет эти качества. Когда, например, Полина Андреевна униженно просит старого возлюбленного избавить ее от лжи и взять к себе, перед ее глазами мелькают ботинки Дорна: лежа на скамье, он делает гимнастику брюшного пресса, медленно поднимая и опуская ноги.
Нина Заречная нарушает равномерное, унылое течение жизни. Уже само ее появление создает праздничную атмосферу. Крейча не скрывает аналогии этого образа с названием пьесы: в белом развевающемся платье бежит она по аллее парка навстречу устремившемуся к ней Треплеву. Театр использует при этом скрытую от глаз зрителя движущуюся полоску планшета, с помощью которой стремительный бег Нины возможен уже на фоне реплик Треплева. «Я слышу шаги», — произносит юноша, порывисто бросившись ей навстречу, но спотыкается, падает и, скрывая смущение, говорит, обращаясь к сидящему на скамье Сорину: «Я без нее жить не могу...»
Нина и Треплев, как их создают Томашева и Тршистка, сходны своей бескомпромиссностью, нетерпимостью молодости. Но у Нины это беспокойство связано с жизнью в целом, а у Треплева — лишь с искусством. Поэтому, лишившись Нины, он стреляется, а Нина, несмотря на невзгоды, продолжает свой путь.
Любовь Нины к Тригорину не похожа на увлечение восторженной провинциалочки к известному писателю. Да и Тригорин (его исполнял корифей чешской сцены Ян Пивец) не имеет в этом спектакле ничего общего с писателем — автором чувствительных рассказов, трогающих девичьи сердца. Это — стареющий, усталый человек, поглощенный литературным трудом. Одет он без малейшего щегольства, даже небрежно. И поначалу его отношения к Нине серьезны и чисты.
Крейча строил мизансцену так, что она читалась обобщенно, почти символически: Нина во II акте качается на качелях. Здороваясь с ней, Тригорин протягивает руку, но дважды их руки не могут встретиться. Качнув Нину раз-другой, Тригорин усаживается на скамью, и посерьезневшая девушка, присев на траву, внимательно слушает его исповедь. Подозрительный тон возникшей перед ними Аркадиной как бы подталкивает Тригорина посмотреть на Нину взором, который заставляет ее смутиться.
Нина любит в Тригорине свою мечту об искусстве. И ее признание в IV акте воспринималось как свидетельство душевной стойкости. Ибо несмотря на разочарование, постигшее ее, Нина мужественно несет свой крест, свою веру. В первом акте Заречная декламировала монолог из пьесы Треплева, в финале же она повторяла его как бы про себя, прощаясь с безвозвратно ушедшим прошлым, обходя при этом комнату Треплева так, будто в центре ее все еще стоял летний театрик, и уходит, тихо прикрыв дверь за своим прошлым. На этом по существу заканчивается чешский спектакль «Чайка». Следующая сцена — своего рода «тризна» по Треплеву, можно сказать, даже лишняя: прямоугольный стол, покрытый зеленым сукном с горящим на нем семисвечником, где идет игра в лото, словно саркофаг, помещен режиссером на то место, где в первом акте находились подмостки летнего театрика. Треплева хоронят раньше, чем он вынес себе приговор.
Спектакль «Чайка» нельзя отделять от новой волны чешской драматургии, которая в это время формировалась благодаря усилиям Крейчи и его литературного помощника Карела Крауза, — столкновения в поэтической драме, создаваемой лучшими поэтами страны. Это «Августовское воскресенье», «Хрустальная ночь» (1958, 1959) выдающегося поэта Франтишека Грубина, «Их день» Йозефа Тополя (1961) и «Владельцы ключей» Милана Кундеры. По их признанию, основным камертоном в их драматургическом творчестве являлся Чехов. «Мы живем в иное время, в ином обществе... Но, вероятно, любви к человеку и веры в неограниченную творческую мощь его разума никогда не будет слишком много. И поэтому Чехов — вечно жив, современен, он — вечно наш», — писал Ф. Грубин2. Успешной работе Крейчи над воплощением поэтической драмы на сцене способствовали открытия Йозефа Свободы, его новаторские идеи в решении сценического пространства. Творческое содружество режиссера, художника и исполнителей в подходе к пьесам Чехова составило коллектив единомышленников. Так к середине шестидесятых годов внутри драматической труппы Национального театра сформировался «театр Крейчи», в 1965 г. на базе экспериментальной сцены, Латерна Магика, которой руководил Свобода, возник новый театр «За браноу». В 1966 г. Крейча поставил спектакль «Три сестры», который упрочил его славу как одного из лидеров в мировом театральном процессе. Известный театральный критик Наталья Крымова, побывав в Праге на этом спектакле, писала: «...Какой бесконечно современный писатель Чехов. Все в нем есть — и беспощадность такая, что страшно становится, и эффект отстранения не меньшей, чем у Брехта силы, и печаль чисто русская, и трезвость вполне европейская. Он все знал и все понимал о той жизни, в которой жил, а то, чего не знал о будущем, предчувствовал. У Чехова только брать и брать, припадая к нему как к великому источнику — духовному, нравственному, художественному. А что каждый почерпнет из этого источника — его дело. У каждого свои вопросы, своя боль.
Совсем новые связи с Чеховым на наших глазах возникают в последние годы в театрах мира. Поэтические подробности быта, в которых многие годы виделось едва ли не существо чеховских драм, оказалось, легко преобразуются на сцене соответственно духу времени, исчезают вовсе или компонуются по-новому.
А люди, герои Чехова, легко и просто высвобождаются от этого плена и, освободившись, оказываются поразительно похожими на нас. <...> Постановщик «Трех сестер» Отомар Крейча понял простую вещь: слишком многое, относящееся к обиходу чеховской эпохи, быту, человеческому гнезду и порядку, ушло, сметено временем, ушло безвозвратно. И интерес к этому — потерян. Зато надбытовая сила, сила духовности, душевности не только осталась, но выросла в своем значении.
И потому в новых чеховских спектаклях конкретные бытовые подробности отодвигаются на второй план, но зато скрытое за этими подробностями чувство боли и скорби за людей выходит вперед, выплескивается с откровенной и нервной силой, свойственной, может быть, не столько чеховскому, сколько нашему времени.
Оказалось, что и от актеров Чехов сегодня требует не столько умения воспроизводить манеры прошлой эпохи, сколько умения чувствовать нерв своего века»3. Все так. Вчитываясь в текст Чехова, театр открывал в нем взволнованного современника. Приближая персонажей «Трех сестер» к нашему времени, Крейча полностью убрал из спектакля элегическую тональность. Так, например, Вершинин (его играет превосходный интеллектуальный актер Радован Лукавский) в спектакле не молод, не блестящ, не так уж хорош собой. Рассказ о жене и дочках он использует в качестве проверенного приема, вызывая к себе симпатии провинциальных дам. Возможно, в каждом городе, где располагался полк, у него была своя Маша. Дом Прозоровых, воспоминания о Москве и молодости словно бы очистили его душу. Любовь к Маше поглотила его, наполнила жизнь смыслом, потому так драматично, так пронзительно безутешно для обоих прозвучала в спектакле сцена прощания. Трагедия утрат — лейтмотив IV акта. «Люди никуда не вырвались, не убежали и платят за это полной мерой: один ушел из жизни навсегда, других, созданных друг для друга, отбрасывают в разные стороны, тоже навсегда, третьи окончательно ставят крест на своих мечтах»4. Пустое пространство сцены наполнено тревогой (так Свобода насытил его напряженным драматическим светом). Только «качели, на которых никто не качается, и плетеные кресла, на которых никто не сидит»5. Вот на качели присел Чебутыкин (его играл сам Крейча). Именно в лице Чебутыкина на протяжении всего спектакля на героев наступает страшная сила безверия (а не благодушия, как у Чехова в ремарке). «...Недобрым и убежденным безразличием аккомпанирует происходящему эта фигура. Все равно. Все равно. Одним бароном больше, одним меньше — не все ли равно»6. Мечутся по сцене Ирина и Маша, не в силах справиться со своей бедой. Ольга, схватив за руку то одну, то другую, пытается остановить их кручение. Наконец, поддавшись ее призывам, сестры бросаются друг к другу — в пустом драматическом пространстве, созданном волшебником световых палитр Й. Свободой, возникает их трагический хоровод отчаяния. Обессилев, падают в кресла Маша и Ирина, а Ольга, стоя за ними и обнимая обеих, произносит свой монолог: «Надо жить!» Музыка, о которой говорит она, заимствована Крейчей из мхатовских «Трех сестер». Думается, чешский режиссер, разрушая «чеховщину» на современной сцене, подчеркивал свою приверженность традиции, что родилась в театре, творческим символом которого стала после премьеры чеховская «Чайка». Вывод Н. Крымовой в цитируемой нами статье это подтверждает: «Итак, правда, жизнь подчиняет своим условиям — бабья истеричность проявляется в Андрее, все более жалким становится Кулыгин, вершат победу Наташа с Протопоповым. Но спектакль не о них, хотя и о них тоже. Он о тех удивительных натурах, в которых ничто, никакие обстоятельства не могут подавить душевной тонкости, тяги к красоте, способности перед смертью видеть деревья и вспыхивать от крика журавлей, словом, ничто не может уничтожить то таинственное начало, которое одного человека связывает с другим, а равно и с природой, небом, землей, солнцем, со всем тем, что мы называем словом «жизнь». Так ли уж ново это в чеховских спектаклях? <...> Но взгляните на лицо Станиславского — Вершинина, Качалова — Тузенбаха или другого Тузенбаха — Хмелева, вспомните хмелевские интонации, о которых говорили, что они ввинчиваются в зрительный зал, вспомните, наконец, исступленно-трагический крик Степановой — Ирины в последнем акте: «Я знала, я знала...» — и поворот круга на этом крике, тот знаменитый поворот, от которого все переворачивалось в наших душах и рвалось на сцену к тем, что на сцене... Сколько силы духа, достоинства, юмора, дерзости было в этих людях! Может быть, это только потом, с годами, чеховские герои предстали такими укрощенными и прирученными? А пьесы Чехова постепенно стали ставиться как лирические воспоминания о некой далекой, несколько грустной (но зато такой поэтической!) жизни <...> Сегодняшний театр не обращается к воспоминаниям. Он ищет более прямую и более драматичную связь Чехова с нами»7.
Следует заметить, что под влиянием рассказов о постановке «Трех сестер» в Праге московский режиссер Анатолий Эфрос поставил эту пьесу в Театре на Малой Бронной в 1967 году, используя подходы к ней чешского режиссера.
Театр «За браноу» показал «Три сестры» во многих странах мира и спектакль получил признание самых широких кругов театральной общественности.
В 1970-е гг., после ввода войск в Чехословакию странами Варшавского договора, когда из репертуара театров исчезли пьесы 17 «неблагонадежных» отечественных авторов, драмы русского классика обрели на чешской сцене значение нравственного катализатора. С помощью Чехова нация осмысливала трагизм ситуации, пытаясь нащупать выход. К концу 70-х годов, например, пьесы Чехова были поставлены в 24-х театрах. Целое поколение режиссеров, сформировавшихся после 1945 г. в условиях социализма, таких как Лубош Писториус, Ян Качер, Ян Гроссман, Зденек Калоч и другие, проживали собственные драмы вместе с героями чеховских пьес. В их творческой судьбе Чехов значил куда больше, чем любой другой классик. Так, Ян Качер, прославившийся в шестидесятые годы постановками спектаклей Достоевского «Преступление и наказание» и Гоголя «Ревизор» на сцене театра «Чиногерни клуб», ставит затем в семидесятые на этой же сцене одну за другой пьесы Чехова: «Вишневый сад», «Дядя Ваня», «Чайка», «Платонов», а на сцене Национального театра — «Лешего». Остро гротесково, жестко, без единой поэтической интонации. Дегероизация персонажей объединяла все эти спектакли эпохи так называемой «нормализации». В этом ряду «Иванов», поставленный в 1970 г. в театре «За браноу», точнее всего отразил время и открыл зрителю новые грани в драматической палитре русского классика. Трагический вопль о судьбах людей, разлученных со временем, высосанных им, опустошенных, одиноких, О. Крейча и Й. Свобода снова открывали своим соотечественникам Чехова как их современника.
Все пространство сцены Свобода ограничил забором из неструганных досок и горбыля. Кое-где конфигурация досок ассоциировалась с куполами. Внутри этого загона была размещена необходимая по ходу спектакля мебель, точно соответствующая эпохе: кресла, диван, одетые в светло-зеленые плюшевые чехлы, рояль, люстры, канделябры со свечами. Пока рассаживались зрители, сцена была пуста, хотя спектакль начинался раньше, чем пьеса: совершенно неожиданно из-за кресла, стоящего посредине сцены, выкатывался белесый парень в поношенном черном пиджаке с надорванным рукавом, черных же старых штанах и каких-то опорках. Этот бессловесный персонаж начинал метаться по сцене и раскачивать люстры. Качаются люстры, выходят полуодетые актеры с костюмами на вешалках в руках. Под заунывную песню без слов и тревожное беспокойство парня, стремящегося что-то объяснить, происходит обряд одевания актеров. Зажигаются свечи в канделябрах, все исполнители на сцене, они располагаются группами. Кто-то играет на рояле, кто-то сидит на диване, за ломберным столом устраиваются играть в карты. У задней части забора стоят слуги и горничные, сбоку стоят дворовые — молодые девушки и парни. Иванов сидит в центре на переднем плане с книгой в руках и пытается читать. Это высокий полный молодой человек с маленькой бородкой (актер Мидан Риехс). На мгновенье все актеры застыли в начальной мизансцене, Боркин слева с ружьем, нацеленным в зал. Аккорд — и он прицеливается в Иванова. Начинается пьеса Чехова. Весь спектакль персонажи не покидают сцены. Они существуют в одном загоне и связаны друг с другом независимо от их воли. Поэтому каждая сцена обретает звуковой либо пластический фон. Стуки за карточным столом сопровождают разговор Иванова с Боркиным, чем-то напоминая имитацию движения поезда. Гогот картежников сопровождает и разговор Иванова с доктором Львовым. Отчаяние же героя пьесы («надорвался...») вызывает пробег белесого немого вдоль забора, — палочкой по доскам: трэк, трэк, — и в какой-то момент, как кошка, распластался на нем... и застыл. Слева Сарра уговаривает Иванова не ехать к Лебедевым, а справа Сашенька уже ждет его, улыбаясь.
В центре сцены — танец слуг и дворовых. На их фоне ведут свой диалог Сарра и Львов. Слуги танцуют без музыки, в молчании, слышен только топот. Немой зажимает уши — он не в силах справиться с страданием от звуков, которых почти нет. Сарра продолжает разговор с доктором о своей любви к Иванову, о том, как он изменился теперь. Бой часов все останавливает, ассоциируясь с темой рока. Сарра срывает с вешалки парадное, расшитое жемчугом платье и убегает — туда, к Лебедевым.
Вечер у Лебедевых многолюден, в глубине сцены Сашенька качается на качелях. Немой одиноко сидит за карточным столом. Сарра, невидимая для всех, то пробегает, делая кульбит, то медленно проходит между присутствующими. Но вот гости группируются вокруг Боркина с бенгальскими огнями. Сашенька и Иванов одни. Она пылко признается ему в любви, испуг, потом радость и... поцелуй. Именно в этот момент вбегает Сарра и останавливается, как вкопанная. Целующиеся видят ее. Она падает. Паника, беготня гостей, слуг. Занавес.
Вторая часть спектакля «Иванов» начинается с полисцены. Все исполнители совершают круговой променад, выкрикивая реплики из предыдущих сцен. В самой глубине — немой. Поодаль от него Саша медленно качается на качелях. Марфа Бабакина разводит амуры с молодыми кучерами. Справа Шабельский и Лебедев пьют у письменного стола Иванова. Тихо бьют часы. Все сосредоточены, прислушиваются, сверяют время. Пауза.
В отдалении, в правой глубине — ложе Сарры и сама она в длинной белой рубахе. Реплики Саши и стоны Сарры почти синхронны. Иванов все это время стоит возле качелей, прислонившись к забору. Но вот он входит в свой кабинет — в правую переднюю часть сцены, — огорченный происходящим, его разговор с Лебедевым о деньгах сопровождается смехом Сашеньки и ее пробегом. Слова Иванова о том, что он надорвался, как мужик Семен, поднявший два мешка, звучат на фоне стонов немого парня.
Следующая сцена, с доктором Львовым, еще более полифонична: все исполнители как бы невидимо присутствуют, все внимательно слушают. Саша ходит по правой стороне сцены и постукивает по доскам забора металлической ручкой стека, затем входит в кабинет Иванова, словно желая прервать обвинения Львова Иванову за то, что он ездит к ней. В этот момент Сарра встает с ложа и стоит неподвижно всю сцену спиной к зрителю. Иванов не выдерживает болтовни Боркина о способах разбогатеть — он кричит, и эхо, усиленное стереозвуком, заполняет пространство театра. В кабинет входит Сарра, а Боркин, ерничая, удаляется. Масса участников приходит в движение, повторяя реплики из предыдущих сцен; мычит и поскуливает немой. Ссора Иванова с Саррой: он оскорбляет ее, говорит, что она скоро умрет, тихо-тихо, почти беззвучно рыдая. Слева Сашенька, смеясь, примеряет подвенечное платье, а немой в глубине накрывает ложе черным покрывалом. Львов слушает диалог супругов, страдая.
Слова Иванова убили Сарру, она падает со страшным криком, Иванов рыдает над нею, доктор Львов обличает его, а в это время из глубины сцены несут ложе, ставят его на просцениум и кладут Сарру. Немой в отчаянии воет и катается по полу. Веселая музычка, которая все время звучала, переходит в траурный вальс — с просцениума на высоко поднятых руках несут Сарру на черном ложе, и все, кто есть на сцене, выстраиваются в траурную процессию. Трубит трубач, мычит немой. Процессия скрывается в глубине...
Слуги убирают сцену. Мужчины возвращаются с похорон. Веселый танец. Это уже свадьба. Гости танцуют и обсуждают проблему Иванова, а он во фраке стоит справа у забора и слушает. Там же он слушает разговор Саши с отцом, делает несколько шагов в их сторону, словно желая его прервать, но потом отходит к забору.
Танцы ширятся, музыка все громче. У рояля, невидимая ни для кого из окружающих, стоит фигура Сарры и пробегает сцену по диагонали, делая свой кульбит. Смеясь, убегает в правый портал. Это — на слова Шабельского: «жидовочку вспомнил». Саша справа у забора с Ивановым. Гости пьют, исступленная пляска, все похоже на шабаш. Лебедева ходит с завязанной головой. У рояля поют. Иванов наблюдает все это. Из глубины идет немой с образом без оклада и белым свадебным букетом. Саша в фате. Родители благословляют ее образом. Увидели слева Иванова, он хочет говорить с Сашей. Гости и Лебедевы стоят к ним спиной, но внимательно их слушая, иногда поворачивая головы. А Иванов умоляет Сашу публично отказаться от свадьбы. Саша приводит отца, уговоры и слезы. Гости начинают танцевать. Испугавшись взгляда Иванова, Саша и Лебедев убегают вглубь сцены. Немой с белым букетом продолжает стоять.
Иванов кричит — и, вдруг, падает на колени перед креслом, зовет Шабельского, жмет руку ему и Боркину, тот смеется, Иванов тоже смеется. Но вот он с Сашей в центре сцены. Слева появляется фигура Сарры как бы предваряя акцию Львова, — вызов Иванова на дуэль. Вой немого.
Иванов внутри окружившей его толпы гостей произносит свой последний монолог, вынимает револьвер. На его руке висит немой. Выстрел. Воя и плача, немой бросает букет. Все жмутся к забору. Немой начинает, рыдая, раскачивать люстры, и они качаются в безмолвии.
Спектакль «Иванов» ошеломил зрителя полифоничностью наглядных взаимосвязей не покидавших сцену персонажей. Это обнажало не только одиночество центрального героя, но и тех, кто его окружал.
«Чехов и его творчество, — говорит Крейча, — воздействует на меня эстетически, эмоционально, философски»8.
«Иванов» — первый спектакль Крейчи, где в поведении героя включено подсознание. Отсюда необычность звуковой партитуры (эхо, отголоски, повторяющиеся тексты), появление немого существа, возможно, олицетворяющего нравственное «я» героя пьесы.
В 1972 году театр «За браноу» снова обращается к Чехову. Это — «Чайка», четвертая для режиссуры Крейчи после премьеры в 1960 году на сцене Пражского Национального театра. Вторая была в 1966 г. в Брюсселе, третья — в 1969 г. в Стокгольме. «В отличие от предыдущих постановок Крейчи в Праге, Брюсселе, Стокгольме, — писал французский исследователь театра Дени Бабле, — «Чайка» в театре «За браноу» представляет собой совершенно другую интерпретацию пьесы Чехова <...> Новое прочтение заключается в том, что режиссер восстанавливает произведение после того, как его уничтожает»9. Впервые Крейча вторгся в ткань чеховской пьесы, «расширил» ее по актам, сценам, ремаркам и сконструировал новое сценическое произведение.
В чащу березовой рощи входили полуодетые актеры, держа в руках (как и в «Иванове») костюмы на вешалках. Протянув через сцену занавес, начинают одеваться и «выстреливать» реплики из разных мест пьесы. Вместо четырех актов «Чайки» актеры театра «За браноу» играли «монтаж» из двадцати драматических моментов, которые <...> как-то по другому вскрывали основные темы пьесы. Здесь во главу угла выдвигался вопрос литературы и театра...» Спектакль 1972 года развивался не по сюжету. Такие отклонения от авторской версии в то время исключались. Крейча позволил себе «вольности» с текстом, преследуя единственную цель: попытаться прочесть пьесу Чехова как современную, донести до зрителя в эпоху разрушения ее живое звучание.
«Вместо того, чтобы представить «Чайку», развивающуюся горизонтально, он <Крейча. — Л.С.> выстраивает ее вертикально... Главная задача — отразить время. Сцены четвертого акта прослаивались сценами из первых трех»10. Пьеса представляла своеобразное «пространство временных зеркал». Но перестраивая пьесу, Крейча не нарушал авторской интонации и в кажущемся сумбуре проживались и рушились судьбы чеховских героев: Крейча, по его словам, «явно ломал чеховскую линию драмы, но только для того, чтобы ярче показать глубокие структуры произведения» (см. примеч. 8). И в этой своей работе режиссер хранил дистанцию между текстом пьесы и текстом спектакля: световая палитра сценографии Свободы четко определяла их границы. Если в спектакле 1961 г. судьба молодого поколения находила отражение в судьбе Нины Заречной, то в «Чайке» 1972 г. на первый план выдвигался Треплев. Ему, и это Крейча подчеркивал, предстояло строить жизнь завтрашнего дня. Треплевская пьеса воспринималась здесь как программа движения в будущее. Тригорин в этом прочтении «Чайки» Крейчей — пейзажист, безразличный к судьбам человечества, а Треплев верит в новые формы, необходимые не только искусству, но и людям. Однако время и его реалии опрокинули надежды и, поняв свое бессилие, Треплев, как и Иванов, стреляется.
Тема надежды отсутствовала, как в «Чайке», так и в «Иванове», уступив место безысходности.
«Чайка» прошла на сцене театра «За браноу» лишь несколько раз, так как в том же сезоне театр был закрыт, а Крейча, по существу, лишен права ставить спектакли на родине. С 1976 г. Крейча ставит пьесы Чехова за рубежом: в Дюссельдорфе — «Вишневый сад» (1976) и «Платонова» (1977), в Карлсруэ — «Чайку» (1979), в Стокгольме — «Платонова» (1979), «Три сестры» (1983), «Вишневый сад» (1988). Кроме того, «Вишневый сад» был поставлен Крейчей еще раз в Швеции в том же сезоне в 1988 г. в городе Вестере. Он оказался последним, который Крейча поставил за пределами родины.
В ноябре 1989 г. в Чехословакии произошла «бархатная революция». Коммунистический режим пал. Крейча стал во главе театра «За браноу II», который открылся в 1991 г. спектаклем «Вишневый сад». Театр с этим спектаклем приглашается в Москву для участия в Первом Международном театральном фестивале имени А.П. Чехова (4—27 октября 1992 г.).
Ситуацию вокруг этого спектакля и о нем самом точнее всего определила театральный критик Татьяна Шах-Азизова в журнале «Московский наблюдатель», целиком посвященном фестивалю:
«На фестивале Крейчу ждали больше, чем других. Боролись за его приезд. Радовались встрече с ним. И вдруг — разочарование, тем более острое, чем сильнее были ожидание и вера в легенду, которой стал в свои годы странствий этот одержимый Чеховым режиссер. Случилось простое — «столкновение легенды и реальности», как заметил Анатолий Смелянский. При этом первая рухнула, но и вторая не победила.
Все было не так, как хотелось: ни сада на сцене, ни праздника, который вопреки всему живет в безалаберном мире Раневской, ни обаяния самой Раневской, непостижимого и неотразимого, как бы мы ни злились на ее беспечность и сопутствующий ей сумбур. Знаменитая Мария Томашева с каким-то вызовом отбросила свой шарм и явилась московской публике хмурая, неконтактная, суровая, как женщины Ибсена, да к тому же и без парижского шарма. Реакция личной обиды со стороны театралов (будто обманули или отняли что-то) была скорой и дружной, с разной степенью лояльности, от сочувствия («работа усталого и замученного человека») до раздражения («ясность таблицы умножения», «бескрылый прозаизм»). Случаи принятия спектакля или хотя бы живого интереса к нему были редки <...>
Для большинства же, творящих легенду заочно, Крейча имел репутацию главного текстолога чеховского театра, что было подтверждено им в словах («Текст для меня наивысший закон») и на деле. Слушатели семинара по «Вишневому саду», который Крейча вел в Москве в 1989 г., были покорены виртуозностью разбора, но кое-что, видимо, пропустили. В том числе и относящееся к Раневской — «усталая, измученная женщина» (в том же роде напишут у нас и о самом Крейче), привезенная на родину против воли, отбывающая тут повинность. Сказанное тогда промелькнуло, а воплощенное, явленное теперь — возмутило»11.
Эти слова можно смело отнести не только к московским театралам, но и к пражской публике, большинство которой почти 20 лет питалось легендой о чеховских спектаклях Крейчи. Возрождение театра «За браноу II» приветствовалось всем обществом, к спектаклю «Вишневый сад» критика отнеслась вежливо-сдержанно, публика — равнодушно. Устремления коллектива соотнести с движением времени свои спектакли не привели к желаемому результату. Зрителя в театр так привлечь и не удалось. Приказом министра культуры Чешской республики театр «За браноу II» в 1994 г. был закрыт, а его руководитель впоследствии становится режиссером Национального театра.
Российская театральная общественность, невзирая на явный неуспех «Вишневого сада» на Первом Международном фестивале им. А.П. Чехова, пространно и восторженно высказывалась о его прежних режиссерских открытиях12. Во время юбилейных торжеств, связанных со 100-летием Московского художественного театра, Крейча был среди почетных гостей. Он был первым зарубежным деятелем театра, которому (благодаря стараниям О.Н. Ефремова) была присуждена в 1999 году премия Станиславского. В ответном слове на этом торжестве О. Крейча сказал: «Я вырос на Станиславском, его творчество питало мою учебу и сценическую практику, он стоял за моей спиной, когда у меня что-либо получалось в театре. Я знаю, как он во мне поселился и, может быть, — а это я уже различить не могу — как я его к себе приспособил»13. Чешский режиссер был прав: опираясь на Станиславского, он достиг нового уровня сценической интерпретации чеховских пьес по сравнению с мхатовским принципом «второго плана». Крейча «обострял, позволял прорываться наружу — и постепенно готовил финал — вне быта, вне жизни, в каком-то другом измерении»14. Мощный прорыв второго плана и стал его открытием.
В 1965 г., когда Крейча открывал театр «За браноу», родился Петр Лебл — самый известный чешский режиссер последних десятилетий XX века. В год закрытия театра «За браноу» Лебл — художественный руководитель театра «На забрадли» — удостаивается самой престижной театральной премии в Чехии за спектакль «Чайка» и приглашается с ним в Москву на Второй Международный театральный фестиваль имени Чехова. В январе 1999 г. Крейча получает в Москве премию Станиславского, а в декабре этого же года Петр Лебл добровольно уходит из жизни, оставив в качестве завещания сценарий собственных похорон.
Журнал «Театр», опубликовав большой материал о жизни и творчестве Петра Лебла, заключил: «Наш долг — осмыслить и рассказать всем, кто этого еще не знает, что Петр Лебл был выдающейся фигурой европейской сцены»15.
За время художественного руководства театром «На забрадли», которое он получил по конкурсу, Лебл поставил три пьесы Чехова — «Чайку» (1994), «Иванова» (1997), «Дядю Ваню» (1999), каждая из которых получила премию им. Альфреда Радока как лучший спектакль сезона.
В 1996 г. в Праге вышла книга «Феномен Лебл», где были собраны все рецензии о поставленных им спектаклях дома и за рубежом16. Творческая биография Лебла отражена в ней скрупулезно и обстоятельно. Как актер, режиссер и сценограф Лебл проявил себя в любительском театре. Ему не было двадцати лет, когда на любительской сцене он поставил в собственной инсценировке «Гротеск» («Балаган») Курта Воннегута. Спектакль ошеломил фантазией постановщика не только пражского зрителя, но и оказавшегося в ту пору в чешской столице автора. Как актер и режиссер Лебл сразу стал знаменитым. Он стал руководить любительским коллективом при доме культуры транспортников, назвав его «ЕЛО» («Как доехали»). Дважды делал попытки поступить в киноакадемию, но получил оба раза отказ «из-за отсутствия таланта». В 1986 г. Лебл был принят на факультет режиссуры в Академию театрального искусства в Праге. Любительский коллектив «ЕЛО» стал одним из самых популярных в Праге. Особый успех снискали спектакли по произведениям «Превращение» Ф. Кафки и «Свадьба» Ст. Выспянского. В даровании Лебла многим виделись характерные черты молодого поколения. Лебл подтвердил это своим участием в «бархатной революции». Он поставил на Летенском поле, возвышающемся над Прагой, где когда-то находился памятник Сталину, хеппенинг «Конец насилию».
Поскольку революция осуществлялась, в основном, пражской интеллигенцией и студенчеством, Лебл стал знаменем нового режима и вождем «постмодернизма по-чешски» в искусстве. Поставленные в этот период спектакли в профессиональном театре (режиссура и сценография пьесы сверстника Э. Тобиаша «Войцев» в театре «Лабиринт» и молодого отечественного автора Я.П. Питинского «Комнатка» в театре «На забрадли» в 1992 г.) шокировали зрителя. Они стали предметом дискуссий, нашли аудиторию среди молодого поколения зрителей, которому не мешало, что «режиссер как бы не заботится о контакте со зрителем, то и дело перешагивая тот предел, за которым понимание ситуации в строгом смысле слова становится невозможным»17.
В книге «Феномен Лебл» глава, посвященная спектаклю «Чайка», называется «Победитель», хотя этот спектакль однозначно зрителем принят не был. Критика же восторгалась раскованностью режиссера, его фантазией, подлинной свободой творчества18.
На обрамленной картонными березами крошечной сцене театра «На забрадли» стилизованные персонажи чеховской пьесы ассоциировались с типажами немого кино начала века (набеленные лица, парики, костюмы, пластика). Ироническая игра, во время которой ряд персонажей сначала появляется в глубине на движущемся планшете, точно апостолы на Пражских курантах, Нина прибегает на спектакль словно со скотного двора, в сапогах, с узелком одежды, а монолог читает буквально иллюстрируя слова, Маша говорит, что отсидела ногу и встает на голову, слуги не церемонятся с господами. Аркадина в известной сцене с Тригориным, уговаривая не бросать ее — садится на него верхом в прямом смысле. Возле портала падает береза, ее спокойно поднимают и водворяют на место. Треплев здесь — с набеленным лицом и обведенными черным глазами и ртом, как у Пьеро. По существу, он от начала фигура трагическая и порой кажется, что спектакль поставлен о нем и что Лебл, с помощью Чехова, стремится познать себя. «Во время работы над постановкой, — говорил режиссер, — меня посещала масса глумливых мыслей, как то: Треплев — не сын Аркадиной, у Нины ребенок не от Тригорина, а от Треплева, Треплев застрелился не сам, его застрелила либо Маша, либо Медведенко... а ребенок Маши от Тригорина — по банальной формуле: Треплева любит, с Тригориным спит, а за Медведенко выходит замуж... И на все это в пьесе имеются ясные ссылки, но все это удастся доказать постановщикам, которые придут после нас. Лет через двести, триста. А наша постановка должна быть обычной, старомодной»19. Здесь лукавство режиссера полностью опрокидывает IV акт спектакля. Сцена во всем белом: колонны, мебель, пол, шторы и все персонажи. Другое измерение, другой свет. На протяжении всего спектакля умирает Сорин, без парика он лыс. Появление Нины — цветовой взрыв. Она в черном, ее поведение естественно. Она не призрак, живой человек. Именно это убивает Треплева.
«Темой этой постановки является проблема свободы, недавно обретенной чехами, ее беспредельности и беспомощности, — писал голландский критик Э.-В. Герлингс. — Постановка в целом может восприниматься как защита Леблом новых театральных форм. Могу себе представить вздохи пуритан и нахмуренные лбы кальвинистов, когда они будут читать эти строки. Да можно ли еще в этом переплетении изощренных художественных форм найти человека? Конечно, да! Фонтанирование идеями и перемешивание форм для Лебла отнюдь не главное, для него важен и определенный образ игры — игры без аффекта <...>
Спектакль по ходу действия становится все сильнее, приобретая равновесие между освобождающим карнавалом идей и естественным образом игры, который и ищет Лебл. В этом смысле особенно характерна молодая актриса Барбора Гржалова, которая в последнем действии полностью освобождается от аффектированности, создавая из Нины неповторимо сильную личность. Когда в последней сцене раздается выстрел, которым Костя кончает с жизнью, и доктор идет смотреть, что же собственно случилось, Лебл просто не может еще раз не разрушить иллюзию театра. Хоть выстрел ясно прозвучал из правой кулисы, доктор идет влево, в противоположном направлении. Если это не драма...»20
Разрыв мнений о спектакле подтверждается рецензенткой из Швеции Э. Теландер: «Режиссер своей анархической, совершенно безвкусной постановкой вызвал раздражение критики... Эта провокативная «Чайка» вызывает в стране, которая с трудом освободилась от влияния всемирно известных постановок Чехова режиссера Крейчи, впечатление непочтительности»21.
Приглашение театра «На забрадли» в 1997 г. в Москву на II Международный театральный фестиваль имени Чехова со спектаклем «Иванов», который, к тому же, игрался на сцене МХАТ им. Чехова, можно считать знаковым, как и тот факт, что на празднование столетия «Славянского базара» из Чешской республики были приглашены Отомар Крейча и Петр Лебл. Вот строки письма, которые Лебл написал О.Н. Ефремову:
«Уважаемый господин Ефремов, приветствую Вас из Праги! Я все время думаю о том впечатлении, которое произвели на меня «Три сестры», увиденные во время празднования 100-летия основания МХАТа. Бумагу, на которой я Вам пишу, мне дала старейшая чешская актриса Мария Глазорова, когда я приходил поздравить ее с днем рождения (ей исполнилось 86 лет). Она рассказывала мне о том, как она работала с Отомаром Крейчей и Альфредом Радоком, этими двумя гигантами чешской послевоенной режиссуры... Ваша постановка задела меня за живое — своей композицией, геометрией, современностью и правдой. Это также был первый спектакль, увиденный мной в прославленном МХАТе, он стал событием в моей жизни <...>
Я большой почитатель Чехова и вашей культуры вообще. В прошлом году у театра, художественным руководителем и режиссером которого я являюсь, была возможность сыграть на Таганке свою «Чайку». В настоящее время мы получили приглашение в апреле будущего года привезти «Иванова», премьера которого прошла у нас два месяца тому назад. Показать Вам нашу работу было бы для нас большой честью. Может быть, на этот раз мне удастся вновь Вас приветствовать и сказать Вам «Браво!»»22
В начале XX века Станиславский посылал в Прагу режиссерский экземпляр I акта «Трех сестер», откликаясь на просьбу их постановщика на сцене Национального театра — первого профессионального чешского режиссера Ярослава Квапила. В конце XX века пьесы Чехова по-чешски в режиссуре Крейчи и Лебла играются на сцене МХАТа...
Чайка. Прага. Театр им. И.К. Тыла (сцена Национального театра), 1960. Постановка О. Крейчи. Художник И. Свобода. Нина — М. Томашева, Тригорин — Я. Пивец. Фото Я. Свободы
Три сестры. Прага, театр «За браноу», 1966. Постановка О. Крейчи. Художник Й. Свобода. Маша — М. Томашева (на первом плане), Ольга — В. Кубанкова, Ирина — Г. Пастержикова. Сцена из IV акта Фото Я. Свободы
Иванов. Прага, театр «За браноу», 1970. Постановка О. Крейчи. Художник Й. Свобода. Сцена из IV акта Фото Я. Свободы
Чайка. Прага, театр «На забрадли» 1994. Постановка П. Лебла. Треплев — Р. Голуб, Нина — Б. Грзалова. Сцена из II акта
Примечания
1. Отзыв Й. Куффнера (Narodni listy. 1901. № 111). Цит. по: ЛН. Т. 68. С. 757.
2. Театр. 1960. № 1. С. 46.
3. Крымова Н. Русская классика в Праге // Театр. 1967. № 5. С. 138.
4. Там же. С. 136.
5. Там же. С. 137.
6. Там же. С. 137.
7. Там же. С. 139—140.
8. Запись беседы автора сообщения с О. Крейчей (архив автора сообщения).
9. Цит. по: Bulletin Divaldo za branou. II. Č. 5. 1991.
10. Ibid.
11. Шах-Азизова Т. Общая наша участь // Московский наблюдатель. 1992. № 11—12. С. 46, 48.
12. Коваленко Г. Teatrum mundi Отомара Крейчи // Московский наблюдатель. 1992. № 11—12. С. 40—43.
13. Крейча О. Речь при вручении Премии К.С. Станиславского в Москве 19 января 1999 года // Из архива автора сообщения.
14. Из беседы автора сообщения с О. Крейчей.
15. Театр. 2000. № 1. С. 100—105.
16. Fenomen Lebl. Praha, 1996.
17. Якубова Н. Новые сны старой Праги // Московский наблюдатель. 1994. № 5—6. С. 45.
18. Fenomen Lebl. S. 230—235.
19. Svet a divadlo. 1994. № 6. S. 66.
20. См.: Fenomen Lebl. S. 233.
21. Ibid. S. 234.
22. Театр. 2000. № 1. С. 105.
| Предыдущая страница | К оглавлению | Следующая страница |