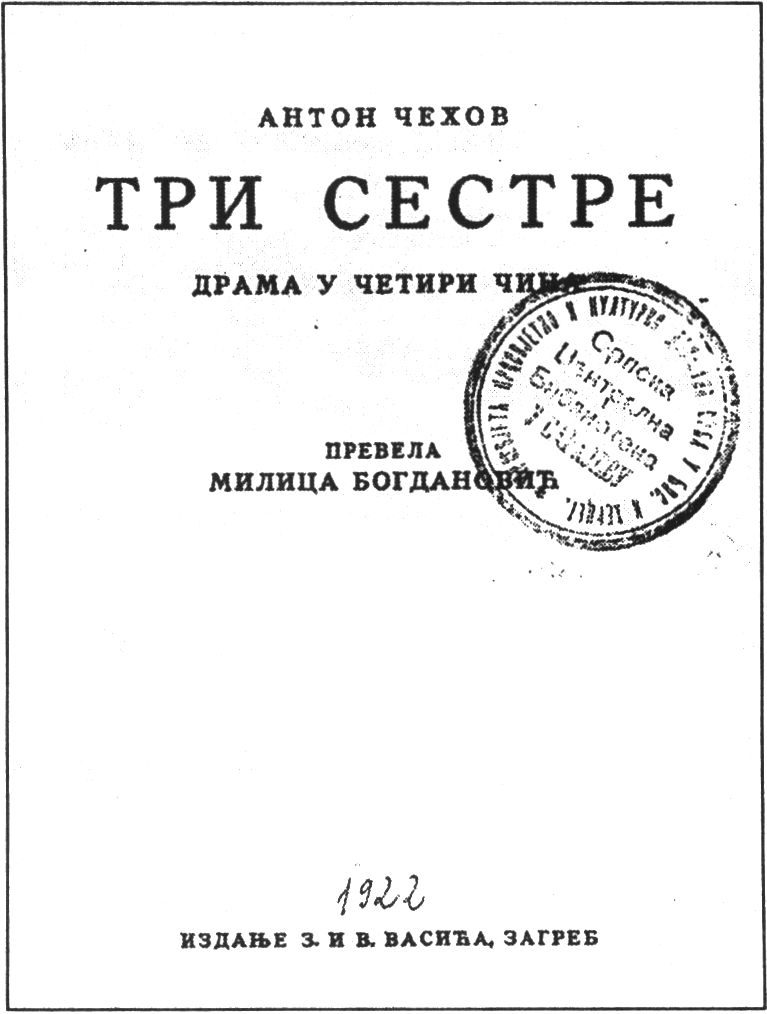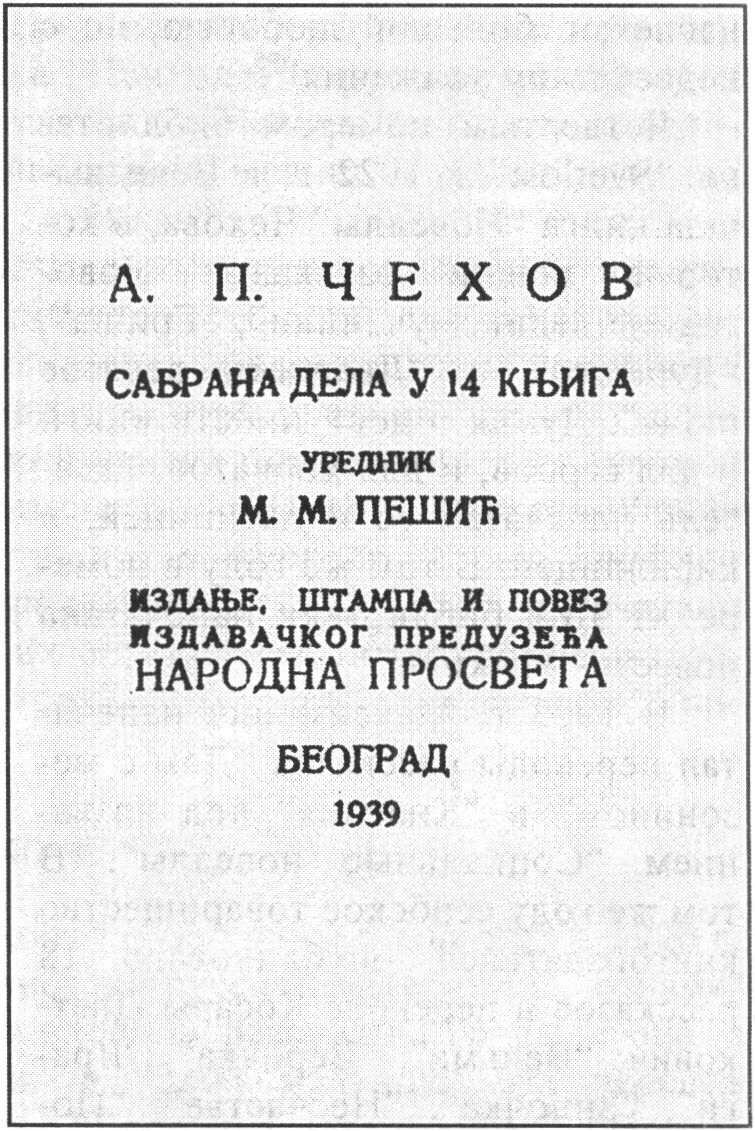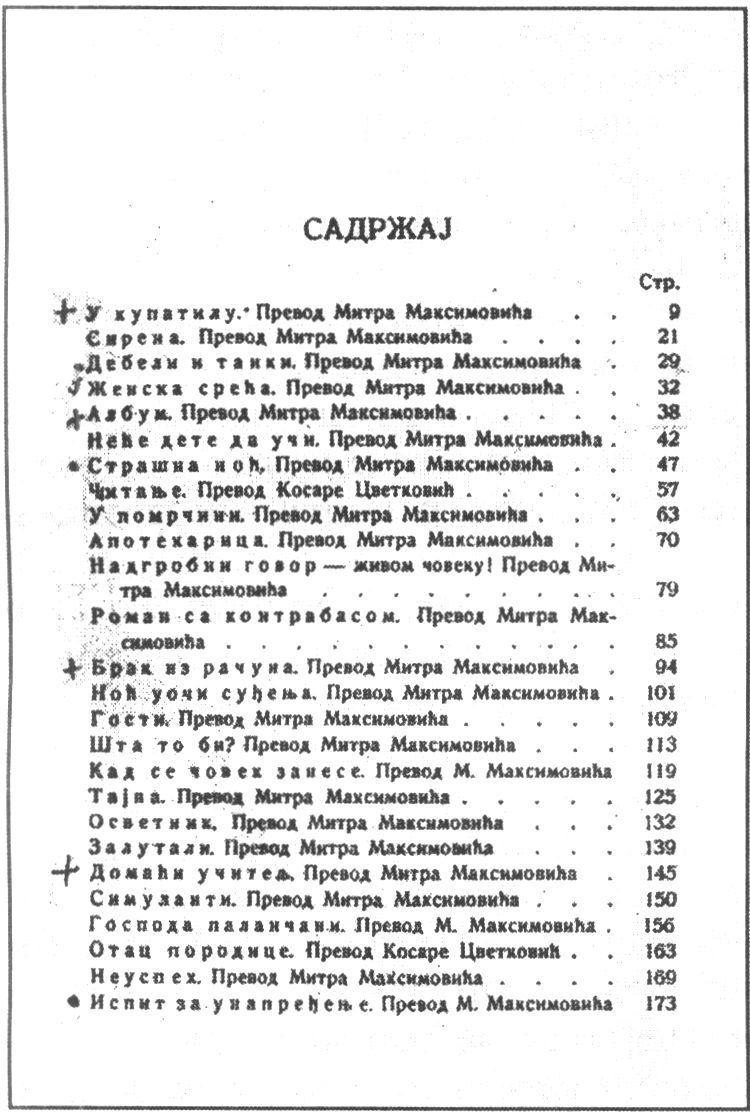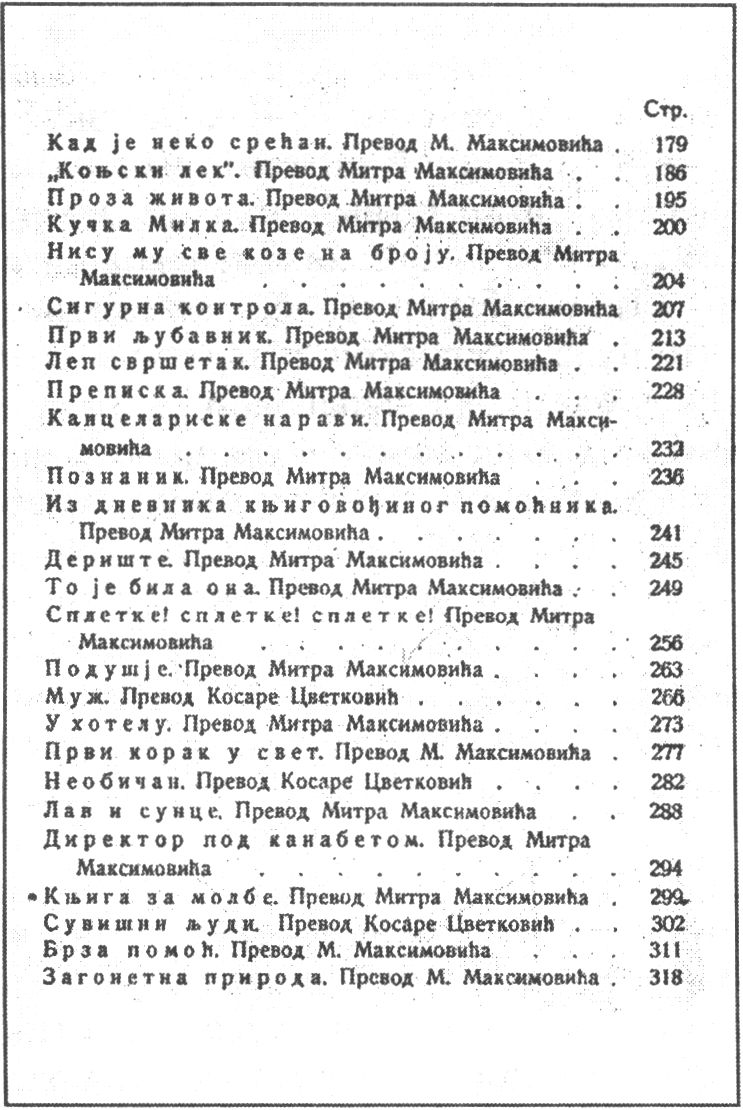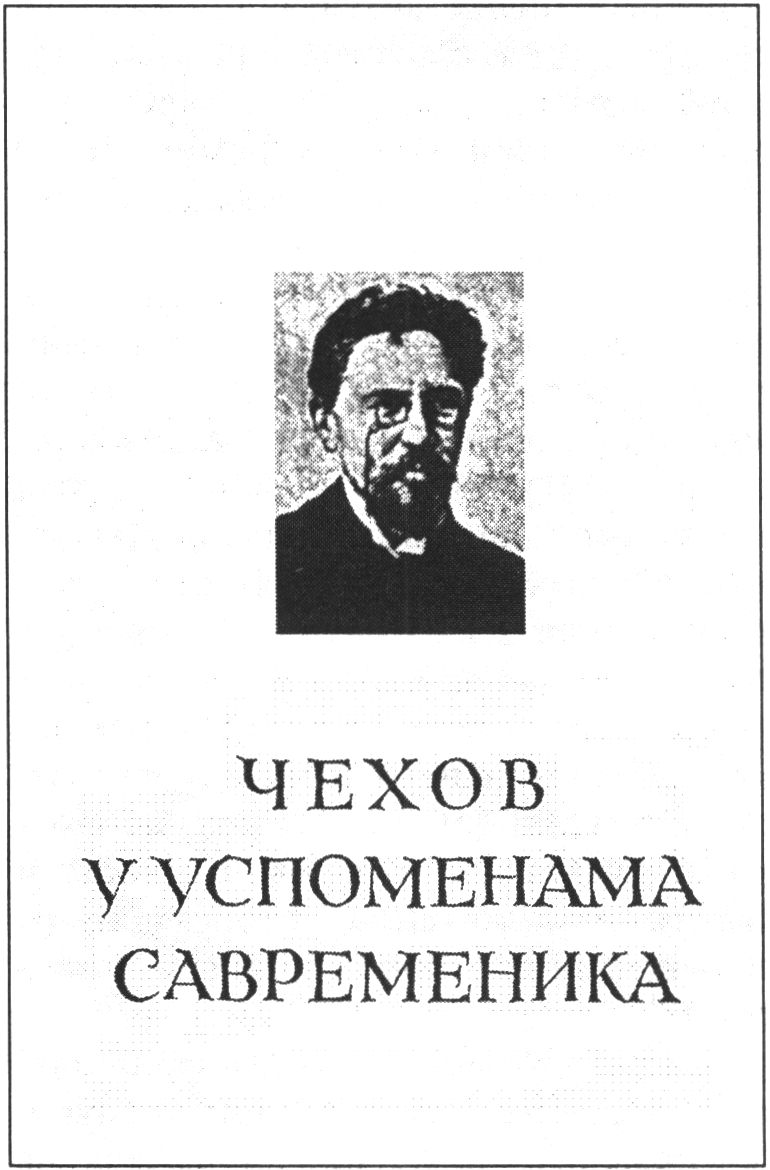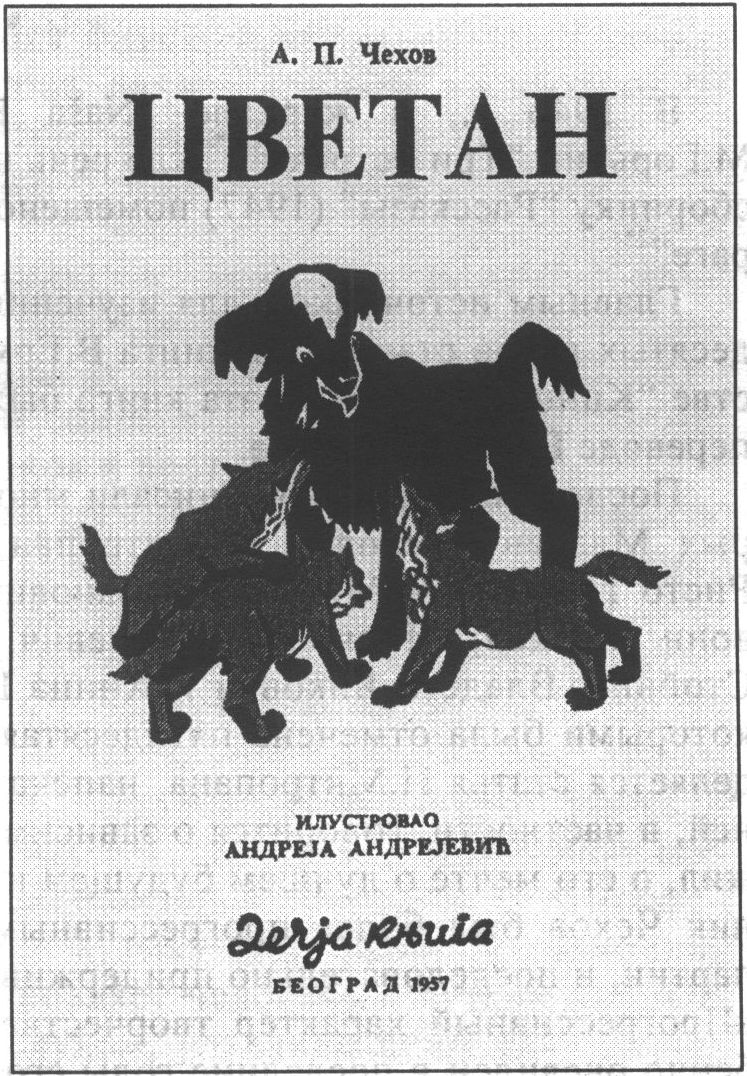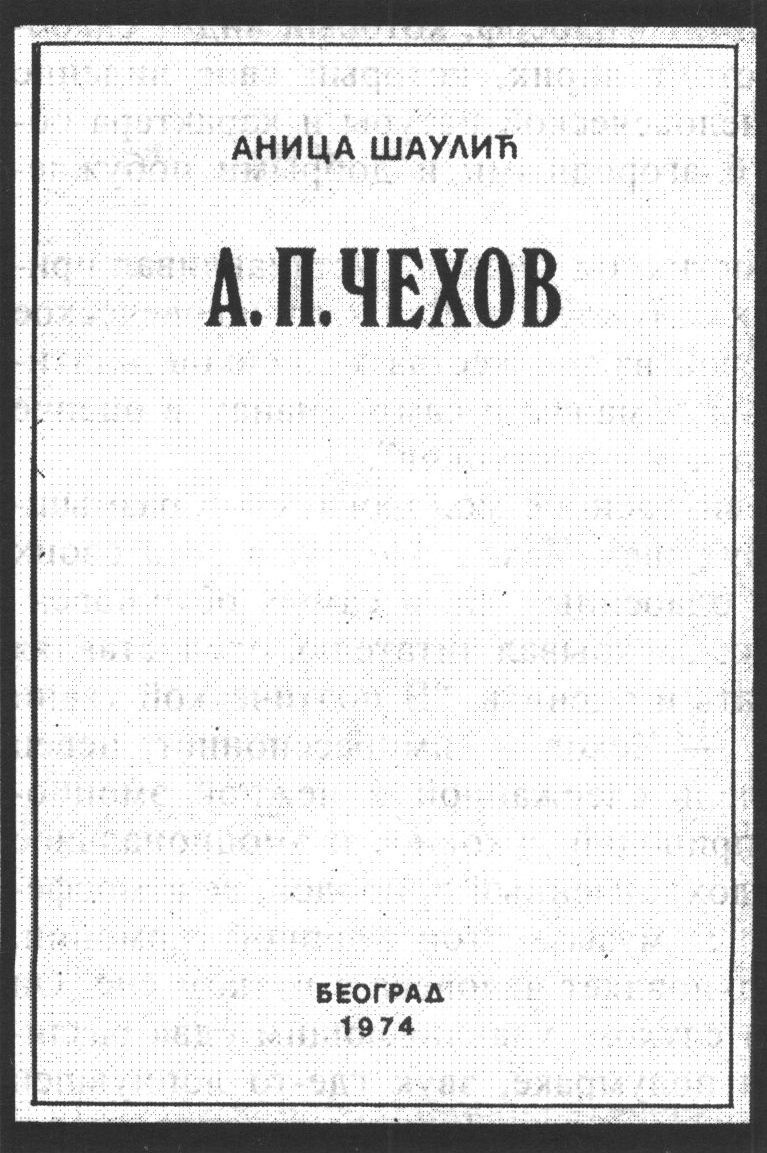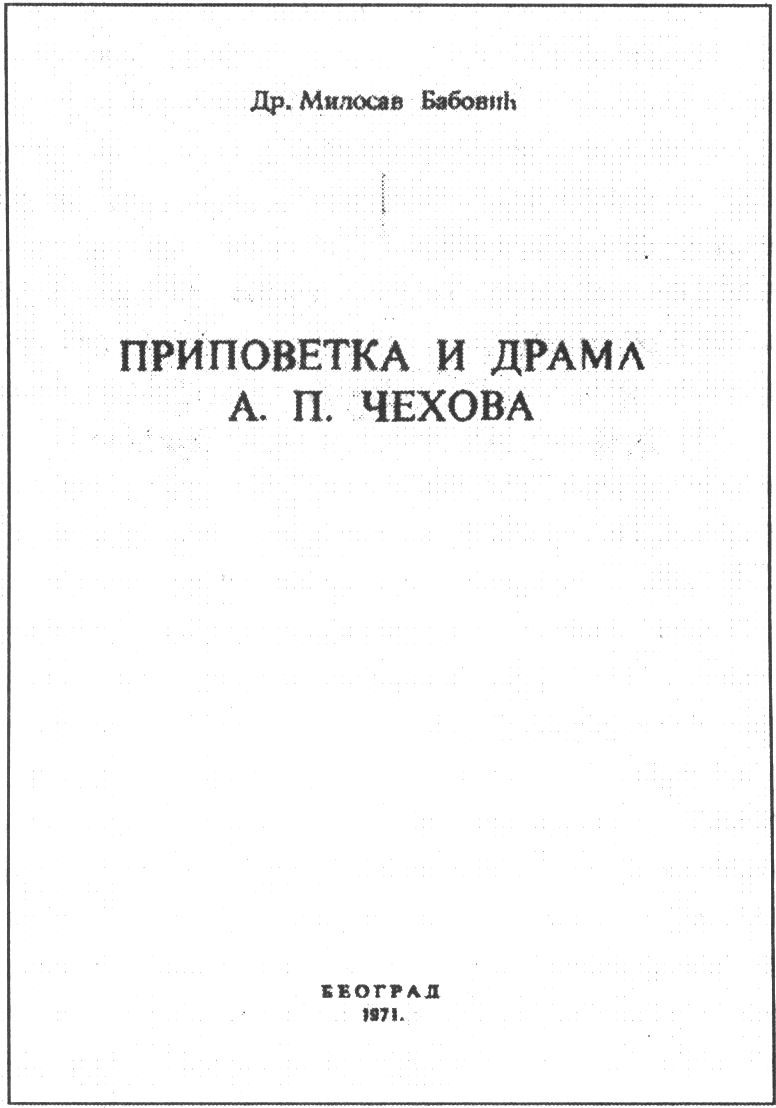Вопрос о появлении в сербской литературе первых произведений Чехова и статей о нем до сих пор специально не исследовался. Между тем литературоведы, которые попытались установить время появления первых переводов, пришли к различным результатам1. Наиболее точным был Александр Погодин, который в 1928 г. в статье «Русские писатели в сербских переводах» писал: «Среди новых писателей огромную популярность приобрел Чехов. Краткость его рассказов делает их весьма подходящими для опубликования в газетах, благодаря чему, видимо, они стали появляться в сербских переводах уже в 1880-е годы. К сожалению, у меня нет возможности подтвердить это мое предположение. Что касается книг и журналов, могу сказать, что уже в 1890 г. в журнале «Javor» появилась повесть «Учитель словесности» и в том же году в Белграде вышел первый небольшой сборник рассказов Чехова»2.
Очевидно, к тому времени А. Погодин еще не закончил работу над «Русско-сербской библиографией», в которой отмечает, что первым переводом Чехова на сербский язык был рассказ «Свирель», напечатанный в 1889 г. в № 30 журнала «Kolo»3.
В России Чехов начал печататься с 1880 г., но широкую известность получил только в конце 1880-х гг. И тогда же его рассказы начали выходить за пределами России.
Просмотр сербских газет и журналов, из которых не все сохранились полностью, показал, что перевод рассказа «Свирель» — не первый. Честь быть первой публикацией Чехова в Сербии выпала на долю рассказа «Беспокойный гость», который был напечатан в новосадской газете «Zastava» 23 июня 1889 г. До конца 1904 г. газеты напечатали в общей сложности 320 переводов чеховских рассказов. Больше других печатали газеты «Dnevni list», «Stara Srbija», «Srbobran» и особенно «Zastava», в которой Чехов был самым популярным зарубежным писателем.
В журналах же Чехов не был таким частым гостем. После «Свирели» журнал «Kolo» в 1890 г. напечатал «Ваньку», а «Javor» — «Учитель словесности». Но уже в конце XIX — начале XX вв. большой интерес к Чехову проявляют журналы «Brankovo kolo», «Zora» и «Zvezda».
В этот период наибольшее число изданий приходится на рассказы «Недоброе дело» (10), «Орден» и «Злой мальчик» (9), «В цирюльне» и «Ванька» (8), «Несчастье» и «Смерть чиновника» (7), «Дома», «На чужбине» и «Событие» (6), «Живая хронология», «Кухарка женится», «Оратор», «Клевета», «Раз в год» и «Пари» (5).
С самого начала наряду с рассказами «В усадьбе», «Лишние люди» и др. переводятся и повести. Часть их вышла несколькими изданиями: «Мужики», «Моя жизнь» (3), «Скучная история» (2) и др.
Многие переводчики рассказов Чехова остались неизвестными. Из известных стоит упомянуть М. Павловича, Й. Максимовича, М. Глишича, М.П. Петкевича, Р. Лешьянина, В. Лукича-Новицу, В. Мирославлевича, Й. Кангргу, К. Цветкович, Ж. Яковлевича, В. Раича, Ж. Илича, Р. Одавича.
Вскоре после первого перевода в печати появилось и первое отдельное издание чеховской прозы. Под названием «Повести» в Белграде в 1890 г. вышла небольшая книга, в которую вошли «Воры», «Неприятность» и «Володя», перепечатанные из газеты «Dnevni list». Имя переводчика не обозначено ни в газете, ни в книге, ни в заметках, которые в связи с этим опубликовали журналы «Bosanska vila» и «Javor»4. Погодин в своей «Библиографии» называет переводчиком В. Мирославлевича, этой же точки зрения придерживается и Ж. Йованович в статье «Чехов в сербской литературе»5. Между тем дарственная надпись на экземпляре книги, который сохранился в личной библиотеке Чехова, говорит сама за себя: «Своему обожателю Антону Чехову. Автору «Хмурых людей» etc., etc. от безгранично оданного М. Павлович<а>, переводителя. Београд, 1 Јануарія 1891»6.
Отдельным изданием в 1896 г. вышла повесть «Бабье царство», а в конце века в Мостаре были напечатаны две книги «Рассказов» в переводе В. Мирославлевича. Самым значительным изданием, между тем, была повесть «Мужики» (1901) в переводе священника Вельки Лукича-Новицы. Об этом можно было судить и по откликам на это издание, которые появились почти во всех газетах и журналах. «Имя Антона Чехова, — говорится в одном из отзывов анонимного критика, — его место среди лучших русских писателей-рассказчиков, его особый стиль и манера описания событий, его стремление при описании истинного положения русского мужика обратить внимание читателя на факторы, способствующие улучшению его положения, — все эти обстоятельства, помимо других достоинств Чехова, наилучшим образом характеризуют книгу и вселяют надежду, что она действительно даст каждому пищу для души. Обращает на себя внимание и тот факт, что положение сербского крестьянина во многом сходно с положением русского мужика»7.
В отзыве на книгу Яша Проданович подчеркивает, что Чехов не мог не унаследовать гуманистических традиций русских беллетристов и по примеру Г. Успенского, Решетникова и Помяловского, заглянув в крестьянские избы, показал жизнь настоящих горемык. «Все это, — пишет критик, — нарисовано несколькими густыми мазками, не связанными в целое, без художественной обработки, без основного события и, как представляется, без глубокого душевного волнения писателя. Ошибка Чехова, как и Мопассана, заключалась в том, что, создавая за короткое время большое число рассказов, он не шлифовал их. Кроме того, они были эклектичными с художественной точки зрения»8. Присоединяясь к русским критикам, которые упрекали Чехова за то, что он одинаково равнодушно рисует и муху и слона, Проданович идет дальше: «Полуживотный образ жизни русского мужика заставляет Чехова чуть ли не сожалеть о крепостном праве и, как и нашего Якшича, о «старом добром времени» господ. И все же, как бы стыдясь предавать проклятию современное положение, он вкладывает в уста Марии слова одобрения в связи с освобождением мужика: «Нет, воля лучшее.
В конце Проданович делает важный вывод: «Читатель, который привык видеть деревню в идеализированном свете, будет немало и неприятно разочарован. И даже самые мрачные картины из «Записок охотника» Тургенева выглядят светлее по сравнению с «Мужиками» Чехова. И не только горе и голод, но и еще более страшное явление — пустота, которую порождает в человеческой душе суровая борьба за хлеб, делает «Мужиков» поэмой о человеческой обездоленности»9.
В 1901 г. в обзоре сербской литературы XIX века Богдан Попович значительное внимание уделил переводной литературе. Он отмечал, что благодаря хорошим переводчикам зарубежные писатели пишут и для нас, тем самым обогащая и нашу литературу. Попович приходит к выводу: первостепенная задача сербской литературы — взять то, чего ей не хватает: «Зарубежная литература сербской сегодня нужнее всего. Зарубежная литература — это то, что сегодня является самым важным для сербской литературы»10.
Нет сомнения, что точка зрения Поповича в значительной мере определялась тем великим идеалом, которым была для сербской переводной литературы русская литература. Почти все наши писатели в то время переводят с русского. Достаточно вспомнить Змая, Л. Костича, М. Глишича, Л. Лазаревича, Й. Веселиновича, С. Матавуля, С. Ранковича, С. Чоровича, В. Илича, А. Шантица, Й. Дучича и П. Кочича.
Имена русских писателей, которые у нас переводились в восьмидесятые и девяностые годы XIX в., свидетельствуют об интенсивном развитии сербской литературы. Среди этих писателей Карамзин, Пушкин и Гоголь. Тургенев был известен и раньше, но и его много переводят. Достоевского начали переводить только в восьмидесятые годы. Романы Гончарова, за исключением «Обыкновенной истории», появляются в конце века. Очень много переводят Толстого. Щедрин и Гаршин переводятся с семидесятых годов, но подлинную известность они приобретают в восьмидесятые-девяностые годы. В середине восьмидесятых годов появляется Короленко, необычайно популярен Потапенко. Бестужев-Марлинский становится известным только в конце XIX — начале XX века, за ним следует Леонид Андреев.
Поражает та скорость, с которой произведения русских писателей приходят к нам; многие из них печатаются в тот же год, что и в России. Это свидетельствует о том, что сербская литература после длительного отставания начала идти в ногу с европейской литературой и включилась в сферу ее влияния11. Сербские переводчики регулярно следят за русской литературой и выбирают из нее лучшие произведения.
Ускоренное развитие сербской литературы, как оригинальной, так и переводной, поначалу не способствовало популярности Чехова. Встретившись с русской литературой, охватывавшей целый век, наша литература брала из нее в первую очередь произведения уже признанных писателей. Большое количество таких произведений ограничивало возможность появления новых имен, поэтому они доходили до нас медленно и в основном через Запад. Некоторые обстоятельства между тем благоприятствовали популярности Чехова.
В восьмидесятые годы главные силы сербской литературы были сосредоточены на жанре рассказа. Это, без сомнения, объясняет то, что наша литература рано открыла Чехова и что с его произведениями она познакомилась до появления первых переводов на сербско-хорватский язык. Именно с этой точки зрения значительно то литературное событие, которое весной 1889 г. взбудоражило белградские газеты.
В апреле этого года сатирическая газета «Bic» в одном из номеров напечатала рассказ Бранислава Нушича (псевд. Алкивиада Нуши) «Yedna vedra noć» («Ясная ночь»). Сразу же вслед за этим газеты обвинили Нушича в том, что он обокрал русского писателя Антона Чехова12. Газета «Bic» взяла под защиту своего сотрудника, утверждая, что его рассказ не имеет никакого отношения к Чехову и что в одном из очередных номеров будет напечатан ставший предметом обсуждения рассказ Чехова «Разговор человека с собакой»13. Газета «Bič» не сдержала слова, а Нушич откликнулся только в 1932 году, дав к рассказу «Ясная ночь» примечание: «У Чехова есть один рассказ, где пьяница разговаривает с собакой. Между тем поводом для моего рассказа послужил аналогичный случай, происшедший с известным нашим писателем из Воеводины»14.
Бросающееся в глаза сходство двух рассказов для нас не так важно, как для современников Нушича. Важнее тот факт, что Нушич очень рано познакомился с произведениями Чехова и в них нашел то, к чему и сам стремился: истинный гуманизм и высокое мастерство. Эта вторая черта будет в особенности присуща творчеству Нушича в целом, и это самое ценное достижение, которое Алкивиад Нуша вынес из своей первой встречи с произведениями Антоши Чехонте15.
Этим, однако, значение данного события не исчерпывается. Рассказ Нушича появился почти за три месяца до первого перевода Чехова в Сербии. В то время русский писатель был совершенно неизвестен широкой читательской публике, чего нельзя сказать о наших литераторах. Событие, связанное с рассказом Нушича, показывает, что они читали произведения русских писателей в оригинале и знали о них намного больше того, что могли найти в наших газетах и журналах восьмидесятых годов.
Как уже отмечалось, Чехов вошел в сербскую литературу рассказами «Беспокойный гость» и «Свирель». Первый, откровенно тенденциозный, соответствовал нашим традиционным представлениям о задачах литературы; второй, из цикла так называемых чеховских «Записок охотника», шел по пути, проложенному в сербской литературе прозой Тургенева. Исключительный прием встретили юмористическо-сатирические рассказы, особенно любимые в Воеводине, где литература этого жанра имела более богатую традицию. Подготовленная предшествующим этапом развития, сербская литература так же хорошо приняла рассказы о детях и для детей.
Наконец, основное направление сербской литературы проявило большой интерес к рассказам Чехова о деревне. И это, разумеется, было не случайно. Достигнув своего наивысшего расцвета в творчестве Глишича, Лазаревича и Веселиновича, сербский рассказ о деревне находился в состоянии кризиса, поскольку, исчерпав себя, стал «коммерческим литературным суррогатом»16. Идиллическая картина сербской деревни не исчезнет и после того, как Ранкович нарисует ее мрачными красками. Напротив, двойственное отношение сербской литературы к деревне перейдет и в XX век17. Деревенские рассказы Григоровича, например, вообще не были у нас переведены. А Г. Успенский переводится только в первом десятилетии XX века. Нужно было появиться Чехову, чтобы, наконец, и у нас поняли, что мужик погряз в бедности и невежестве. Мрачная картина русской деревни красноречиво говорила о необходимости перемен. Поэтому «Мужики» у нас были встречены с живым интересом, и именно поэтому Лукич-Новица призвал сербских патриотов хорошо изучить это произведение. То же самое сделал и П. Кралевич, который в отзыве на повести Чехова восстал против идеализации крестьянина: «Описание этих несчастных мужиков (которые, кстати сказать, очень похожи на боснийских крестьян, доведенных австрийским правлением до скотского состояния) произвело намного более сильное и глубокое впечатление, чем множество рассказов, в каждой строке которых сквозит идеализация. Идеализация крестьянина — это грех, который нельзя простить, потому что эта ложная картина должна будет когда-нибудь разрушиться, и тогда действительность представится нам настолько сильной и страшной, что лекарство, которое помогало раньше, станет непригодным»18.
Чехов, между тем, привлекателен и благодаря высокой художественности своих произведений. За пять лет существования мостарский журнал «Zora», который был одним из немногих журналов с явно выраженной эстетической концепцией, напечатал пять произведений Чехова (три Тургенева, два Мопассана и одно Толстого), статью о Чехове А.Ф. фон Энгельгардта (см. о ней ниже) и восемь коротких заметок о Чехове.
Работая над его рассказами, наши переводчики часто были вынуждены искать новые средства для передачи особенностей оригинала, и лучшие из них достигли в этом деле значительных успехов.
В «Заметках об интеллектуальной литературе» Исидора Секулич высказала мнение, что большое число самых настойчивых и способных читателей «автоматически» становится писателями19. Если это так, а думается, что так оно и есть, тогда самые талантливые читатели начинают писать под влиянием того писателя, которого они больше всего читают. В конце XIX и начале XX вв. Чехова усиленно переводят, о нем много пишут, его считают образцом для себя сербские писатели. Достаточно ли этого, чтобы говорить о влиянии?
У истории сербской литературы еще нет ответа на этот вопрос. В обзоре, посвященном русско-югославским литературным связям, Р. Лалич подчеркивает, что Чехов служил примером для сербских писателей20. Н.И. Кравцов пишет и о его влиянии на отдельных писателей21, но более обстоятельных исследований об этом нет.
Впервые имя Чехова связывается с сербским писателем в 1889 году, когда Алкивиада Нушу уличают в плагиате. Плагиат это или нет, но влияние Чехова здесь, несомненно, было. Между тем, время предало забвению этот случай, и в критической литературе о нем сегодня не говорится. Не упоминает о нем даже и Д. Владкович, который свою докторскую диссертацию на тему «Молодой Нушич» посвятил именно этому периоду творческой деятельности писателя22.
И все же в критической литературе о Нушиче несколько раз встречается имя Чехова. В первый раз — в 1912 г., когда в рецензии на «Рассказы Брани-слава Нушича» А.Г. Матош отметил: «Напоминая композицией Твена, деталями Нушич, как и Стефан Сремац, напоминает русских писателей (Гоголя, Чехова); он ищет комическое в параллелизме деталей и целого»23. Один из лучших знатоков произведений Нушича в России А.И. Хватов также считает, что наш писатель знал и любил Чехова: «Нушича всегда волновала судьба маленького человека, задавленного обстоятельствами жизни, неспособного к какому-либо протесту, изуродованного морально и физически. Не случайно некоторые исследователи видят нечто общее в юмористических рассказах Нушича и Чехова. Действительно, если сравнить рассказы Антона Павловича Чехова «Унтер Пришибеев» и Бранислава Нушича «Покойный Серафим Попович», то можно увидеть много общего в обрисовке героев, в их отношении к действительности, порождающей людей, подобных унтеру Пришибееву и Серафиму Поповичу. Герой Нушича, выйдя на пенсию, заводит у себя в доме канцелярию и организует домашний быт на бюрократический лад с входящими и исходящими бумагами, книгами и т. д.»24.
Влияние Чехова на автора рассказов и основателя «Малой библиотеки» Йована Протича отмечено еще в 1902 г. В отзыве о первом сборнике «Юмористикона» автор рассказов и критик П. Талетов пишет: «Г. Йован Протич написал хорошую юмореску. Он еще находится под влиянием Гоголя и Чехова. Поэтому несамостоятелен. Он себя еще не нашел»25.
О влиянии Чехова на Светозара Чоровича впервые говорится в газете «Srpski glas» в 1904 г. «Мы можем прямо сказать, — подчеркивается в некрологе Чехова, — что и некоторые молодые сербские рассказчики, в особенности, Светозар Чорович, пошли в литературе по его стопам, что все-таки лучше, чем болезненная романтика югозападных декадентов и импрессионистов. Насколько заметный след оставили русские реалисты восьмидесятых годов в сербской литературе, настолько же глубокий след оставит Чехов своей ярко выраженной индивидуальностью»26.
Описывая русско-югославские литературные связи, Н.И. Кравцов подчеркивает, что на сербский рассказ оказывали влияние стиль рассказов Чехова и особенности композиции его произведений. «На таких писателей, как Сима Матавуль, Й. Протич, Ч. Попович, больше воздействовали чеховские юмористические рассказы, на других, как Св. Чорович и Б. Нушич, — сатирические. Например, следы чеховской манеры есть в сатирических рассказах Св. Чоровича «Путешествие судебного исполнителя», «Поп Тандркало» и Бранислава Нушича «Министерский поросёнок», «Надгробное слово», где осмеяно низкопоклонство перед начальством и толстосумами»27.
Вопроса о влиянии Чехова мимоходом касается и Мила Стойнич в статье «Сербский реализм и русская литература». Подчеркивая, что сербские писатели находили сильный импульс в критической позиции русских реалистов по отношению к действительности, М. Стойнич пишет: «Отсюда значительные достижения в области сатиры (Радое Домьанович, Стеван Сремац) и юмора, порой соединенного с грустной иронией (Лаза Лазаревич, Светолик Ранкович), или язвительного сарказма (Милован Глишич, Сима Матавуль), где слышатся гоголевские и чеховские интонации»28. Указывая на различие между Лазаревичем и Гончаровым, М. Стойнич добавляет: «Лазаревичу ближе по духу чеховская иронически грустная кантилена. Связь между прозой Лазаревича и Чехова, невидимая в конкретных темах и мотивах, скрыта в общности атмосферы их произведений (которую, видимо, отчасти можно объяснить их профессией врача)»29.
В 1912 г. Скерлич выдвинул тезис, будто наш писатель Матавуль «целиком выходит из романской культуры»30. Но сам Матавуль оставил запись о том, как он с помощью Павла Ровинского изучал русский язык и при этом овладевал русской литературой. Вспоминая 1884 год, когда его попросили срочно написать заметку для журнала «Crnogorka», Матавуль отметил: «На мое счастье, влияние русской беллетристики на меня было сильным, хотя нужно было достаточно времени, чтобы новый вкус сменил предшествующий, созданный и вскормленный прекрасной итальянской литературой»31.
Скерлич утверждал, что Ранкович «весь вышел из русской школы» и что он больше, чем кто бы то ни было из сербских писателей, «может быть назван русским учеником»32. В круг любимых писателей Ранковича Надо Маринкович позднее включила Гоголя, Тургенева и Чехова, а Милослав Бабович — Лермонтова и Гончарова33.
В исследовании о творчестве Иво Чипико Бранко Лазаревич отметил, что этот писатель часто пользуется такой композиционной формой: вначале актуальное событие, потом возвращение к первоначальной истории главных действующих лиц и, наконец, продолжение и завершение истории, о которой говорилось вначале. Таков он в рассказах «Braća» («Братья»), «Sukob» («Столкновение»), «Na moru» («На море»), «Na povratku s rada» («По возвращении с работы») и т. д. Эта структура, характерная для Мопассана или Чехова, очень часто встречается и у Чипико34. Лазаревич лишь упоминает Чехова, тогда как Кравцов пишет и о влиянии: «В рассказах И. Чипико чеховское влияние отразилось иначе: в них мы видим влияние «Мужиков» и «В овраге» Чехова, то есть тех произведений, где показано развитие капитализма в деревне»35.
Скерлич упомянул Чехова только один раз, когда писал о «Бедных людях» М. Будисавлевича. При этом он отметил, что название этой книги напоминает ему «Бедных людей» Достоевского и «Хмурых людей» Чехова36.
Чеда Попович и Миле Павлович подчеркнуто выразили свою симпатию к Чехову. Они выпустили в 1890 г. по книжке рассказов: название книги Поповича «Šarene priče» («Пестрые рассказы»), а Павловича — «U suton» («В сумерках»).
Привлекает внимание и тот факт, что писатель Велько Миличевич перевел и в мостарском журнале «Prijegled» напечатал статью Брандеса, в которой дается характеристика творчества Чехова.
Все это говорит о необходимости основательного изучения влияния Чехова на сербскую прозу в конце XIX — начале XX вв.
* * *
Первое упоминание о Чехове в сербской периодике появилось только в 1888 г. в журнале «Stražilovo». В заметке о переводе народной песни «Омер и Мерийма», который опубликовала немецкая газета «Magazin für die Literatur», хроникер журнала «Stražilovo» пишет: «В той же газете в номере 17 помещена статья о сегодняшней русской литературе, в которой говорится о молодых русских писателях». Чехов при этом называется «самым талантливым и самым оригинальным представителем нынешних беллетристов»37. Заметка не подписана, но по всему видно, что написал ее Павле Адамов Маркович, который в те годы в журнале «Stražilovo» напечатал множество аналогичных заметок и статей38.
В начале 1889 г. имя Чехова появляется в газете «Videlo», а несколько позднее — и в журнале «Kolo» в большом обзоре Ляпуновой «Современная русская художественная литература» (за подписью Рускини, т. е. русская). Сделав краткий обзор современной русской литературы, Ляпунова переходит к характеристике творчества Чехова. «Чехов особенно любит форму маленьких рассказов, и трудно у кого бы то ни было другого найти так много миниатюр, как у него. Объекты, о которых он пишет, на удивление разнообразны. Чего здесь только нет! Одна за другой мелькают перед читателем небольшие картинки, словно в калейдоскопе. Многие современники возлагают на Чехова большие надежды, считая, что его талант оригинален, силен и многообещающ»39.
Самый большой недостаток Чехова Ляпунова видит в том, что он «описывает анекдотические ситуации», а наибольшее достоинство — в показе сиюминутного душевного состояния и в «описаниях природы, которые представляют собой украшение его сочинений».
В последующие годы значительных статей нет. Только в 1894 г. белградская газета «Red» печатает ряд статей, которые посылает из Петербурга Воислав Росич. Исходя из положения о том, что литература должна отвечать потребностям жизни, Росич пишет: «Короленко остался верен себе. <...> Антон Чехов исписывается»40. В той же статье, вероятно, впервые у нас говорится и о творчестве «женщин-писательниц» в русской литературе; при этом высказывается суждение, что зачастую эти женщины талантом и темами превосходят Чехова, Потапенко и других41.
В статье о «Палате № 6» Росич старается показать, насколько современная русская литература «по идеям и по мастерству» отстает от литературы шестидесятых годов. Для большей убедительности критик сравнивает рассказ Чехова с романом Достоевского «Преступление и наказание» и делает вывод: «Итак, с какой бы стороны вы ни подходили, все равно придете к тому же самому выводу: новая русская литература — слабая, неумелая копия русской литературы шестидесятых-семидесятых годов»42.
Статью в газете «Videlo» Росич целиком посвятил Чехову. Здесь он высказал и новые критические замечания: «Рассказы Чехова при всей их фельетонности свидетельствуют о великом таланте, хотя многие из них лишены идеи: они не осмыслены и содержат известную дозу безразличия художника. Наряду с занятными, очень живыми чертами Чехов рисует мельчайшие подробности жизни только ради красного словца или чтобы вызвать улыбку на устах читателя»43. Подчеркивая, что Чехов избежал толстовства, но зато впал в пантеизм, Росич приходит к выводу, что у поколения Чехова нет четко выраженных практических идеалов: «Оно смотрит на действительность совершенно равнодушно, и именно это равнодушие обедняет тот богатый талант, которым наделен Чехов и другие способные беллетристы»44.
В этом же 1894 году у нас появился первый серьезный очерк о Чехове. Это — вдохновенно написанное эссе Х. Менкеса, которое в переводе Й. Грчича, напечатал журнал «Stražilovo». Менкес пытается выделить некоторые особенности художественного мастерства Чехова. Чехов — великий мастер психологической новеллы и настолько велик как поэт, что вообще не снисходит до «прозы». Этим он ближе всего к Тургеневу, только светлее его, и свои маленькие трагедии обрамляет сдержанным, тонким юмором. Он может, не прибегая к сложным средствам изображения, вызвать у читателя определенное состояние, в его рассказах фон крайне беден, но зато образы, начертанные несколькими штрихами, производят более сильное впечатление, чем созданные яркими красками. «То, что он до сих пор написал, — говорит в конце эссе Менкес, — делает Чехова одним из самых счастливых и самых бесспорных талантов европейской литературы»45.
В последующие годы серьезные статьи о Чехове не появлялись. Только в 1898 г. мостарский журнал «Zora» печатает статью Алексиса Фрейхерра фон Энгельгардта «Антон Чехов — русский Мопассан» в переводе Й. Протича. Для петербургского корреспондента немецкого журнала «Das litterarische Echo» Чехов — самый талантливый среди выдающихся русских писателей, таких, как Потапенко, Короленко, Горький. «Виртуоз краткого выразительного стиля, самостоятельный художник в построении произведений, в композиции, Чехов создает такие непосредственные и полные жизни образы, что в большинстве своем они более доступны нашему мысленному взору и производят на нас более цельное впечатление, чем описанные до мельчайших подробностей персонажи толстых романов других авторов»46.
Сравнивая Чехова и Мопассана, Энгельгардт у обоих находит одинаковую способность к созданию характеров и одинаковое стремление к выражению истины. Откровенный, почти отчаянный пессимизм в последних рассказах Чехова критик объясняет внутренними условиями жизни в России, выражая при этом надежду, что Чехов все-таки преодолеет этот пессимизм.
Статья Энгельгардта напечатана и в газете «Srpski glas» в 1900 году47.
Смерть Чехова была воспринята у нас как тяжелая утрата не только для русской, но и для сербской литературы. Авторы некрологов, напечатанных в июле 1904 г. почти во всех газетах и журналах, как будто состязались в поиске искреннего и теплого слова прощания с любимым писателем. «Умер Антон Чехов, — писала газета «Zastava», — один из самых больших, точнее, самый большой русский писатель, человек, чьи повести и рассказы не только в России, но и во всем мире пленили сердца читателей и вызывали улыбку на их устах или слезы на глазах. Весть о его смерти воспринята тяжелее, чем весть о потерях в войне на Дальнем Востоке: военные потери могут быть возмещены, потеря Антона Чехова невосполнима»48.
Некрологи пополнили наше представление о жизненном и творческом пути русского писателя. Большинство авторов подчеркивает, что Чехов у нас много переводился и широко известен. Отдавая должное Чехову, периодические издания «Brankovo kolo», «Strankovo kolo», «Srpski glas» и «Prijegled» ставят его в пример сербским писателям. Его повести и рассказы рекомендует читателям и П. Кралевич в газете «Trgovinski glasnik». Подчеркнув, что самых больших успехов Чехов достиг в короткой новелле, где он проявляет себя как «мастер, какие рождаются раз в сто лет», критик выражает сожаление: «Приходится только удивляться, что наши утренние газеты не перепечатывают сразу первоклассную литературу, а заполняют колонки душещипательными романами со страшными названиями и еще более страшными героями. В этом причина того, что произведения наших лучших писателей расходятся лишь в нескольких сотнях экземпляров, поскольку у читательской публики совершенно испорченный вкус»49.
На этом фоне выделялся один некролог. В нем не говорилось о непреходящей ценности произведений Чехова, не говорилось и о тяжелой утрате, которую понесла русская и мировая литература. Наоборот, в нем была высказана необычно резкая для такого случая критика русского писателя. Это был некролог в издании «Letopis Matice Srpske», принадлежащий перу писателя Симы Матавуля. Автор резко возражал против слишком высоких, по его мнению, оценок Чехова в критике: «Несомненно, это талант «великий», или только «значительный», или просто «талант», кто как оценит и решит, но только не «гений», как его называют в некоторых сербских некрологах»50.
Популярность Чехова Матавуль объясняет тем, что его рассказы «легко читаются и привлекательны по форме» и что каждый из них может быть опубликован в газете. И как бы испугавшись этой небольшой похвалы русскому писателю, Матавуль делает ряд критических замечаний: «Но Чехов остался в набросках. В этом его сила и его слабость». «Наброски Чехова исключительно отшлифованы, но почти ни один из них не получает художественного завершения». «Юмор не является сильной стороной чеховского таланта. Его юмор тяжел и до некоторой степени груб». «Чехов — наблюдатель и вдумчивый врач и уж потом художник...»51 и т. п.
В это время приходят и из России многочисленные статьи о Чехове. Среди них высказывания Толстого, воспоминания А. Суворина, М. Горького, В. Дорошевича52. С Запада пришли эссе Альфреда Бергера и характеристика, которую дал творчеству Чехова Георг Брандес (перевод В. Миличевича). Бергер считает Чехова типичным русским писателем, великим психологом, непревзойденным мастером, умеющим «вызывать сострадание»53. По мнению Брандеса, положение в русском обществе Чехов объясняет не политическим устройством, а «типом и состоянием души». Напомнив, что в чеховских произведениях счастливы только «дураки», выдающийся датский критик приходит к выводу, что Чехов все же верит в прогресс: «Все его духовно развитые персонажи, чья жизнь не состоялась, утешают себя мыслью, что ничто не проходит бесследно и что любой застой — шаг к лучшему будущему. Между тем возможность изобразить это светлое время Чехов предоставил социалистическим писателям, а сам показал Россию такой, какой он видел ее в действительности»54.
Критическая литература о Чехове в период с 1888 г. по 1904 г. изобилует разнообразными статьями; некоторые из них сыграли весьма значительную роль в популяризации произведений Чехова в Сербии.
На основании всего, что напечатано о Чехове в Сербии, можно было бы сделать вывод, что сербская литература была связана с русской либерально-народнической критикой и что свое суждение о событиях в русской литературе она формировала главным образом под ее влиянием. Работы русской символистской критики (Д. Мережковского, А. Волынского, Ю. Айхенвальда) появились несколько позднее и до Сербии тогда еще не дошли.
1904—1914 гг.
Большое количество переводов, опубликованных в периодической печати, свидетельствует об усилившемся интересе читателей к Чехову после его смерти. В то время как с 1889 до 1904 г. в сербских газетах появилось в общей сложности 294 перевода рассказов Чехова, с 1905 по 1915 г. их напечатано 498. В первый период тон задавала новосадская газета «Zastava», напечатавшая 70 переводов, а во второй — эту честь разделили газеты «Samouprava» (45 переводов), «Srpska riječ» (41), «Zastava» (30), «Dnevni list» (28) и «Politika» (27). Почти нет газеты, которая бы не проявляла повышенного интереса к Чехову в течение ряда лет, печатая его рассказы больше, чем других русских писателей.
Из рассказов Чехова больше всего в этот период переводили «Смерть чиновника» и «Без заглавия», которые на страницах наших газет появились соответственно 10 и 9 раз; «Анюта», «Радость» и «Живая хронология» напечатаны по 6 раз; «Аптекарша», «Рассказ госпожи NN», «Раз в год», «Клевета», «Месть» и «Студент» — по 5; «Дочь Альбиона», «Оратор», «Произведение искусства», «Беззаконие», «Дамы», «Толстый и тонкий», «Загадочная натура», «Хамелеон», «В море», «Филантроп», «После театра», «Неосторожность», «На чужбине», «Пари» и «Маска» — по 4 раза и т. д.
Наряду с этим публикуются более крупные рассказы и повести. Например, газета «Politika» публикует повесть «Бабье царство» (1906), «Narod» — «Дуэль» (1906), «Srpska riječ» — «Черный монах» (1908) и «Дама с собачкой» (1908), «Odjek» — «Человек в футляре» (1910), «Вогас» — «Жена» (1909), «Novo vřeme» — «Ионыч» (1910), «Srpska zastava» — «Рассказ неизвестного человека» (1912) и т. д.
Авторы многих переводов, появившихся в газетах, остались неизвестными. Из известных переводчиков следует выделить М.О. Глушчевича (42 перевода), Зорку Велимирович (27) и М. Павловича (17). По несколько рассказов перевели Й. Максимович, С. Петрович, Т. Джорджевич, Й. Угричич, Р. Лешьянин, Станка Глишич, Даринка Протич, Й. Кангрга.
Журналы напечатали в общей сложности 39 рассказов и повестей. Больше всего их было опубликовано в журнале «Srpski književni glasnik» — 8. За ним следуют журналы «Delo» и «Domačica» — по 6, «Bosanska vila» — 4, «Brankovo kolo» и «Nova iskra» — по 3. Авторы почти всех этих переводов известны. Это В. Лукич, М.О. Глушчевич, Й. Максимович, Л. Джорджевич, Р. Одавич, Зорка Велимирович, С. Глишич, Д. Протич и др.
Видимо, из-за того, что Чехов постоянно присутствовал в периодической печати, издатели неохотно печатали его книги. В этот период Чехов только один раз вышел отдельным изданием. Это сборник «Рассказы», напечатанный в 1914 г. в переводе Й. Максимовича (изд. С. Цвияновича). В книгу, сделанную с намерением как можно лучше и шире представить прозаические произведения Чехова, вошли рассказы и повести «Злоумышленник», «Попрыгунья», «Ионыч», «Унтер Пришибеев», «Душечка», «Спать хочется», «Святой ночью», «Дама с собачкой», «Мужики», «Налим», «Человек в футляре», «Беда», «Страх», «Детвора», «Студент», «Рассказ неизвестного человека» и «Ванька». Сборник встретил единодушное признание критики. В подробной рецензии Васа Стаич горячо рекомендует эту, как он говорит, золотую книгу: «Сербская литература без хорошей книги рассказов Антона Чехова была значительно беднее, кроме того, она была несправедлива и по отношению к великой литературе дорогих нам братьев. Сейчас частично возвращен долг русским, возвращен он и сербским читателям этой хорошей книги. Сейчас эту книгу нужно читать, нужно учиться чувствовать так, как чувствовала эта чистая, добрая и великая душа, чтобы быть святыми, как этот писатель, хорошо относиться к жизни, к своим братьям»55.
Первое десятилетие XX в. принесло сербской литературе тяжелые потери. Один за другим скончались Й. Илич, Л. Недич, Й. Змай (Йованович), Й. Веселинович, С. Сремац, М. Митрович, М. Глишич, С. Матавуль, Р. Доманович и Л. Костич. Продолжали работать Й. Дучич, М. Ракич, Б. Нушич, Б. Станкович, И. Чипико, П. Кочич. Вступают на литературное поприще В. Миличевич, В. Петрович, С. Пандурович, М. Ускокович, Исидора Секулич и др.
Период до Первой мировой войны проходит под знаком поэзии. В прозе писатели отходят от изображения деревни и все больше пишут о городской жизни. В это время значительно большее внимание они уделяют внутренним переживаниям героев и психологической мотивировке их поступков56. Некоторые критики считают, что сербская литература в это время уже выходит за рамки чистого реализма.
Что касается зарубежных литератур, то наряду с немецкой и французской в Сербии 1910-х гг. велик интерес и к русской литературе. «В последнее время, — пишет Скерлич, — обращает на себя внимание тот факт, что интерес сербской читательской публики опять возвращается к русским писателям, особенно к Толстому, Тургеневу и Достоевскому, которых вновь и много переводят и все больше читают. В отдельных литературных произведениях, особенно в жанре социальной драмы, заметно влияние русских писателей. Но все же это русское влияние на сербскую литературу не настолько всеобще и не настолько сильно, как это было в семидесятые годы»57.
В одной из своих рецензий 1912 г. Милош Московлевич подчеркивает, что знания сербов о русской литературе весьма бедны и ошибочны. «Причину этого, — пишет он в 1912 г., — надо искать в том, что в последние несколько десятилетий мы находимся под абсолютным немецким влиянием, а с Россией порвали почти все связи. Все наши знания об одних и других мы получаем из немецких источников, в большинстве случаев из газет, и никак не хотим увидеть того, что все написанное там тенденциозно»58.
Выступая за новую сербскую литературу, Сима Пандурович между тем протестует против сильного русского влияния: «Наши писатели все еще находятся под непосредственным влиянием русской утилитарной школы семидесятых годов, под знаком «реализма» и описания «истории маленьких людей»; они абсолютно устарели, не находя способа отойти и по форме, и по содержанию от своих старых произведений. Сегодняшние наши авторы, как кажется, не осознают, что писать об обычной жизни, обычных людях и писать обычно не одно и то же»59.
Рассматривая этот вопрос с дистанции в полвека, Р. Лалич подчеркивает, что включение югославских народов в общеевропейскую культурную жизнь не шло за счет связей с Россией: «Русско-югославские литературные и культурные связи не только не ослабели, а, напротив, стали еще более крепкими»60.
И действительно, если судить по переводам и критическим статьям, русская литература по-прежнему занимает центральное место в сербской переводной литературе, а сербские писатели все так же живо следят за ее достижениями. Многие к тому же и переводят с русского, например, М. Павлович, В. Раич, Й. Дучич, П. Кочич, М. Яковлевич, М. Янкович, И. Секулич, В. Петрович. Между тем представление о русской литературе значительно изменяется. Среди переводов нет больше Карамзина и Бестужева-Марлинского, редко переводятся Пушкин и Гоголь, Тургенев представлен в основном стихами в прозе, а из крупных произведений — романами «Накануне» и «Рудин», а также «Записками охотника». Достоевский представлен повестями и романами: «Братья Карамазовы», «Преступление и наказание», а Толстой — рассказами для народа, романами «Анна Каренина», «Воскресение» и повестями «Хаджи Мурат» и «Казаки». В то время как Тургенев и Достоевский появляются реже, чем в предыдущий период, Толстой переводится по-прежнему много.
Меньше переводятся и другие русские писатели XIX в. Произведения Щедрина выходят 14 раз, Короленко — 27, Гаршина — 42, Потапенко — 54. Чаще стал появляться Горький — почти 200 раз. Из значительных произведений напечатаны его автобиографическая трилогия, роман «Мать», «Жизнь Матвея Кожемякина». Затем идет Л. Андреев, чьи произведения напечатаны 99 раз. Переводится Вересаев, Куприн, Бунин и А. Толстой. В конце первого десятилетия приходят роман «Санин» и 16 повестей Арцыбашева, а также 54 рассказа и юморески Аверченко.
Очевидно, русские классики постепенно уступают место более молодым писателям, чьи произведения больше соответствуют стремлениям сербской литературы. В какой степени эти перемены коснулись Чехова?
Как уже было сказано, в этот период его переводят чуть ли не вдвое больше, чем при жизни. И круг печатающихся рассказов значительно расширяется. Обращает на себя внимание некоторое смещение центра внимания с юмористических рассказов на сатирические. «Орден», «Недоброе дело», «В цирюльне» и «Несчастье», которые в предшествующий период возглавляли этот перечень, теперь уступают место рассказам «Смерть чиновника», «Толстый и тонкий», «Хамелеон», «Унтер Пришибеев», «Маска».
В переводах прозы Чехова нет еще ни порядка, ни системы. Одни рассказы переводятся и печатаются по нескольку раз, а другие — ни разу. Это касается не только Чехова. Неорганизованность и бессистемность — отличительная черта сербской переводной литературы в целом. Но все же и здесь есть приметы перемен. Сербское товарищество писателей попыталось начать планомерный перевод самых значительных произведений зарубежной литературы. На собрании литературного отделения, проходившем 9 июля 1908 г., было принято решение составить список произведений очередных изданий товарищества. Ответственными за русскую литературу были Й. Проданович, Р. Кошутич и Й. Максимович61.
В сентябре 1908 г. Максимович составил список русских художественных произведений, которые, по его мнению, нужно было как можно скорее перевести и издать. Из произведений Чехова здесь были представлены: «Архиерей», «Без заглавия», «Беглец», «Ванька», «Дом с мезонином», «Душечка», «Дуэль», «Дядя Ваня», «Именины», «Ионыч», «Каштанка», «Княгиня», «Кошмар», «Красавицы», «Крыжовник», «Моя жизнь», «Мужики», «О любви», «Отец», «Палата № 6», «Печенег», «Припадок», «Рассказ неизвестного человека», «Святой ночью», «Скучная история», «Случай из практики», «Спать хочется», «Соседи», «Страх», «Толстый и тонкий», «Три сестры», «Учитель», «Холодная кровь», «Хорошие люди», «Человек в футляре», «Черный монах», «Вишневый сад». (Курсивом отмечены названия произведений, которые, по мнению Максимовича, заслуживают того, чтобы их опубликовать в первую очередь62.) Но из предложенных Максимовичем произведений был напечатан в этот период только «Черный монах». Однако Максимович не допустил, чтобы на этом дело закончилось. Начиная с 1914 г. он перевел и напечатал в периодике некоторые из предложенных рассказов, а большинство — в специальных изданиях. В середине 20-х гг. он полностью реализовал свой замысел.
Причины многочисленных переводов Чехова следует искать в особенностях сербской литературы, которая начинает все больше интересоваться тем, о чем герои думают, а не только тем, что они делают. Сербский рассказ теперь редко обращается к деревне и не представляет ее идиллически. Любимой темой стал город. «Более зрелый» сербский рассказ нуждался и в более зрелых произведениях Чехова, — отсюда и повышенный интерес переводчиков и читателей к таким произведениям, как «Именины», «Припадок», «Дуэль», «Рассказ неизвестного человека», «Моя жизнь», «Человек в футляре», «Ионыч», «Душечка» и «Дама с собачкой».
Против ужасающей банальности обыденной жизни выступают многие сербские писатели, с ней боролся и Чехов. Можно отметить и появление слабовольного героя, сломленного и раздвоенного63, о котором пишет П. Попович в статье «Состояние современной сербской литературы» (1905). Поскольку сербская литература с такими героями столкнулась еще раньше, прежде всего в произведениях русских писателей, особенно Тургенева, а затем и в произведениях С. Ранковича, то слабовольные герои Чехова, далекие потомки лишних людей, нашли подготовленную почву. Полознев, Алёхин, Гуров, художник из повести «Дом с мезонином» и многие другие герои Чехова в большой степени соответствовали потребностям современной сербской литературы. Вопреки этому критика не хотела замечать влияния Чехова на сербских писателей. Упоминается только И. Секулич, а именно ее «Спутники» (1913). Подчеркивая, что И. Секулич первой начала у нас заниматься проблемой отчуждения, Глигорич пишет: «Будучи в изоляции от молодежи, она научилась молчать, как насекомое. Она слушала сверчка, который в ее мир фантазий пришел из книг Чехова. Сверчок — это ее большая и дорогая иллюзия, поскольку он певец простых радостей жизни»64.
Среди любимых писателей Милицы Янкович и Станки Глишечевой был и Чехов. «Перешла в седьмой класс, — говорит героиня «Исповеди», — и чувствую себя взрослее. Это видно по прошлогоднему платью и тому, что читаю. Русская литература — вот мой теперешний идеал. Достоевский, Толстой, Гоголь, Чехов, Горький и Чернышевский! До чего же прекрасно жить!»65
С. Глишечева в своих воспоминаниях подчеркивает, что свободное время она проводила в основном у себя в комнате, среди книг, где из русских писателей были «Тургенев, Гоголь, Чехов, Короленко, Потапенко и др.»66 Между тем постоянное присутствие Чехова в сербской периодике дает основание сделать вывод, что его влияние на сербских писателей было значительно большим.
* * *
Сербская критика на новом этапе стремится глубже проникнуть в творчество Чехова. Годовщину смерти Чехова журнал «Bosanska vila» отметил статьей, которую ему прислал из Петербурга Душан Й. Семиз. Свидетель бурных исторических событий, Семиз приветствует рождение новой, чеховской России: «Это Россия его самых лучших мгновений жизни, его самого большого вдохновения, его самых высоких чаяний. <...> В благородных взорах сыновей русского народа живет надежда, что их земля из этой кровавой бани выйдет чистой. Придет новая жизнь, полная радостного труда и взаимного доверия, и тогда имя Чехова засияет во мраке, потому что он был первым русским художником, каким до него был, быть может, только Пушкин. Благородная душа Чехова ощущала возрождение своего отечества, и, подобно Моисею, он издалека видел обетованную землю, но не суждено ему было ступить на нее»67.
Семиз первым в Сербии заметил, что Чехов, создавая свои произведения, в очень большой степени полагался на читателей: «Его новелла напоминает влюбленных, которые, боясь наскучить друг другу, говорят не открыто, а лишь намеками»68. Благодаря оригинальной художественной манере Чехов стал основателем нового направления в русской литературе. Его ученики — Горький, Андреев, Куприн и другие — пишут рассказы, небольшие по объему, но значительные по содержанию.
Йован Максимович, о котором В. Ягич однажды сказал, что «он знает новую русскую литературу как мало кто в Сербии»69, — автор первого у нас исследования о Чехове и его творчестве. Исследование было напечатано в 1905 г. сначала в журнале «Srpski kniževni glasnik», а потом вышло и отдельным изданием.
Желая как можно лучше и точнее представить читателям творчество Чехова, Максимович на первых шестнадцати страницах дает обширный обзор русской литературы от Пушкина до Толстого, чтобы в конце показать, что Чехов — ее достойный преемник: «Служение общественному сознанию и моральному подъему русского общества, постоянное стремление к лучшей, идеальной жизни и внушение читателю веры в то, что эта жизнь может и должна когда-то наступить, — основные компоненты творчества Чехова, так же как и творчества его великих предшественников и учителей»70.
Рассматривая творчество Чехова в целом, Максимович заметил, что оно охватывает все сферы русской жизни и что в этом отношении Чехов превзошел всех русских писателей. Критиков, которые утверждают, что он показывает зло, но не ищет путей его искоренения, Максимович призывает прочитать еще раз его произведения: «Когда все они будут внимательно изучены, когда будет понята их общая идея, когда мы познакомимся с теми строками, где отдельные художественные персонажи выражают не только свои мысли, но и мысли, желания и надежды писателя, тогда мы убедимся, что произведения Чехова не только — талантливое художественное изображение человеческих недостатков и социального гнета в России, но в то же время — энергичный и громкий призыв к борьбе за освобождение, к борьбе, серьезное начало которой мы видели в недавнем прошлом и, к сожалению, более сильное и страшное продолжение которой скоро должно последовать»71.
Исследование Максимовича получило исключительно высокую оценку в критике72. Русский критик П. Заболоцкий в «Русском филологическом вестнике» так заканчивает свою рецензию об этой книге: «Книжка д-ра Й.Г. Максимовича является в настоящее время одною из наиболее обстоятельных и ценных монографий о Чехове и вполне заслуживает перевода на наш язык...»73
Спустя год после некролога Чехова опубликованного Матавулем в издании «Letopis Matice srpske» (см. примеч. 51), в том же издании было напечатано обширное исследование Н.И. Коробки о творчестве писателя. Русский литературовед подошел к Чехову как к писателю, который полнее всех выразил общественное настроение в России конца XIX и начала XX вв. и который связью со своей эпохой напоминает Пушкина. Между тем судьбы их весьма различны: «Пушкину суждено было начать свою деятельность в эпоху возникновения общественного движения, а завершить ее в период его полного спада. Чехов же начинает в период полного спада общественного движения, а заканчивает в период его относительного подъема»74. Это обстоятельство нашло свое отражение в эволюции идейного содержания творчества Чехова. После таких вводных замечаний Коробка подробно, почти на тридцати страницах, пишет о рассказах и повестях Чехова. Более других привлекают его внимание «Рассказ неизвестного человека», «Скучная история», «Палата № 6», «Моя жизнь» и «Дом с мезонином».
Владимир Станоевич (Трнский) в 1912 г. опубликовал книгу «О России и русских». Разбирая произведения великих русских писателей в непосредственной связи с психологией народа, Станоевич пытается показать эволюцию русской души. Творчество Чехова рассматривается как новый этап этого процесса.
Так называемое «чеховское настроение» — это «жалость и печаль заблудившегося, который непрестанно и напряженно смотрит вдаль, чтобы увидеть дорогу или хотя бы тропинку. Но все напрасно. Нет... Нет солнца, все покрыто мраком, все окутано мглой... этой черной, холодной мглой»75. Таков случай с главным героем повести «Скучная история», профессором университета, который не может найти смысла жизни, с миллионершей из «Бабьего царства», страдающей от бессмысленности существования, с писателем Тригориным из пьесы «Чайка», который понимает, что жизнь и творчество постоянно ускользают от него.
Все герои Чехова — мечтатели, подчеркивает Станоевич. Это не предприимчивые люди, не борцы. «У всех у них русское сердце: искреннее, доброе, отзывчивое. Это русское сердце <...> срослось с организмом всего человечества и намного сильнее и острее чувствует боль и страдания человечества, чем своего организма. Вот что такое русское сердце»76.
В 1913 г. журнал «Srpski književni glasnik» опубликовал рассказ Чехова «Душечка» и послесловие к нему, написанное в 1905 г. Львом Толстым. Готовя рассказ в свой сборник, Толстой опустил те места, которые противоречили его представлению о главной героине. Между тем в журнале «Srpski književni glasnik» «Душечка» опубликована полностью.
Имя Чехова теперь часто встречается в статьях, посвященных русской литературе и вопросам литературы вообще. Интересные мысли о судьбе литературного творчества высказывает в 1905 г. С.Ч. на страницах журнала «Brankovo kolo». На литературной ниве он видит две группы работников: писателей и читателей. «Настоящий читатель чувствует, как он работает вместе с писателем и становится создателем чужого произведения. И все же в этом содружестве писатель является творцом и художником, а читатель нередко ощущает тихое и глубокое удовлетворение от того, что без славы и молвы создает художественные произведения редкой красоты»77. Несправедливо и бездоказательно говорит критик о якобы пренебрежении к читателю у Чехова и Горького.
В статье Исидоры Секулич «Русская литература и студенты» (1910) русская литература представлена как литература мрака, зимы и смерти, как взрывчатое вещество, которым с удовольствием играют любознательные студенты. Между тем эти игры часто заканчиваются трагически, «потому что не было еще никого, кто был бы сильнее ужасного таланта Достоевского и страшной скуки Чехова»78. Для русской литературы нет совсем плохих людей: самые злостные преступники после тягчайшего греха переживают внутреннее очищение, несчастье приводит их в сознание. И обо всем этом говорится спокойно, без патетики: «Чем сильнее чувства, тем тверже мысль, тем спокойнее и мягче слово».
Извечное столкновение действительности и мечты, как правило, перерастает в трагедию. «И поэтому, — пишет И. Секулич, — в тихие и спокойные ночи всегда пролетает эта чеховская чайка со своим удивительным и таинственным криком. От всех русских веет духом печальной и молчаливой степи, которой природа дала так мало радости». Считая, что русская литература наполняла ужасом душу молодых читателей и оказывала на них гнетущее воздействие, И. Секулич делает вывод: «Даже у самых сильных русская литература вызывает такие переживания, с которыми они не в состоянии справиться; чувствительных же на каждом шагу подстерегает опасность, которой обычный человек уже никогда не сможет избежать. Эстетический результат пережитых эмоций, без сомнения, позитивен и силен, поскольку русская культура глубока и сильна, как море, и духом своим укрощает материю и страсти. Практический общественный результат неопределен, а может быть, и сомнителен, поскольку у несравненной русской литературы отсутствует одно — утешение»79.
Многие суждения И. Секулич свидетельствуют о влиянии на нее известного исследования Мережковского «О Чехове» (1905). Это, несомненно, — самая значительная встреча сербской критики с русской символистской трактовкой Чехова. Влияние Мережковского было не временным, следы его можно найти и в последующих работах И. Секулич, напечатанных между двумя войнами. Однако в истории сербской литературы эти мысли И. Секулич не нашли отражения.
Воспоминания современников о Чехове, которые стали появляться сразу после смерти писателя, охотно публикуют периодические издания. Так, журнал «Brankovo kolo» напечатал воспоминания Горького о Чехове80. Воспоминания Горького о Чехове полностью напечатала только газета «Dnevni list»81. Другие газеты и журналы публиковали в основном отрывки и чаще всего под названием «Чехов об учителях». Газета «Srbobran» связала их с нашими условиями жизни, сопроводив публикацию примечанием, в котором редакция газеты обращала внимание сербской общественности на трудное положение учителя в Сербии82.
Воспоминания Бунина о Чехове появились в газете «Stampa» в 1905 г.; воспоминания Дорошевича — в газете «Politika» в 1905 г., а П.П. Гнедича — в газете «Dnevni list» в 1911 г. Об ученических годах Чехова писали газеты «Večemje novosti», «Beogradske novine» и «Štampa»83.
Из вышесказанного видно, что литература о Чехове в этот период становится значительно богаче и разнообразнее. Закончилась пора знакомства, началось изучение творчества Чехова. Мелкие, информативные статьи сменились серьезными, аналитическими исследованиями.
Работая над книгой о Чехове (см. примеч. 71), Максимович во многом опирался на «Очерки по истории русской литературы XIX в.» Е. Соловьева (Андреевича). Продолжатель традиций народнической критики, Соловьев оставлял без внимания вопросы художественной формы, что в большой мере проявилось и у Максимовича. Между тем в оценке творчества Чехова критики разошлись во взглядах. Дискуссию с Соловьевым Максимович начал еще тогда, когда читал его «Очерки». Так, например, в тексте: «Со своим огромным талантом, своим неверием в счастливое будущее людей Чехов пришел уже на оголенное хищниками и кулаками место, и оно поразило его своим унылым однообразием, своею безжизненностью, следами разрушения, печатью отчаяния и ненужности» — Максимович над словом «неверием» поставил звездочку, а сбоку написал: «Есть и обратное»84. Отмечая, что пессимизм Чехова чисто интеллектуальный, Соловьев пишет: «Любопытно то, что о грядущих лучших днях у Чехова говорят самые глупые люди, вроде полковника Вершинина». Максимович подчеркнул слова «самые глупые», поставил знак вопроса и приписал: «Говорят и лучшие»85.
Наконец, Соловьев и Максимович отличаются и окончательным суждением о Чехове. В то время как первый считает, что на вопрос «что остается делать человеку?» Чехов лучше всего ответил пессимистическими развязками своих драм, второй утверждает, что Чехов верит в победу добра и правды и своим творчеством старается показать путь в счастливое будущее.
Хотя об этом нигде не упоминается, Максимович пользовался и книгой Волжского «Очерки о Чехове», в которой он нашел интересные мысли об идеализме и пантеизме Чехова86.
Книга Максимовича дала сербским читателям множество новых сведений и интересных наблюдений о Чехове. Конечно, в ней есть и определенные упущения, некоторые слишком вольные толкования и необоснованные утверждения, однако все это не умаляет ее ценности. В сербской критической литературе о Чехове она осталась трудом исторического значения. Ее значение усиливается тем, что это — первая книга о Чехове, напечатанная за пределами России.
Известно, что в толковании «Душечки» Толстой разошелся с Чеховым. Чехов мягко иронизировал над ограниченной и несамостоятельной Душечкой, Толстой же в ней видел идеал женщины. Отголоски этого мнения можно найти и в сербской критике. В рецензии на книгу Чехова «Рассказы» (1914) Васа Стаич противопоставил жизни в футляре прекрасные и благородные подвиги человеческой души. «Есть Душечка, — пишет Стаич, — рожденная любить и служить, вносить в жизнь близких как можно больше света и тепла»87. В этот период статей, приходящих с Запада, которые в предыдущий период сыграли значительную роль в освоении Чехова, в печати не появляется. Литература о Чехове теперь приходит большей частью из России непосредственно (Соловьев, Волжский, Скабичевский, Грингмут и др.). И хотя нет переводов работ Михайловского, Коробка широко его цитирует. Со ссылкой на Михайловского и Максимович утверждает, что у Чехова до 1890 г. не было сформировавшегося мировоззрения и что он с фотографической точностью лишь фиксирует то, что видит вокруг себя. И все-таки в сравнении с периодом до 1904 г. суждения русских народников присутствуют в меньшей степени, и, что всего важнее, — они подвергаются критическому анализу. Скабичевского и Михайловского оттесняют Волжский и Мережковский.
Бросается в глаза тот факт, что ведущие сербские критики не писали о Чехове. Даже Скерлич, от которого в первую очередь можно было бы этого ожидать. Он, очевидно, знал творчество русского писателя, но не написал о нем даже тогда, когда должен был написать, например, в рецензии на книгу французского исследователя Осипа Лурье «Психология русских романистов XIX века» (Париж, 1905), т. к. Лурье считал, что у Чехова «нет и следа великого искусства», что его творчество «однообразно, мрачно и уныло», что это писатель, которого «отличает отсутствие глубины»88.
Чехов в Сербии вначале считался безыдейным и несоциальным писателем, а Скерлич требовал от литературы прежде всего социальной направленности. О Чехове часто говорили как о писателе, чьи произведения исполнены пессимизма, а Скерлич был ярым противником этой вредной «литературной заразы»89. Позднее, когда ведущий сербский критик познакомился с повестью «Мужики» (1901) и исследованием Максимовича, он изменил свое отношение к Чехову. Об этом свидетельствует и то, что в журнале «Srpski književni glasnik» за период, когда Скерлич был редактором (1905—1914), напечатано целых семь рассказов Чехова. И выбор их определялся позицией редактора. Это — «Моя жизнь», «Без заглавия», «Страх», «Шуточка», «Душечка», «Гриша», «Двадцать девятое июня».
1914—1940 гг.
Первое отдельное издание прозы Чехова после войны появилось в 1920 г. Возобновленное издание «Дешевой библиотеки русской литературы» ознаменовалось небольшой книгой, в которую входили рассказы «То была она!», «Страшная ночь», «Знакомый мужчина» и «Злой мальчик». Их перевел Н. Вукайлович90. В том же году печатаются «Восклицательный знак», «Произведение искусства», «В цирюльне», «Тссс!...» и «Дамы»91. Переводчик М.О. Глушчевич опубликовал эти рассказы еще в 1906 г. в газете «Samouprava». Сборник «То была она!» уже спустя год вышел вторым изданием, в которое, кроме старых переводов, вошел рассказ «Кривое зеркало».
В 1921 г. вышло также шесть отдельных изданий прозы Чехова. В книге под названием ««Черный монах» и другие рассказы» напечатаны «Дама с собачкой», «Роман с контрабасом», «Душечка», «Водевиль», «Налим», «Мужики», «Унтер Пришибеев», «Святою ночью», «Ванька», «Студент» и «Ведьма». Перевел их Й. Максимович.
По «Рассказу неизвестного человека» получила название вторая книга, в которую вошли еще «Злоумышленник», «Беда», «Дачники», «Живая хронология», «Страх», «Спать хочется», «Детвора», «Человек в футляре», «Пересолил» и «Ионыч». Переводчик Й. Максимович.
После этого вышли две небольшие книжки. Издательство З. Спасоевича выпустило «Цветы запоздалые» в переводе З. Велимирович, а Художественная библиотека — «Каштанку» в переводе Й. Максимовича92.
Без указания на год выхода в книге № 8 «Художественная библиотека» напечатала рассказ «Несчастье» в переводе Й. Максимовича. Сообщения и короткая заметка в журнале «Nova svetlost» свидетельствуют о том, что и эта небольшая книга вышла в 1921 г.93 В следующем, 1922 г. Максимович опубликовал еще две книги своих переводов. В одной из них — «Дуэль», в другой — «Холодная кровь», «Володя большой и Володя маленький», «Житейская мелочь», «Скучная история», «Несчастье», «Анюта», «Юбилей», «Припадок» и «Шведская спичка». И. Секулич в рецензии на последнюю книгу отмечает, что Чехов писал главным образом короткие, подчеркнуто ритмичные рассказы, «иногда печальные со смешным подтекстом, иногда наоборот; писал черным по белому, белым по черному, писал простые, истинно правдивые рассказы». По оценке критика, Максимович переводит «легко, непринужденно, но наспех; с большой любовью, но с недостатком уважения»94.
Четвертым номером библиотеки «Svetlost» в 1922 г. в Вене вышла книга «Новеллы» Чехова, в которую вошли рассказы «Новогодние великомученики», «Гриша», «Душечка» и «Двадцать девятое июня». Думая о доступности книги и для сербов, и для хорватов, издатель напечатал ее и латиницей, и кириллицей. В том же году в номере XI этой библиотеки напечатана повесть «Мужики».
В 1923 г. Максимович напечатал переводы рассказов «Дом с мезонином» и «Княгиня» под названием «Социальные новеллы». В том же году сербское товарищество книгоиздателей опубликовало 18 рассказов в переводе Косары Цветкович: «Ведьма», «Верочка», «Враги», «Зиночка», «Несчастье», «Поцелуй», «На пути», «Тоска», «Лишние люди», «Муж», «Иван Матвеевич», «Отец семейства», «Необыкновенный», «Кошмар», «Холодная кровь», «Длинный язык», «Свадьба» и «Чтение». В большом предисловии, о котором речь пойдет ниже, Яша Проданович подчеркнул, что большая часть рассказов Чехова производит впечатление немотивированных и незаконченных. «Рассказы Чехова с этой точки зрения, — пишет критик, — неодинаковы по ценности: есть рассказы, под которыми свободно мог бы подписаться и сам Тургенев, но есть и такие, под которыми не подписались бы даже неизвестные репортеры дневных газет. Художественное воздействие не всегда одинаково: иногда это выходящий из берегов стремительный поток, а иногда пересохший ручей. Великие писатели умеют направить буйный поток по нужному руслу и знают, что им делать на плотине. Чехов словно презирал эту профессиональную сторону творчества, с которой не могут не считаться даже гении...»95
В 1925 г. отдельным изданием был напечатан рассказ «Гриша», а затем наступил период затишья, который длился вплоть до 1931 г., когда во второй раз появилась «Каштанка». Новый сборник вышел в Белграде в 1933 г. под названием «Аптекарша» в переводе Владимира Бабича. Кроме этого рассказа, в сборник входят «Живая хронология», «Кривое зеркало», «То была она!», «Сапоги», «Счастливчик», «Знакомый мужчина», «Злой мальчик», «Смерть чиновника», «Шило в мешке», «Клевета» и «Страшная ночь». Спустя год Бабич выпустил книгу переведенных юмористических рассказов, в которую вошли «Хамелеон», «Орден», «Винт», «Лошадиная фамилия», «Роман с контрабасом», «Ну, публика!», «Perpetuum mobile», «Загадочная натура», «Певчие», «Восклицательный знак», «Оратор» и «В номерах»96.
Не известен год выхода рассказов «Каштанка» с иллюстрациями В. Жедринского, «Цветы запоздалые» в переводе З. Велимирович, «Беззаконие» и «Происшествие», которые дважды вышли в переводе Милицы Яковлевич-Мирьям: в издательстве «Библиотека Фортуна» и «Библиотека русских писателей» С. Грузинцева. Обе книжки получили название по первому рассказу, и, судя по инвентарному номеру в Народной библиотеке, обе вышли в двадцатые годы97.
Не указан год издания рассказов «Новогодние великомученики» и «Гриша», которые выпустило белградское издательство «Svetlost». Текст перевода тождествен тому, который напечатан в венском издании «Новеллы» в 1922 г. Неизвестен год издания и рассказа «Протекция» в переводе К. Цветкович. Вместе с ним напечатан и рассказ «Святая простота».
В издательстве «Narodna prosveta» («Народное просвещение») под редакцией Милодрага Пешича в Белграде в 1939 г. вышло собрание сочинений Антона Чехова в 14 томах. В 12-ти первых напечатано в общей сложности 239 рассказов, а в двух последних — полное собрание драматических произведений, за исключением «Платонова» (или «Пьесы без названия»*). Рассказы перевели Митар Максимович, Косара Цветкович, Десанка Максимович, Драгослав Илич, Милодраг Пешич, Сергие Сластиков, Милан Петрович-Шибица, Михайло Подольский, Драгомир Марич и Людмила Михайлович, а драмы — Славка Димич-Пишкин, З. Велимирович и Й. Максимович. В рецензии, напечатанной в журнале «Srpski književni glasnik», Божидар Ковачевич отдал должное «изящно оформленному и хорошо напечатанному изданию», подчеркнув, что оно дает возможность проследить весь творческий путь Чехова: от легких фельетонов до «самых высоких форм искусства»98.
Две мировые войны очертили границы во многом исключительного периода в развитии сербской литературы. Наполненный бурными общественными и литературными событиями, он проходит под знаком непрерывного поиска «новой истины» и новых средств художественного выражения. Между тем этот процесс не означал полного разрыва с предыдущим периодом. Прежде всего потому, что поиски современных литературных форм можно обнаружить и в предвоенный период: «Saputnici» И. Секулич (1913), «Priče, koje su izgubile ravnotežu» («Рассказы, которые потеряли равновесие») С. Винавера (1913), а также и потому, что значительное число признанных писателей продолжает писать в духе традиционного реализма, в этом за ними следуют и некоторые молодые.
Наиболее широким и значительным течением с начала двадцатых годов был экспрессионизм. В конце третьего и начале четвертого десятилетия тон литературной жизни задает группа белградских сюрреалистов, объединенных вокруг альманаха «Nemoguće» («Невозможно»). Одновременно с сюрреализмом и в борьбе с ним возникло течение социальной литературы, которое придало особую окраску сербской литературе четвертого десятилетия XX века.
Словно утратив силу в непрерывной борьбе и дискуссиях, сербская литература периода между двумя мировыми войнами не дала большого числа выдающихся произведений. Это, по всей вероятности, одна из причин того, что издатели обратились к иностранным литературам, чем вызвали гнев своих писателей. В тридцатые годы часто пишут о кризисе отечественной книги и совершенно ошибочно ищут причины этого кризиса в наплыве переводной литературы. Дальше всех в этом пошел Црнянский. «Мы становимся колонией иностранной литературы», — протестует он в 1932 г., выражая опасение, как бы «чужая» литература не отдалила от народа и не отравила молодое поколение99. Противоположной точки зрения придерживался Милан Богданович. Отвечая Црнянскому, он подчеркивает, что мало какая литература в мире так замкнута, как сербская, что в ней есть проявления таланта, но нет совести, и поэтому не следует удивляться тому, что читатели предпочитают другие литературы100. В ходе дискуссии выяснилось, что Црнянский не против иностранной литературы вообще, а прежде всего против ««коммунистической литературы» или ее предшественников, поскольку они означают смерть для нашей, югославской литературы»101.
Те, кто был в стороне от ежедневных дискуссий, могли лучше определить, что нужно сербской литературе. Отмечая, что многие малые народы возродились благодаря переводам, Б. Лазаревич пишет: «Почти все литературные течения у этих народов возникли благодаря переводам. Разве нужно специально доказывать, в какой степени переводы с русского, немецкого и французского повлияли на нашу литературу?»102
В период между Первой и Второй мировыми войнами было опубликовано в общей сложности 28 книг рассказов Чехова, которые, согласно официальным данным, вышли 30 изданиями. Между тем, по-видимому, издатели не всегда сообщали о повторных изданиях. Иначе как объяснить тот факт, что книги «Черный монах» и «Рассказ неизвестного человека», напечатанные в 1921 г., можно было купить в книжных магазинах вплоть до самой войны?103
В этих книгах большую часть составляют юморески и рассказы для детей, но есть и повести, которые выдержали по несколько изданий. Собрание сочинений на сербском языке (1939) сделано по немецкому изданию, которое на русском языке выпустило берлинское издательство «Слово» в 1922 г. Отличий нет ни в содержании, ни в расположении материала по отдельным книгам. Там, где это было возможно, использованы уже существовавшие сербские переводы, а большое число рассказов и драма «Леший» были переведены впервые. В 14 книгах опубликовано в общей сложности 239 рассказов и 14 драматических произведений. Таким образом, сербские читатели в конце 1930-х гг. получили все самые значительные произведения Чехова.
Частота публикаций некоторых рассказов отдельными изданиями свидетельствует, что Чехов в Сербии был известен главным образом как юморист. Самое большое количество изданий имели «Страшная ночь» — 6, затем «То была она!», «Знакомый мужчина» и «Злой мальчик» — по 5, «Роман с контрабасом», «Злоумышленник», «Кривое зеркало», «Каштанка», «Гриша» — по 4 и «Восклицательный знак», «В цирюльне», «Живая хронология», «Новогодние великомученики», «Душечка», «Мужики», «Цветы запоздалые», «Дом с мезонином», «Княгиня», «Несчастье», «Беззаконие», «Холодная кровь», «Происшествие», «Ванька» и «Детвора» — по 3. В этом перечне, как это видно, нет сатирических рассказов, которые были наиболее популярны в период с 1905 по 1914 г. Их сменили рассказы о детях и для детей.
Большое количество изданий свидетельствует о том, что Чехов и в этот период был непосредственно связан с сербской литературой. Вопреки ожиданиям, в литературе двадцатых годов видное место занимают разочарованные, безвольные и неуравновешенные герои. Очевидно, победа над внешним врагом не решила накопившихся в стране общественных проблем. После тяжелых военных испытаний храбрые бойцы салоникского фронта столкнулись со спекулянтами, которые вернулись к своим прежним занятиям. Для этой второй битвы у многих не было ни сил, ни воли. «И у нас теперь, — писал Б. Чосич, — после победы, намного больше сломленных, чем кажется»104.
В первые послевоенные годы сербскую литературу захватывает волна лиризма. «Лирические миниатюры, — пишет Бранислав Милькович в 1925 г., — больше всего отвечали неспокойному времени и смятению каждого»105.
Короткий газетный рассказ, который надолго был забыт, занимает все более видное место. Его утверждению больше всего способствовали газеты «Politika» и «Naša knjiga».
Сельский рассказ, хотя уже и не представляет главного направления в сербской литературе, все еще остается популярным. На показ экономического и морального разложения деревни сербских писателей могли вдохновить произведения Чехова. «Мужики», например, в этот период издаются четыре раза.
Требования сторонников социальной литературы писать о действительности обычным, разговорным языком привели к расцвету очерковой, или, по выражению Глигорича, «репортажной» литературы. Понятие очерка издавна было очень расплывчатым и относилось к самым различным публикациям: от рассказа до злободневного общественно-политического комментария. Размышляя о положительных и отрицательных сторонах этого литературно-публицистического жанра, Миодраг Стаич пишет: «Сильным писателям никогда не помешают ограниченные рамки очерка. <...> Пример Чехова и Мопассана показывает, что короткий рассказ насколько обычен и прост, настолько же силен и глубоко человечен»106.
Стремясь объяснить то сильное впечатление, которое русская литература производит на читателей, Бора Чосич пришел к выводу, что большинство молодых писателей, «не подражая прямо и не ссылаясь непосредственно на то, о чем рассказывалось в произведениях Чехова или Достоевского», сознательно перенимают характер и настрой этой литературы и таким образом проходят через «то, что можно было бы назвать «русским периодом»»107. Относится ли это замечание к сербским писателям, которые работали в период между двумя мировыми войнами?
Говоря о своих любимых писателях, Бранко Чопич никогда не забывал Чехова. Например в беседе с Н. Дреновцем он сказал: «Как мне кажется, самое большое влияние на меня оказали Андрич, Горький, Чехов и Гоголь»108. Аналогичное признание он сделал и в 1972 г., когда ему была присуждена премия Негоша. При этом он упомянул Гоголя, Сервантеса, Гашека, Андрича и «мягкого Чехова»109.
Рассказчик и романист Милан Кашанин признается, что не является усердным читателем, и добавляет: «Но, как и все, я знаю основных мировых писателей и нет-нет, да и прочитаю вечером страницу-другую из Эсхила или Монтеня, из Чехова или Пруста»110.
Вспоминая о том, что он изучал в свои студенческие годы, Младен Лесковац заявил: «Я, как говорится, начал с русских писателей, но ни Толстой, ни тем более Достоевский не удовлетворяли меня до конца и надолго: все больше я возвращался к Чехову. Думаю, что и сегодня он мне ближе всех великих русских писателей»111.
Яра Рибникар, наряду с Достоевским, которого она глубже всего восприняла, упоминает Гоголя, Гончарова и Чехова, подчеркивая: «Есть вещи, которые временем и годами уносятся безвозвратно, но есть и что-то такое, что именно временем и годами возвращается человеку. Эти старые русские писатели — мои постоянные гости, постоянно я с ними»112.
Среди русских писателей, которых он «страстно» читал, Танасие Младенович выделяет Достоевского, Толстого, Чехова и Гоголя113. Юморист Миле Станкович признает, что он любил Вергилия, Змая, Домановича, Чехова, Кафку, О. Генри, Роллана и Рембо114. Академик Милан Будимир упоминает Кочича, Нушича, Андрича и Б. Станковича. «Из иностранных писателей моему сердцу ближе всех Чехов. Его человечность, теплота, манера удивительного, сдержанного повествования! Это мой писатель! Теперь мало таких писателей; нынешние писатели больше говорят, чем пишут...»115 И в числе любимых книг выдающегося журналиста Предрага Милоевича был Чехов. «Если бы меня спросили, что я читал, — говорит он, — я бы не смог ответить. Но при упоминании Чехова меня обволакивает каким-то теплом: это впечатление от давнего чтения»116.
Присутствие произведений Чехова в сербской межвоенной литературе заметила и критика. В исследовании о Велько Петровиче И. Секулич дважды указывает на связь этого воеводинского писателя с Чеховым. Подчеркивая, что Петрович щадит и сердце, и душу, и себя считает более важным, чем свои произведения и искусство вообще, она пишет: «Чехов, например, совершенно очевидно, не скрывая, проявлял добродушное пренебрежение и к публике, и к художественному творчеству, как своему, так и чужому»117. И. Секулич упоминает Чехова также при разборе отдельных рассказов Петровича. Так, например, о рассказе «Perica je nesretan» («Несчастный Перица») она пишет, что это «чеховский сюжет» и что его герою, как и чеховскому маленькому Ваньке, «несчастливая судьба уготована с детства»118.
В рецензии на книгу «Borovi i masline» («Сосны и оливы») И. Секулич отметила, что в сербской литературе нет «более спокойного» славянского рассказа, чем рассказ Миличича. В нем властвует «тишина картины» и ощущается сдержанность в ритме и выражении. «Есть случаи, когда, подобно тому, как это описано в грандиозно спокойной чеховской «Степи», все же должен налететь ветер и привести в движение все в природе, или когда нужно что-то ответить на позвякивание колокольчиков на отправляющихся в путь мулах»119. И. Секулич упоминает Чехова и в рецензии на два других сборника Миличича: «Žena» («Женщина») и «Čovek i more» («Человек и море»)120.
В тридцатые годы внимание сербской общественности привлек Душан Радич, который за короткое время опубликовал несколько сборников рассказов и роман «Selo» («Деревня»). Исследуя возможные влияния на этого писателя, Ж. Миличевич пишет: «Врачу Радичу как писателю во всем значительно ближе врач и писатель Чехов, чем, например, знаменитые французские писатели Мопассан и Золя, у которых он, вероятно, также учился»121. На торжественном заседании, посвященном двадцатипятилетию со дня смерти Д. Радича (1963), Добрица Чосич горячо говорил о его прозе. В эстетическом смысле Радич, по мнению Чосича, усовершенствовал сербский реалистический рассказ, используя опыт, вынесенный им «из чтения французской реалистической и натуралистической литературы и произведений русского реализма конца девятнадцатого века, в первую очередь — Чехова»122.
И проза Боры Станковича дает материал для исследования. Например, атмосфера в его незаконченном романе «Gazda Mladen» («Хозяин Младен») очень близка чеховской «жизни в футляре». Следы влияния Чехова можно найти и в творчестве Ефты Угричича и Момчило Милошевича, особенно в отдельных рассказах, которые в тридцатые годы вышли в издательстве «Naše knjige» («Наши книги»)123. Заслуживает исследования и творчество Жака Конфина. Среди возможных источников книги «Što godina — dvadeset groša» («Что ни год — двадцать грошей») Миодраг Протич назвал и Чехова124.
Четыре десятилетия спустя после случая с рассказом Нушича «Jedna vedra noč» в сербской литературе произошло еще одно событие, в котором фигурировало имя Чехова. На этот раз дело касалось поэта и прозаика Милутина Йовановича, опубликовавшего в 1928 г. в газете «Politika» рассказ «Ambicije majora Milije»125. Вскоре после этого в журнале «Srpski književni glasnik» появилась заметка, в которой приводились некоторые абзацы из рассказа, опубликованного в «Политике», и из перевода Максимовича. Сопоставление этих абзацев доказывает, что Йованович почти дословно использовал рассказ Чехова «Орден»126. Неподписавшийся хроникер был прав. Рассказ Йовановича полностью соответствует рассказу Чехова. Только имена героев и названия орденов переделаны на сербский лад и вместо преподавателя французского языка фигурирует чиновник Тимотие. Случай этот настолько вызывающий, что наводит на мысль, не хотел ли Йованович, возможно, на пари, проверить сербских читателей и критиков, сможет ли кто-нибудь из них узнать Чехова. Но в таком случае было бы естественно, если бы он, когда его раскрыли, публично ответил на заметку в журнале «Srpski književni glasnik» и на острую критику Й. Ослера в загребском журнале «Kritika»127. Поскольку этого не произошло, можно высказать другое предположение: Йованович только перевел рассказ Чехова и изменил на сербский манер имена героев, а по ошибке был назван автором.
* * *
Йован Максимович, писавший о Чехове до войны, продолжал заниматься его творчеством и после войны. В предисловии к «Дуэли» он подчеркивает, что русская критика не единодушна в оценке творчества Чехова. Представители старой реалистической школы считали его тенденциозным писателем. «Чехов, — цитирует Максимович А.А. Измайлова, не называя его имени, — смотрел на русскую жизнь, и слезы застилали его глаза. Он оплакивал то, что больше всего заслуживает сострадания: оскорбленные и разбитые женские мечты, утопленные в водке таланты, недосягаемость идеала и раннюю утрату радостей жизни»128. Между тем молодые по-другому воспринимают Чехова. «Но что же делали его герои? — пересказывает Максимович строки из некролога Чехова, написанного А. Белым. — Они говорили глупости, ели, спали, жили в своих четырех стенах и шли узкими серыми тропинками, чувствуя в душе, что все эти серые тропинки — тропы вечной жизни и что там нет стен, там вечные неизведанные просторы... Известно наверняка, что если и дальше идти этими тропами, то там, где румянится на западе небо, можно увидеть отблеск неземного и вечного»129. Принимая во внимание обе точки зрения, Максимович приходит к выводу, что Чехов стоял на рубеже двух эпох: «с одной стороны, он принадлежал старой реалистической школе, в которой его непосредственными предшественниками были Тургенев и Толстой, а с другой, — его считали своим декаденты и символисты»130.
В предисловии к сборнику «Рассказы» Проданович дает подробный обзор жизни и творчества Чехова, основываясь главным образом на данных Измайлова.
Проданович отмечает, что русская критика попыталась раскрыть основную идею Чехова, его этический идеал. В то время как одни утверждали, что он неизлечимый пессимист, другие находили какой-нибудь веселый рассказ, чтобы провозгласить его оптимистом. «Зачем нужна Чехову такая защита, которая основана на шатких доводах? — задается вопросом Проданович. — Разве художник не может сказать правду о жизни, не считаясь с какой бы то ни было существующей этической школой и политико-социальной доктриной? Разве ему нужна какая-то высшая цель, кроме той, чтобы представить жизнь такою, какая она есть на самом деле?»131
Благотворное влияние медицины на литературный труд Чехова отмечают многие критики этого периода132. Без исключительной интуиции и тонкого понимания человеческих душ Чехов, по мнению А. Погодина, не был бы ни хорошим врачом, ни великим художником133.
О Чехове пишут и русские эмигранты. В числе первых — Петр Митропан, преподаватель университета в Скопле и один из редакторов издания «Južni pregled». Русская литература последнего десятилетия XIX в., по его мнению, с полным правом могла бы называться чеховским периодом, т. к. он его лучший и самый яркий представитель. Ссылаясь на Овсянико-Куликовского, Митропан подчеркивает, что Чехов в своих произведениях поставил социально-психологический диагноз, который относится не только к поколению восьмидесятых годов, но и к России вообще: «Эти психологические особенности имеют свою историю и восходят к Онегину, Рудину и Обломову, изменившись только по форме в соответствии с духом времени»134.
Чехов показывает действительность просто и правдиво, но она в его произведениях выглядит как-то таинственно. Попытавшись эту тайну разгадать, Митропан приходит к следующему выводу: «Несмотря на совершенно бесспорную реалистичность картин и типов, Чехов только кажется реалистом и объективным писателем. В глубине его реализма, как говорит критик Волжский, родился и вырос импрессионистический символизм, а в его объективизме свила себе гнездо лирика субъективных настроений. <...> Реализм постепенно тает и переходит в импрессионизм»135.
Александр Погодин написал первую послевоенную историю русской литературы, которая на сербско-хорватском языке была опубликована в 1927 г. Последние главы в ней посвящены Чехову и его поколению. Творчество Чехова рассматривается как отражение исключительно сложной общественной обстановки, которая сложилась в России в конце XIX в. Поэтому у него преобладают люди рефлектирующие и слабовольные. Однако в последние десять лет жизни Чехов, наряду с «отчаянными по своему реализму» «Мужиками», «Человеком в футляре» и «Ионычем», написал и несколько произведений, проникнутых верой в человека, как, например, «Рассказ старшего садовника» и «Студент»136.
Два года спустя Погодин в журнале «Misao» напечатал подробную статью о жизни и творчестве Чехова. В действительности это обзор, который, подобно обзору Продановича, написан в соответствии с концепцией Измайлова, поэтому на нем нет необходимости останавливаться. Достаточно сказать, что он изобилует выдержками из писем Чехова, из воспоминаний Станиславского, Куприна и Амфитеатрова137.
Для Павла Аскоченского Чехов — первый настоящий поэт русской интеллигенции, которая в столкновении с действительностью потеряла веру в свои идеалы: мужика, прогресс и революцию. Действительность сильнее людей, и Чехов, у которого от религии осталась только любовь к церковному перезвону, в конце жизни в письмах к жене неоднократно упоминает Христа и Бога. На основании этого Аскоченский делает вывод: «Когда в жизни ничего не остается, когда наука и великий «ratio» беспомощны перед «t. b.» («тайной Божьей»), когда везде и всюду скука и разочарование, то и тогда остается некий кажущийся «Бог-создатель»!.. Не свидетельствуют ли эти выражения о том, что у Чехова все же была подсознательно тяга к религии?»138
Среди исследований, которыми была отмечена двадцать пятая годовщина со дня смерти Чехова, выделяется статья Евгения Спекторского, напечатанная в журнале «Srpski književni glasnik» на сербско-хорватском языке и в белградской газете «Novo vreme» на русском. В 1930 г. в Белграде эта работа без изменений вышла отдельной книгой на русском языке. Не скрывая своей любви к великому писателю, Спекторский старается как можно более объективно и всесторонне его показать. Поэтому в первую очередь он дает лаконичные высказывания современников о Чехове, цитируя при этом Буренина, Михайловского, Венгерова, Скабичевского, Айхенвальда, Струве, Амфитеатрова, Иванова-Разумника, Батюшкова. Между тем все их оценки не могут объяснить огромную популярность Чехова за рубежом, где его объявили последним великаном (Ниден) и первым европейцем в русской литературе (Ганс Гальм). Поэтому Спекторский призывает читателей еще раз обратиться к творчеству Чехова, особенно к его письмам.
Отдельную главу Спекторский посвятил тем изменениям, которые произошли в мировой литературе в конце XIX в. По его мнению, это — время, когда в литературу входят «маленькие люди» и «маленькие идеи» и когда она становится натуралистической. Аналогичный процесс наблюдается и в русской литературе, но она не впала в натурализм, а обратилась к этическим проблемам. Русские классики открыли миру величие маленьких людей. Чехов пошел по их стопам: люди, которых он изображает, ему дороги. Их тоска часто может найти свое выражение только в музыке, и поэтому ее так много у Чехова.
Все герои Чехова, как отмечает Спекторский, вдвойне несчастливы. Объективно — потому, что далеки от идеала, и субъективно — потому, что они знают свои недостатки. В отличие от них, героини почти знают, что им нужно делать. Они готовы пойти на жертву, и прежде всего из сострадания. Такова, например, Саша в «Иванове».
В заключительной части статьи Спекторский отдался во власть своего поэтического вдохновения, подчеркивая, что Чехов — единственный писатель, который умел разделить печаль с читателями: «Именно этим Чехов особенно привлекает. И это действительно основной, ведущий мотив, которым он вошел в симфонию не только русской, но и мировой литературы. Этот мотив не перестает звучать»139.
Журнал «Ruski arhiv», который выходил в Белграде, отметил двадцатипятилетие со дня смерти Чехова исследованием Марка Слонима. Его автор пытается прежде всего объяснить неожиданную популярность Чехова во всем мире и обращается к его героям. Это совсем обычные, усталые и разочарованные люди, у которых нет сил освободиться от власти житейской тривиальности. Вначале Чехов рисовал их сатирическими красками, а потом — с большей или меньшей симпатией. При этом интеллектуалов он «наделил поэтической меланхолией, изобразил их скорее жертвами, чем виновниками своей неудачи в жизни»140. Они жаждут гармонии и правды, недовольны своей жизнью и мечтают о какой-то другой, лучшей и более справедливой. Эти мечты заполняют многие страницы чеховских произведений.
В отличие от своих героев, Чехов, по мнению Слонима, был «полон жизни», умел вдохновляться природой, людьми, книгами и искусством, любил путешествовать, интересовался наукой и общественными проблемами. Поэтому он не мог простить русской интеллигенции, что она ленива и апатична, уклоняется от своих обязанностей, желая найти удовлетворение в отрицании всего. В своих современниках он показал человека вообще, и поэтому его произведения не утратили актуальности: «Как это ни странно, инертные, пассивные и хмурые люди чеховских драм оказались очень близки деятельным и энергичным американцам, которые <...> испытывают такую же тоску и печаль в беспощадной скорости развития и жизни своих гигантских городов, как и персонажи Чехова в провинциальной пустыне дореволюционной России»141.
Чехов не описывал подробно чувства своих героев, а создавал их портреты, используя внешние признаки; показывал их не в действии, а в «настроении». Поэтому критики объявили его импрессионистом. Его стиль прост и ясен, а предложения коротки и сжаты. Он экономил слова, считая, что в литературном произведении не должно быть ничего лишнего и что всякая деталь в нем должна быть мотивирована. Будучи реалистом «до мозга костей», он в то же время был и утонченным лириком. Его произведения, как подчеркивает Слоним, наполнены особым лирическим настроением, для них характерна своя «ритмика, в которой скрывается одна из тайн неувядаемой красоты» его творений. Как самый крупный стилист в русской литературе, Чехов оказал сильное влияние на молодых писателей. После него, как отметила критика, уже нельзя было плохо писать. Он воздействовал на молодых писателей, помогая им «отказаться от мелодраматичности и бульварщины», он «предостерегал их больше всего от вульгарности и тривиальности»142.
В издании «Letopis Matice srpske» в 1930 г. была напечатана монография Ивана Сергеева, которая позже вышла отдельной книгой. В своем творчестве, как подчеркивает Сергеев, Чехов идет от деталей. Вначале он удовлетворяется тем, что их развертывает и объясняет. Между тем позже он начинает использовать нагромождение деталей, которое в «Степи», например, бросается в глаза. Он реалист, который творит так, что фиксирует во времени и пространстве мгновения, сами по себе непонятные, а затем подчиняет их законам логики. Он дает не абсолютно полную картину, а лишь обозначает самые впечатляющие линии, оставляя за читателями право их дополнить и сделать выводы. Это импрессионистический реализм143.
Чехов не идеализирует людей, но и не обвиняет их. Он их, по мнению Сергеева, просто жалеет и желает облегчить им страдания, как врач больным. В отличие от других русских писателей, которые взяли на себя роль обвинителя или пророка, Чехов смотрел на жизнь прежде всего как художник. «Он также выступал с обвинениями против современной жизни, но они были эстетического характера. Он находил, что жизнь наша лишена красоты, что она банальна, что люди не умеют жить красиво и что они несчастливы, так как им не хватает красоты. Но в то же время он верил, что люди откроют тайну, как сделать жизнь прекрасной»144.
Евгений Ляцкий выпустил в Белграде в 1935 г. «Oglede о ruskoj književnosti XIX veka» («Очерки русской литературы XIX века»). Последняя глава этой интересной книги посвящена Чехову. В ней в первую очередь дается обзор состояния литературы конца XIX в., когда от писателя требовалось, чтобы он был прежде всего художником, хотя социальная основа произведения, разумеется, продолжает оставаться важной.
Как художник Чехов не пошел на поводу у политических и социальных идей, и в этом он близок Мопассану. Между тем отношение этих двух писателей к жизни было различным. Мопассан потерял веру в жизнь, а Чехов ее безмерно любил. Хотя он и был врачом по профессии, он хорошо сознавал, что «область духовной жизни не поддается лабораторным исследованиям, что красоту жизни измерить нельзя и что за человеком — животным, с его телом, всегда подверженным тлению и смерти, скрывается еще что-то неизвестное, но ощутимое в том дыхании жизни, которое и смертному человеку позволяет мечтать о счастье всего человечества»145. В такие минуты, замечает Е. Ляцкий, прояснялось хмурое чеховское небо: «И тогда все герои, до которых докатилась волна его исцеляющего лиризма, переставали быть безобразными, странными, глупыми, скучными, больными людьми и становились людьми без эпитетов и кавычек, собирались в одну семью, выполняя не индивидуально, а сообща чью-то другую волю во имя другого разума, еще не изученного позитивной наукой»146.
Стиль Чехова отличается скупым употреблением деталей и эпитетов. Обычно он показывает только часть портрета или картины, предоставляя возможность читателям их дополнить. Любое явление, случай, которому затем придаются «признаки явления, длительного по времени». В начале своего литературного творчества Чехов шел от действительного события, от конкретного случая, который не нуждался ни в каком объяснении. Между тем позже, по мере накопления жизненного опыта, возрастало и его участие в повествовании. Наиболее очевидно оно проявляется в лирических отступлениях, например, в последних абзацах повестей «В овраге» и «Дуэль».
Под названием «Великие русские писатели» в 1941 г. в Белграде вышла книга доктора Радована Казимировича, который учился в России. Однако глава, посвященная Чехову, не содержит каких-то новых оригинальных идей.
В статье «Французская критика о русской литературе» (1931) Елена Извольская изложила мнение французского писателя Эдмонда Жалу о Чехове. Отметив, что Тургенев показал жизнь такой, какой она была на самом деле, Жалу подчеркивает, что Чехов пошел дальше: его повествование трогает искренностью и правдивостью. Он не только реалист; у него есть и другая, загадочная духовная жизнь, для которой действительность — «только оболочка». Эта особенность отличает Чехова от Мопассана, с которым его часто и ошибочно сравнивают. «У героев Чехова есть какая-то тайна, которую они не могут разгадать: они носят в себе другое существо, которое стремится к свободе и счастью, но никак не может родиться»147.
Двадцатипятилетие со дня смерти Чехова было отмечено рядом специальных статей, лекций, литературных вечеров. Здесь нет всесторонних и глубоких исследований, но даются оценки, которые, без сомнения, повлияли на формирование мнения о Чехове и его творчестве. Югославы, по мнению Миодрага Пешича, высказанному в журнале «Život i rad», — всегда больше любили и переводили Чехова-юмориста и сатирика, чем художника несчастной русской интеллигенции или драматурга, которого они признали лишь после гастролей Художественного театра.
Петр Митропан в журнале «Južni pregled» пишет, что в Москве годовщина смерти Чехова отмечена специальными мероприятиями, самыми значительными из которых были «Неделя Чехова» и новое издание его произведений. Здесь говорилось о непреходящей ценности чеховской критики бездушного бюрократизма и формализма, о значении творчества писателя для воспитания новых поколений. Это вызвало резкий протест со стороны русской эмигрантской печати, которая доказывала, что Чехов с симпатией рисовал царских офицеров и помещиков. Ссылаясь на выдержки из писем Чехова и на мнение Б. Зайцева (о том, что Чехов вне партий и литературных течений), Митропан делает вывод, что к оценке великого писателя нельзя подходить с политической точки зрения. «Политикой Чехов никогда не занимался, по своему характеру он не был борцом. Он был созерцательной поэтической натурой. Его могущество заключается в способности проникать в самые глухие уголки души людей, независимо от того, «правые» они или «левые» <...>. Он весь в своем собственном видении национальной судьбы и в мистических устремлениях русского духа. Он носит траур по бесцельно прожитой жизни целого поколения, ужасную катастрофу которого он предугадывает. Лучший сын русской провинции, он предчувствует надвигающуюся бурю, которая уничтожит «застоявшееся и мертвое море провинциалов»»148.
Эмигрантская газета «Новое время», которая выходила на русском языке в Белграде и редактором которой был сын А.С. Суворина, отметила эту дату статьями и заметками: «Антон Павлович Чехов» и «Болезнь и смерть Чехова» П. Стахова, «Чехов — классик» С. Никитина, «Писатель-интеллигент» А. Плетнева, «Чеховское» Н. Рыбинского, «А.П. Чехов и Суворин» Читателя149.
Тридцатую годовщину со дня смерти Чехова (1934) издание «Vardar» отметило статьей, в которой наряду с другими были и выдержки из критических работ Оболенского, а также воспоминания Вишневского и Короленко150.
Интересными заметками было отмечено семидесятипятилетие со дня рождения Чехова (1935). Разделяя мнение о том, что Чехов «художник серого времени и серых людей», хроникер газеты «Štampa» обращает внимание на следующее: «Обычно, когда выносят подобное суждение, говорят, что и сам Чехов полон печали и отчаяния. Но это не так! ...Когда в начале XX века мрачные тучи сгустились над общественной жизнью России, Чехов сказал свои пророческие слова: «Пришло время, надвигается на всех нас громада, готовится здоровая, сильная буря, которая идет, уже близка и скоро сдует с нашего общества лень, равнодушие, предубеждение к труду, гнилую скуку»»151.
О непреходящем значении творчества Чехова пишет Клавдия Жухина. Подчеркивая, что герои Чехова еще живут, она делает вывод, что это наилучшее доказательство, что его произведения являются не только историческим документом, но и не потеряют своей актуальности «до тех пор, пока в человеке живет раб, которого Чехов, как он сам уверял, вытравлял из себя постоянно всю свою жизнь»152.
Алексей Ремизов свое восприятие Чехова выразил в форме исповеди. Он пишет, что очень рано полюбил Чехова какой-то «сыновьей любовью» и, читая его книги, отдыхал душой, хотя и не видит в нем великого писателя. По его мнению, Чехов входит не в первый (Гоголь, Толстой, Достоевский), не во второй (Лесков, Тургенев, Писемский, Гончаров, Мельников-Печерский), а лишь в третий ряд русских писателей со Слепцовым и Гаршиным. Ремизов не знал Чехова, между тем, когда он заново прочитал «Хмурых людей», с ним произошло что-то необычное. «Приснилось мне, — пишет он, — что в Святой Софии цареградской выставили фрески: мучения Богородицы показывают Замятин и Муратов, а в это время на полотне появляются семь мудрецов: Эйнштейн, Шестов, Шаляпин и Горький — прямо как живые, между тем Шестов с ключом не выходит из рамки, а Шумский сразу разбросал по столу и показывает пластинки с фантастическими сценами; открывается дверь в комнату: Антон Павлович Чехов в черном пальто сидит на зеленой садовой скамейке и как бы изнутри излучает серебристый свет. «Вот и Вы к нам теперь совсем пришли! — говорю я и перехожу через мост, весь уставленный мраморными скульптурами, разноцветными бутылками и сосудами»»153.
Переводится и мемуарная литература о Чехове. Больше всех публикуют Горького. Его «Воспоминания» печатаются в газетах: «Novosti» (1921), «Srpska riječ» (1922), «Beogradske novině» (1924), «Glas Šumadije» (1932) и «Pravda» (1939). Несколько неизвестных писем Горького к Чехову публикует в журнале «Srpski književni glasnik» в 1936 г. Милан Предич. Об этих двух литераторах пишет и газета «Politika» в 1939 г.154
Описание последних минут жизни великого писателя на основании воспоминаний О.Л. Книппер-Чеховой присутствует во всех заметках и статьях этого периода. Более полные выдержки из «Воспоминаний» вдовы Чехова напечатали газеты «Jedinstvo» (1923) и «Štampa» (1934). Фрагменты из писем, которые Книппер писала Чехову, и заметку о них опубликовала газета «Vreme» в 1934 г.155
В более или менее значительных отрывках до сербского читателя дошли воспоминания В. Ладыженского, В. Короленко, И. Бунина, А. Куприна, К. Станиславского, Вл. Немировича-Данченко, А. Суворина, А. Вишневского, М. Первухина, Е. Чирикова и др. Один очерк родился и на нашей земле. Это воспоминания Виктора Ланина, сына известного нижегородского адвоката, у которого Горький работал писарем. Воспоминания напечатаны в форме интервью в газете «Vreme» в 1940 г. Ланин утверждает, что он переписывался с Горьким и был его гостем в Ялте во время гастролей Художественного театра. После исполнения пьесы Гауптмана «Одинокие» у Горького собралось довольно большое общество, и вскоре речь зашла о спектакле. Как говорит Ланин, Горький неодобрительно отозвался о герое пьесы Гауптмана, подчеркнув, что такие безвольные люди не нужны в жизни. На что Чехов мягко ответил: «Алексей Максимович, видите эту слабую молодую березу под вашим окном. Ее от бури защищают большие кипарисы, которые находятся около нее, и они будут защищать ее до тех пор, пока она не окрепнет. Точно так же должно быть и у людей. Если человек слаб для борьбы, обязанность сильных защитить его, помочь ему окрепнуть и направить его туда, где он может быть полезным и себе и другим»156. Вспоминая об этом разговоре, Ланин делает вывод, что Чехов был и остался мягким и нежным человеком, тогда как Горький прошел долгий путь от застенчивого, сентиментального птицелова до революционера.
Продолжая изучение произведений Чехова, сербская критика межвоенного периода шла одновременно и вширь и вглубь. Был сделан обзор всего творчества Чехова, восполнены многие пробелы, возникшие в предшествующее время. Одним из самых больших пробелов оставался период начала творчества, который оказался недостаточно освещенным в связи с тем, что в Сербии о Чехове стали писать только с 1888 г. Значительный вклад в это внес Л. Захаров, который сообщал о записных книжках Чехова в издании Е. Коншиной; о сборнике «А.П. Чехов» под редакцией М. Беляева и А. Долинина; о сборнике, который был издан Обществом по изучению творчества Чехова; о собрании писем Чехова под редакцией Н. Пиксанова и Л. Фридкеса и о книге ранних рассказов, вышедшей в издательстве Academia в 1929 г. В рецензии на это последнее издание Захаров подчеркивает, что эволюция Чехова от пародий и газетных статей до «Дома с мезонином» очень велика, «одна из самых значительных в истории русской литературы»157.
Должное внимание в сербской критике 1920—1940-х гг. уделено анализу самых значительных произведений Чехова, прежде всего таких, как «Степь», «Скучная история», «Палата № 6», «Мужики», «Невеста» и др. Об этих произведениях появилось больше всего исследований. Не оставлен без внимания и вопрос о традиции творчества Чехова. Большинство критиков видит в Чехове продолжателя и последнего представителя русского реализма XIX в. Когда пишут о предшественниках и тех, у кого он учился, обычно упоминают Гоголя, Тургенева, Толстого. Как мастер слова Чехов приравнивается к Пушкину и называется самым лучшим стилистом в русской литературе. Здесь прежде всего следует отметить работы Слонима, Пешича и Стахова.
Все критики подчеркивают, что Чехов реалист, но немало и таких, которые указывают на новшества в его художественной манере, характерные для импрессионизма и символизма. Писатель, как они отмечают, изображает не всю жизнь своих персонажей, а только один эпизод из нее, дает не подробный портрет героя, а только самые характерные черты, предоставляя читателю возможность самому дополнить их, не проникает в душу героев, а показывает их настроения через внешние детали. Для одних это импрессионизм, для других — импрессионистический лиризм, для третьих — импрессионистический реализм, для четвертых — импрессионистический символизм. В одном все единодушны: после Чехова невозможно писать по-старому; Чехов — классик и в то же время новатор. Подчеркивая, что в нем соединяются Тургенев и Толстой — с одной стороны, и символисты — с другой, Максимович, по существу, повторял мысль А. Белого о том, что в Чехове Толстой соприкасается с Метерлинком, что он одинаково «примыкает и к старым, и к новым авторам»158.
Некоторые критики пишут об асоциальности и аполитичности Чехова, подчеркивая при этом, что художник имеет право говорить правду о жизни, не принимая во внимание политико-социальные доктрины. Эта точка зрения, по всей вероятности, взятая из какого-то русского источника, настолько соответствовала настроениям, которые были присущи сербской литературе, что может быть найдена в ряде исследований и даже в предисловии Продановича (см. примеч. 132).
Вопрос о чеховском пессимизме, соответственно — оптимизме, рассматривается в непосредственной связи с русской действительностью. Те, кто видят в Чехове пессимиста, склонны объявить его типичным представителем времени и отождествить с его героями. С наибольшей определенностью такой позиции придерживаются Спекторский и Витезица. Те же, кто видят в Чехове оптимиста, подчеркивают, что Чехов, несмотря на тяжелую болезнь, был человеком, полным жизни, и стоял высоко над своими героями, к которым относился критически. Утверждению этой точки зрения больше других способствовали Слоним, Ксюнин и Митропан.
Вместо пантеизма, о котором достаточно много писали раньше, теперь говорят о мистицизме и спиритуализме в произведениях Чехова, в чем, без сомнения, ощущается воздействие сербского символизма. Им обусловлен и повышенный интерес к русским и французским критикам, которые в творчестве Чехова искали загадочную духовную жизнь и символы Вечности («серые тропы Вечности») и т. д. Еще один шаг сделал Аскоченский, приписав Чехову религиозные чувства. Процитировав Вишневского, отметившего, что от религии у Чехова осталась лишь любовь к колокольному звону159, Аскоченский подобранными выдержками из писем пытается показать, что автор «Вишневого сада» перед смертью все же вернулся к Богу. При этом, конечно, не случайно он пропускает письмо 1903 г., в котором Чехов помимо всего прочего пишет: «... я давно растерял свою веру и только с недоумением поглядываю на всякого интеллигентного верующего» (XI, 234). Попытка Аскоченского осталась единственной. Из других критиков этим вопросом больше всего занимался Спекторский. Ссылаясь на воспоминания современников и выдержки из писем, он утверждал, что Чехов был далек от всякой религиозности.
Никто больше не считает, что Чехов был равнодушен к событиям и героям, о которых он писал. Наоборот, многие доказывают, что Михайловский заблуждался, когда говорил, что Чехов одинаково спокойно пишет и о слоне, и о самоубийце. Между тем некоторые впадают в другую крайность, представляя Чехова утешителем, сочувствующим всем людям и призывающим к всеобщему взаимопониманию и всепрощению. Это мнение, весьма распространенное в русской критике (Д. Философов, в частности, утверждал, что Чехов своих маленьких героев утешал добрым словом, как старая нянька липовым чаем160), чаще всего встречается в работах эмигрантов. В то время как газета «Stampa» осталась одинокой в попытке показать Чехова борцом за новое, социалистическое общество, русские эмигранты представляли его как своего единомышленника. Отсюда стремление изобразить русского прозаика флегматиком, характерная черта которого статичность; отсюда любовь к России, которую он рисовал; отсюда и готовность отождествить Чехова с его героями. Это сожаление о старых временах проявлялось критиками-эмигрантами и в работах о других русских писателях, чего сербская действительность им не прощала. Так, например, газета «Vreme» (1924) напоминает русским эмигрантам, что старая Россия, о чьей боли и ужасах рассказывали Гоголь, Достоевский, Толстой и Чехов, сама себя разрушила, и делает вывод: «Свободная Россия будет настоящей Россией. Та, вчерашняя, царская умерла»161.
Некоторые статьи требуют специального рассмотрения. Как уже было сказано, Проданович в своем предисловии к рассказам Чехова очень часто ссылался на А. Измайлова. При этом у него были странные критерии.
А. Измайлов поставил Чехова в один ряд с самыми крупными русскими писателями, такими, как Гоголь, Тургенев, Достоевский и Толстой. Проданович же считает, что и в этическом плане и по таланту Чехов слабее не только четырех упомянутых писателей, но и Чернышевского и Щедрина. Проданович использовал также и книгу Волжского. Сравнив отношения русских и французских писателей к крестьянину, он пишет: «Мопассан нашел массу недостатков, пороков, страстей и у французских крестьян, и у мелкой буржуазии, и в высшем свете, но его это даже не задело, а не то чтобы вызвало боль»162. В аналогичном контексте Волжский отмечает: «Мопассан рисует французского крестьянина таким, как он есть, не испытывая при этом никакой боли»163. Между тем и у Волжского Проданович не мог найти оснований для своего подчеркнуто критического отношения к Чехову. Напротив, и этот русский критик был очень высокого мнения о Чехове.
Почти все критики, которые в этот период писали о Чехове, опирались на русские источники. Благодаря этому сербские читатели познакомились с Михайловским, Скабичевским, Оболенским, Бурениным, Розановым, Струве, Ивановым-Разумником, Батюшковым, Овсянико-Куликовским, Волжским, Измайловым, Айхенвальдом, Луначарским, Венгеровым, Ходасевичем и др. Когда дело касается сведений о жизни и деятельности Чехова, больше всего цитируют Измайлова, а когда речь идет об оценке творчества, чаще всего ссылаются на Волжского и Айхенвальда, знакомство сербских критиков с которыми не было случайностью. Волжский воспринимался как представитель неоидеализма с примесью мистических настроений, а Ю. Айхенвальд — как один из видных русских символистских критиков. Также стал известен в Сербии и французский критик Э. Жалу, открывший в творчестве Чехова нечто большее, чем обычный реализм: духовную жизнь, для которой действительность является «только оболочкой».
1946—1980 гг.
Революция, которая происходила одновременно с борьбой за освобождение страны от оккупантов (1941—1945), установила в Югославии социалистический общественный строй. Восстановление разоренной войной страны требовало привлечения всех имевшихся сил. От литературы ожидали содействия в скорейшем становлении новых общественных отношений и нового общественного сознания. В первые послевоенные годы для этого активно используются произведения советских писателей, особенно Максима Горького. Можно сказать, что это время не было благосклонно к Чехову. И все-таки его рассказы интенсивно переводятся, его одноактные пьесы и драмы ставятся на многих сценах.
В начале пятидесятых годов изменившийся общественный климат обеспечил большую свободу и более трезвый подход к литературе и ее роли в общественной жизни. Это вскоре привело к расцвету сербской литературы, которая отличается удивительной широтой тем, богатством художественных форм и методов. Усилившийся интерес к Чехову был составной частью этой новой литературной ситуации.
Чехов был в числе первых писателей, чьи книги появились в Сербии сразу же после войны. В 1946 г. в Белграде вышли две книги: «Человек в футляре» и «Каштанка». В следующем году в издательстве «Mala biblioteka Ježa» появилась небольшая книга юмористических рассказов Чехова под названием «Затмение луны», а издательство «Kultura» выпустило «Рассказы» под редакцией Божидара Ковачевича. С тех пор не проходит года без книги рассказов Чехова, независимо от того, новое это издание или переиздание. Перечисление их потребовало бы много места, остается упомянуть только самые значительные. Книга ««Каштанка» и другие рассказы» (1964) в переводе Милана Табаковича с предисловием Ивана Цековича долгое время входила в список обязательной литературы для учеников средних школ и неоднократно переиздавалась. За ней следуют «Избранные рассказы» (1960) в переводе и с предисловием Милослава Бабовича; «Избранные рассказы» (1961) — составление и предисловие Наны Богданович; «Рассказы» (1963) в переводе Ольги Влаткович с предисловием Светы Лукича. Рассказы Чехова переводили также Митар Максимович, Миодраг Пешич, Драгомир Марич, Мила Стойнич, Драгослав Илич, Сергие Сластиков, Родолюб Чолакович, Кирилл Свинарский. Интересной представляется небольшая книга «Избранные рассказы», изданная в Белграде в 1958 г. на русском языке под редакцией и с предисловием К. Свинарского.
Семидесятая годовщина со дня смерти Чехова отмечена изданием его Собрания сочинений в 10 томах под редакцией М. Бабовича. В девяти первых томах напечатано в общей сложности 317 рассказов и повестей, а в десятый том вошли одноактные пьесы и драмы. Переводили эти произведения О. Влаткович, М. Бабович, Андрей Тарасьев, М. Пешич, Михайло Подольский, Косара Цветкович, Мария Стоилькович, С. Сластиков, П. Митропан, Александр Терзич, Светлана Парезанович, Вида Стеванович, Десанка Максимович, М. Табакович, Людмила Михайлович, Йован Яничиевич и З. Божович. В первом томе напечатано и обширное предисловие М. Бабовича.
Сто двадцатая годовщина со дня рождения Чехова отмечена новым изданием Собрания сочинений в 12 томах. В двух последних книгах впервые напечатаны письма Чехова. Составителем книг и переводчиком был З. Божович. Все тома снабжены краткими комментариями, в которых даны основные сведения о произведениях и о их первом появлении в Сербии.
Успехи драм Чехова на Западе вызвали у И. Секулич в 1955 г. размышления о сербской юмористике: «Жизнь подшучивает над главными героями, Чехов пошучивает над жизнью. Париж и Лондон говорят: музыка, поэзия, нет, этому нет названия... А название есть: это искусство, специфическое искусство русского юмора. Порядок среди хаоса, равновесие. Если Костя должен покончить с собой, то Астров должен увянуть, как тюльпан. Почему нам и сегодня нравится этот устаревший юмор? Почему юмор Томаса Манна не убеждает? Юмористы, проснитесь! Чопич, разве Вы не видите нашего Дон Кихота, который не думает, что ветряные мельницы — люди, а думает, что люди — ветряные мельницы... Не откладывайте, Чопич!»164
Популярность Чехова постоянно растет, о чем красноречиво свидетельствует как большое количество изданий, так и то, что его Собрание сочинений было распродано меньше чем за год. Это дает основание предположить, что его изучали многие современные сербские писатели. К уже упомянутым в предшествующей главе стоит добавить еще несколько имен. Один из ведущих сатириков Владимир Булатович Виб не скрывает своей приверженности Чехову. В письме Рашко Димитриевичу он между прочим пишет: «Теперь снова немного о Чехове, точнее, о его мастерстве. Он может написать роман на полторы страницы. Как были глупы критики его времени: они подстрекали его написать что-нибудь великое — большой роман. Он это великое уже писал на двух страницах, только они не могли этого увидеть. Потому что для них роман должен быть толстой книгой и обязательно в твердой обложке (это из-за твердых голов)»165.
Булатович упомянет Чехова и в «Слове о Душко Радовиче»: «Я принадлежу к поколению (несколько моложе Радовича), которое, как и он, любило Чехова, притом Чехова из рассказа «Тоска»... «Tužna pesma» («Тоскливая песня») и Радович возвращают нас к Чехову и его рассказу «Тоска»»166.
Брано Црнчевича, если судить по его юмористическо-сатирической прозе, пронизанной утонченным лиризмом, когда-то в прошлом наверняка тоже воодушевлял Чехов.
Знаменитый прозаик Антоние Исакович в числе своих любимых писателей называет Гоголя, Достоевского и Чехова. Излагая свое понимание писательского мастерства, он, как и Чехов, подчеркивает, что одинаково важно: 1) не тратить напрасно слов, 2) уметь переписывать собственные тексты и 3) уметь вычеркивать167.
Можно с уверенностью сказать, что и некоторые прозаики среднего и молодого поколения находят импульсы в творчестве Чехова, но этот вопрос требует более глубокого исследования.
* * *
В 1946 г., в журнале «Naša Književnost» была напечатана статья: М. Горький «Три встречи»**, где речь шла о Чехове. В качестве предисловия к сборнику «Рассказы» (1947) помещено эссе Горького о повести Чехова «В овраге»***.
Главным источником для изучения творчества Чехова до середины пятидесятых годов становится книга В. Ермилова, вышедшая в 1946 г. в издательстве «Kultura». Целиком эта книга была напечатана в г. Нови-Сад в 1949 г. в переводе Владана Недича.
После войны о Чехове писали многие литераторы и критики, среди которых Младен Лесковац, П. Митропан, В. Глигорич, Милица Милидрагович, Ристо Трифкович, Миливое Йованович, Сава Пенчич, Витомир Вулетич, Живоин Бошков, Мирко Магарашевич, Йован Христич, Лев Захаров, Мила Стойнич, Владета Янкович и Аница Шаулич. Среди многочисленных работ, которыми была отмечена пятидесятая годовщина со дня смерти Чехова, выделяется статья П. Митропана, напечатанная в журнале «Književne novine». В ней, в частности, говорится о зависимости писателя от времени, в которое он жил, о его мечте о лучшем будущем и более совершенных людях. Как художник Чехов был более прогрессивным, чем современные ему политические партии, и последовательно придерживался своей программы и своих идеалов. «Прогрессивный характер творчества Чехова, — пишет Митропан, — особенно очевиден в последние годы его жизни, когда в его произведениях острее ставится вопрос о бюрократической абсолютистской России, когда он видит необходимость изменения современного общественного строя и показывает историческую бесперспективность и несостоятельность дворянства и буржуазии. С другой стороны, он хочет вселить в читателя и зрителя оптимизм, заразить его своей верой и предчувствием новых форм жизни, воплотить в художественных образах тех, кто бежит из «вишневого сада» и не жалеет об этом. В этом он близок своему более молодому современнику М. Горькому»168.
Среди работ, которыми отмечено столетие со дня рождения Чехова, самой обширной является статья В. Глигорича, напечатанная в журнале «Savremenik». Рассматривая начальный период творчества писателя, Глигорич подчеркивает, что комическое и трагическое уже в первых его рассказах переплетаются и сливаются воедино. Под гнетом повседневности люди меняются и гибнут; их трагедия породила в нем печаль и тоску, которая, «как лирический траурный креп, всегда в его произведениях окутывает загубленные человеческие жизни». От пагубного действия этой темной силы Чехов защищался юмором: «В блестящей работе о Чехове Луначарский пришел к убедительному выводу, что юмор заменил ему гнев против всего того, что он не мог принять в тогдашней общественной действительности. Чеховский юмор в его более зрелый творческий период действительно представляет собою позицию по отношению к глупости, нечеловеческому уродству и скуке жизни, но в то же время он является как бы щитом, закрывающим объективность истины от сентиментализма и идеализации в показе жизни и человека. Его юмор не переходит в цинизм, нет в нем и зубоскальства, сарказма, он не оскорбляет человека. За этим юмором стоит философ, который видит слабости человека и понимает их; за ним стоит лирик, который свое видение смешных сторон жизни и деформации человеческой натуры и характера обвивает вуалью грусти, руководствуясь благородными и добрыми побуждениями сердца»169.
«Очень нежный, очень тонкий диагностик, он <Чехов> устанавливал причины взаимного непонимания людей и их отчуждения. Для него человеческое существо — сложный механизм, состоящий из множества колесиков, винтиков и клапанов, и поэтому подверженный обманам и самообманам в оценке своей личной жизни, достоинств, недостатков и поступков».
Глигорич точно подметил, что свои внутренние монологи, свои размышления о человеке, о его настоящем и будущем Чехов вложил в уста своих персонажей, не только оригинальных и одаренных, но и самых обыкновенных. Как современный писатель, он не все раскрывал читателю, предоставляя ему возможность самому многое додумать и оценить. «В поэтической ткани новеллы и драмы, — пишет Глигорич, — Чехов — импрессионист, певец символа, тени, нюанса, утонченной, очень сдержанной и нежной эмоциональности. У него между человеком и природой духовное и эмоциональное согласие — флюиды души. Как лирик, вдохновленный природой, ее атмосферой и особенно ее настроением, он пишет музыку этой эфирной гармонии, этого волшебства, которым природа вдохновляет человека в чутком сне. Он любит тишину и обладает обостренным слухом, улавливающим едва различимые шумы, шепоты, голос сверчка в полумраке, звук где-то лопнувшей струны, отозвавшейся эхом в человеческом сердце. Лирически тепло он передает сумерки, лунную ночь, рассвет и туман. Его лирика нежная, мягкая и ласковая, несмотря на человеческие трагедии, которые прорываются в его ноктюрне»170.
Три интересных замечания сделал М. Йованович в предисловии к повестям «Степь» и «Дуэль» (1964). Первое. Хотя Чехов и нарисовал мрачную картину России, он не пессимист, он «разрушитель границ, обветшалых ценностей и разных канонов, а его произведения трудно подогнать под существующие схемы: это и не комедия, и не трагедия, или, лучше сказать, это и то и другое, но ничего строго определенного». Второе. Письма Чехова показывают его недоверие к функции искусства: «Как начинающий писатель, Чехов только «открывал» и посмеивался над тем, что открыл; как зрелый писатель, он стал еще более терпимым, и это минимальное субъективное критическое начало исчезает при столкновении с абсолютно объективным описанием». Третье. Лиризм, который становится определяющей особенностью чеховского рассказа, означает кризис классического реалистического метода: «В девяностые годы Чехов стал первым представителем импрессионизма в русской литературе. Этот тон, проявляющийся в устранении авторского «я» из текстов, вместе с тонким психологизмом и все возрастающим преклонением перед поэтической формулой «не высказывать оценку», «не предугадывать исхода события», — характерная черта самых значительных достижений Чехова-новеллиста»171.
В статье «Антон Павлович Чехов и ошибочный анализ» (1964) С. Пенчич полемизирует с В. Назаренко, который в 1963 г. в журнале «Вопросы литературы» писал о повести Чехова «Дом с мезонином». Назаренко придерживается той точки зрения, что суть этого произведения не в критике «теории малых дел», поскольку в споре между Лидой Волчаниновой и художником аргументация Лиды сильнее настолько, что она даже и своим молчанием развенчивает проповедь художника о «настоящем» призвании человека. В поисках идеи повести В. Назаренко приходит к выводу, что художник на самом деле влюблен не в Мисюсь, а в ее сестру, которая не отвечает ему взаимностью и с которой он поэтому ссорится. Не соглашаясь с такой интерпретацией, Пенчич делает вывод: «Назаренко пытается обратиться к самому произведению и отрицает его исключительно социальный подтекст, с которого начинается социологическая критика, но, восприняв ошибочно само понятие «подтекст» как эстетический феномен и придумав значение, которое в самом произведении отсутствует, он вместо того, чтобы приблизиться к Чехову, на самом деле отдалился от него, грубо обеднив богатое и глубокое содержание его необыкновенной новеллы»172.
Заметное место занял Чехов в книге Милы Стойнич: «Ruski pisci» («Русские писатели») 1974 г. Чехов изображен как писатель, продолжающий традицию и в то же время отступающий от нее. Комические ситуации, которые раньше строились на контрасте и недоразумении, он создает на несоответствии внутреннего переживания людей и действительности. «Фактографически точно воспроизводя обстоятельства, события и вечное изумление человека перед неожиданностями жизни, своего рода несбыточность его надежд и ожиданий, рисуя все с точностью документалиста, как бы застигнутым «in flagranti»****, Чехов превращает свою миниатюру в развернутую метафору. Точнее, он рассказывает только о внешних событиях и обстоятельствах, но делает это так, что несоответствие этих событий ожиданиям и надеждам его героя становится очевидным. Это несоответствие, в основе которого лежит противоречие между сном и явью, мечтой и реальностью, относится по сути своей к категории трагического. Между тем Чехов это трагическое столкновение ставит в рамки банальной ситуации и показывает, что трагизм — это категория нашего внутреннего восприятия мира, а не стечения обстоятельств, что он в нас, а не вовне»173.
Давая психологическую характеристику своих героев, Чехов, в отличие от Достоевского и Толстого, не проникает в мрачные и таинственные глубины. «Он избегает описательных и откровенно аналитических приемов в создании образа. Чаще всего он использует прием самораскрытия человека; очень мрачно, «grosso modo»5* с помощью двух-трех самых характерных деталей он описывает обстоятельства. И обычно образ строится им как целостное описание личности в фокусе какого-то мгновения, или как описание личности в ряде мгновений ее жизни, так что каждое из этих мгновений представляет собой самостоятельное целое, которое либо подтверждает, либо развивает, либо уводит от первоначально определенной линии характера»174.
Анализируя пейзаж в произведениях «Дама с собачкой» и «Степь», М. Стойнич приходит к выводу, что у Чехова предметы и люди всегда покрыты какой-то вуалью, которая создает впечатление неопределенности. «Лирические миниатюры Чехова, как правило, представляют собой серию импрессионистических изображений людей на пленэре. Этот пленэр — всегда типично русская природа, фон, на котором показаны страдания русских людей, как у Гоголя. Различие между русским пейзажем Гоголя и Чехова заключается только в том, что пейзаж Гоголя контрастирует с этими страданиями, русская природа у него ликующая, роскошная, богатая. У Чехова она посеревшая, нервная, печальная. Он смотрит на нее так же, как и на людей, желая найти в ней то, что из-за своей обычности и обязательности в такой степени привычно, что вовсе и не замечается, не видится»175.
Свидетельством большой любви к Чехову остается книга Аницы Шаулич, вышедшая в 1974 г. в Белграде. Кроме обширной биографии писателя, она содержит и обзор его прозаических и драматических произведений.
Предисловие к Собранию сочинений написано М. Бабовичем, автором самого обширного исследования о Чехове. Задуманное как монография, оно дает полное представление о творчестве Чехова, определяя его место на самой вершине мировой литературы. То, что Чехов — последний корифей русской литературы XIX в., прочно связанный уже с XX веком, дает автору основание для того, чтобы постоянно сравнивать Чехова с предшественниками и постоянно выделять новаторские моменты в его творчестве. Маленький человек, один из главных героев русского реализма, у Чехова не столь симпатичен, как у Пушкина, Гоголя, Некрасова и Достоевского. Он часто забывает о благородстве, достоинстве, совести. И в интерпретации падшей женщины Чехов тоже отличается от своих предшественников: «Страдания Анюты и Ванды не похожи на страдания Сони и Катюши, окруженные ореолом общечеловеческой боли. У Чехова ужас морального падения — в каждодневности, в банальности драмы. Он — в том, что в случае с Анютой и Вандой нельзя «преклониться перед страданием всего человечества». В человеческом страдании, показанном без ореола, может быть, и есть окончательный приговор миру, в котором за деньги можно купить живого человека»176.
И в подходе к описанию русской деревни имеется огромное различие. «Тургенев пытался доказать, что крестьянин по своему моральному и душевному складу стоит высоко над своими господами. Некрасов писал: «В рабстве спасенное, сердце свободное — золото, золото сердце народное!». Достоевский верил в то, что народ хранит высокие этические заветы. Толстой призывал русскую интеллигенцию учиться у крестьян мудрости жизни. В противовес им картина, нарисованная Чеховым, убеждает нас в том, что крестьянин в своей духовной нищете превосходит всех, что у него нет устойчивых моральных норм, что он никого и ничему не может научить»177.
И в изображении природы заметны значительные новшества. Показывая их на примере повести «Степь», Бабович пишет: «Так Чехов достиг синтеза реалистического и импрессионистического метода в изображении природы. Об этом свидетельствуют элементы картины: соотношение цветов важнее соотношения объектов; свет открывает мир; картина не является иллюстрацией темы; исключительное внимание к атмосферным явлениям и световым эффектам; сущность — в том, что можно видеть, а не в том, что известно об увиденном; поэтому картина — это то, что бросается в глаза в данный момент, результат эфемерного видения мира. А все это узаконивает принцип примата впечатления над объектом». Слова и звуки в чеховском описании приобретают магическую силу. Чтобы показать это, Бабович приводит как пример описание грозы в степи: «Вдруг рванул ветер и с такой силой, что едва не выхватил у Егорушки узелок и рогожку; встрепенувшись, рогожа рванулась во все стороны и захлопала по тюку и по лицу Егорушки. Ветер со свистом понесся по степи, беспорядочно закружился и поднял с травою такой шум, что из-за него не было слышно ни грома, ни скрипа колес» (7, 85) и комментирует: «Весь текст организован повторением через асимметричные интервалы звуков р, с, ш, ж, л. Их частота соответствует силе природных звуков, с которыми они ассоциируются: р — гром, с, ш, ж — шум ветра, л — ливень. Повторения слов чаще всего так распределены, что выполняют также функцию внутренней рифмы или рефрена: ветер, рогожа, рвануть, Егорушка, поэтому текст можно разделить на ритмические периоды, которые звучат как белый стих. Благодаря этому описание степи воспринимается как особый вид прозы, эвфонические элементы которой создают мелодичность»178.
Необычную статью опубликовал в 1981 г. в газете «Reporter» психиатр Владимир Адамович. В ней в специфическом ракурсе рассматриваются отношения Чехова к родителям, братьям и сестрам, к женщинам, которые его любили, к общественным проблемам. Подчеркивая, что туберкулез оставил неизгладимый след в характере и творчестве писателя, Адамович пишет: «Пессимизм, грусть и меланхолия, которыми пронизаны его поздние произведения, — результат не только ухудшающегося общественного климата в самодержавной России начала XX в., но и влияния тяжелой болезни на психику писателя. Этот пессимизм по своим проявлениям и по форме, и по времени сопровождал развитие ни на миг не прекращавшегося процесса разрушения легких. Эта тесная взаимосвязь физического и душевного состояния Чехова, которую можно проследить как по его письмам, так и в его произведениях, — еще одно доказательство единства тела и духа: все, что касается одного проявления личности, не может не касаться другого»179.
Критическая литература о Чехове 1950—1980-х гг. значительно богаче и разнообразнее. Если в первое послевоенное десятилетие тон в исследовании творчества Чехова задает В. Ермилов, то во второй половине пятидесятых годов сербская критика постепенно выходит из-под его влияния и отвергает некоторые его положения. Значительно дольше продолжается влияние Горького, которого цитируют во всех статьях. Критическая литература о Чехове косвенно свидетельствует и об атмосфере в сербской литературе. Характерно, что даже Митропан, писавший о Чехове в межвоенный период и уделявший тогда большое внимание элементам символизма в творчестве писателя, в статье 1954 года о символизме Чехова уже не упоминает, а строит свою оценку, опираясь в основном на Горького. Это отражает общую позицию сербской критики 1940-х — начала 1950-х гг., рассматривавшей тогда Чехова как реалиста по преимуществу. Но в дальнейшем, в 1960—1980-е гг., критики вновь заговорили о наличии элементов импрессионизма и символизма в его творчестве.
Наряду с Достоевским и Толстым Чехов вот уже почти целый век находится на самой вершине сербской переводной литературы. Он пришел к нам в конце XIX века благодаря большому интересу к русским прозаикам, но очень быстро стал своим. Его творчество благотворно влияло и на развитие сербской оригинальной литературы.
Антон Чехов. Три сестры. Загреб, 1922. Перевод М. Богданович. Титульный лист
А.П. Чехов. Собрание сочинений в 14 томах. Белград, 1939. Титульный лист и содержание первого тома
Чехов в воспоминаниях современников. Белград, 1957. Суперобложка
А.П. Чехов. Белолобый. Белград, 1957. Художник А. Андреевич. Титульный лист
Аница Шаулич. А.П. Чехов. Белград, 1974. Обложка
М. Бабович. Рассказы и драмы А.П. Чехова. Белград, 1971. Обложка
Примечания
Редколлегия приносит благодарность М.И. Карасевой, внимательно ознакомившейся с материалом этого обзора.
*. См.: 11, с. 5—180 (под загл. «Безотцовщина»).
**. Статьи под таким заглавием в собраниях сочинений Горького нет. Известные воспоминания Горького о Чехове, под заглавием «А.П. Чехов», публиковались по частям три раза — в 1905, 1923 и 1924 гг. (См.: А.П. Чехов в воспоминаниях современников. М., 1986. С. 683).
***. Имеется в виду статья: Горький М. Литературные заметки. По поводу нового рассказа А.П. Чехова «В овраге» (Нижегородский листок. 1900. № 29).
****. На месте преступления (ит.).
5*. В общих чертах, вкратце (ит.).
1. Общественно-политические и культурные связи народов СССР и Югославии. 1957. С. 278; L.D. Cehov na vojvođanskim pozornicama // Vojvođanska scena. 1946. № 4. S. 45; Subotin S. Slovenske književnosti u Zori // Zora. Počasni broj. 1968/69. S. 252; Narodni dnevnik. 1991. № 17. S. 3.
2. Misao. 1928. Kn. XXVIII. Sv. 7—8. S. 391.
3. Pogodin A. Russko-srpska bibliografija. Beograd, 1932. Kn. I. D. 1. S. 250.
4. Bosanska vila. 1891. № 1. S. 16; Javor. 1891. № 2. S. 32.
5. Knjiga i svet. 1960. № 31. S. 6.
6. Надпись опубл. в статье З. Божовича ««Алкивиад Нуша» и «Антоша Чехонте»» // R.-D. Huge (Hrsg). Anton P. Čechov Werk und Wirkung. Vorträge und Diskussionen eines internationales Simposiums in Badenweiler im Oktober 1985. Teil II. Wiesbaden, 1990. S. 1037. См. также: Ханило А. Личная библиотека А.П. Чехова в Ялте. С приложением, составленным Петером Урбаном. Франкфурт-на-Майне, 1993. С. 136—137.
7. Zastava. 1901. № 260. S. 3.
8. Srpski književni glasnik. 1901. Kn. V. Sv. 8. S. 543—545.
9. Ibid.
10. Ibid.
11. Цит. по: Popović В. Ogledi i članci iz književnosti. Beograd, 1959. S. 85—86.
12. См.: Živković D. Evropski okviri srpske književnosti. Beograd, 1970. S. 378.
13. См., например: Brka. 1889. № 30. S. 4.
14. Bič. 1889. № 4. S. 4.
15. Sabrana dela Branislava Nušića. Kn. XVI. Beograd, 1932. S. 85.
16. Подробнее об этом: Božović Z. Alkibijad Nuža i Antoša Čehonte // Filološki pregled. 1975. Sv. 3—4. S. 83—90. Ср. примеч. 6.
17. Najdanović M. Seoska realistička pripovetka u srpskoj književnosti XIX veka. Beograd, 1968.
18. См. об этом в статье В. Вученова «Glavne faze u razvitku srpskog realizma» // Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor. 1963. Xa 1—2. S. 106.
19. Trgovinski glasnik. 1904. № 155. S. 1—2.
20. Sekulić I. Sabrana dela. Kn. IX. Novi Sad, 1966. S. 276—277.
21. Enciklopedija Jugoslavija. Kn. 7. Zagreb, 1968. S. 476.
22. Общественно-политические и культурные связи народов СССР и Югославии. С. 279.
23. Universitetska biblioteka u Beogradu. R.D. 1976.
24. Matoš A.G. Sabrana djela. Kn. VIII. Zagreb, 1973. S. 318.
25. Хватов А.И. Бранислав Нушич и русская литература // Из истории русско-славянских литературных связей в XIX в. М.; Л., 1963. С. 238.
26. Brankovo kolo. 1902. № 15. S. 479.
27. Srpski glas. 1904. № 28. S. 3.
28. Общественно-политические и культурные связи народов СССР и Югославии. С. 279.
29. Русско-югославские литературные связи. М., 1975. С. 15—16.
30. Там же. С. 21.
31. Skerlić J. Istorija nove srpske književnosti. Beograd, <1953?>. S. 385.
32. Matavulj S. Belješke jednog pisca // Matavulj S. Sabrana djela. Kn. IV. S. 223.
33. Skerlić J. Op. cit. S. 388.
34. Ranković S. Seoska učiteljica. Beograd, 1969. S. 13; Бабович М. Русский роман и творчество Светолика Ранковича // Русско-югославские литературные связи. С. 158.
35. Lazarević B. Impresije iz književnosti. Kn. 1. Beograd, <1935?>. S. 81.
36. Общественно-политические и культурные связи народов СССР и Югославии. С. 279.
37. Skerlić J. Pisci i knjige. T. IV. Beograd, 1964. S. 209.
38. Stražilovo. 1888. № 19. S. 304.
39. См.: Grčić V.J. Portreti s pisama. Zagreb, 1921. S. 97.
40. Kolo. 1889. № 22, 25.
41. Red. 1894. № 2. S. 2—3.
42. Ibid.
43. Ibid. № 6. S. 3.
44. Videlo. 1894. № 65. S. 3.
45. Ibid.
46. Stražilovo. 1894. № 32. S. 509.
47. Zora. 1899. № 1. S. 28.
48. Srpski glas. 1900. № 42. S. 1.
49. Zastava. 1904. № 150. S. 1. (б/п).
50. Trgovinski glasnik. 1904. № 155. S. 1—2.
51. Matavulj S. A.P. Čehov // Letopis Matice srpske. 1904. Kn. CCXXVII. Sv. 5. S. 125—129.
52. Ibid.
53. Glas Srpstva. 1904. № 27. S. 3; Štampa. 1904. № 191. S. 1—2; Novi svet. 1904. № 182. S. 1; Pozorište. 1904. № 26. S. 3.
54. Večernje novosti. 1904. № 207. S. 2.
55. Prijegled. 1904. № 20—21. S. 317—320.
56. Vihor. 1914. № 4. S. 74.
57. См.: Vučenov D. Glavne faze u razvitku srpskog realizma // Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor. 1963. S. 124.
58. Skerlič J. Op. cit. S. 439.
59. M.S.M. Dve knjige o Rusiji // Srpski književni glasnik. 1912. Kn. XXIX. Sv. 6. S. 462—463.
60. Pandurović S. Dosadna književnost // Bosanska vila. 1911. № 1. S. 2.
61. Enciklopedija Jugoslavija. Kn. 7. S. 475.
62. Srpska književna zadruga. 1908. № 1. S. 6—7.
63. Ibid. 1909. № 3. S. 24.
64. В частности, по поводу героя Милевича Глигорич пишет: «Это человек весь из нервов, чрезвычайно чувствительный ко всему, болеющий неприятием действительности и мира, кого судьба будет бросать в объятия отверженных и кто станет объектом внимания современной литературы» // Gligorić V. U vihoru. Beograd, 1962. S. 137.
« Gligorić V. Senke i snovi. Beograd, 1962. S. 108.
65. Janković M. Ispovesti. Beograd, 1913. S. 24.
66. Glišićeva S. Moje uspomene. Beograd, 1933. S. 61.
67. Bosanska vila. 1905. № 19—20. S. 316—317.
68. Ibid.
69. См. письмо Ягича профессору университета Л. Стояновичу: «И Йован Максимович хорошо защитил у нас докторскую диссертацию. Он знает новую русскую литературу как мало кто в Сербии. Наши профессора могли бы ему предоставить по крайней мере кафедру для чтения лекций» (архив Сербской академии наук. № 6989).
70. Maksimović J. Anton Čehov. Beograd, 1905. S. 19—20.
71. Ibid. С. 57—58.
72. Letopis Matice srpske. 1906. Kn. 235. S. 128—129; Politika. 1905. № 558; Delo. 1906. Kn. XXXIX. S. 258.
73. См. Заболоцкий П. Антон Чехов. Написано Іован Максимовић // Русский филологический вестник. Т. 55. Варшава, 1906. С. 342. Отдельный оттиск из «Русского филологического вестника» можно получить в Библиотеке Сербской Матицы в городе Нови-Сад.
74. Koropka N.I. Čehov // Letopis Matice srpske. 1905. Kn. 233. Sv. 6. S. 1—49.
75. Trnski V. O Rusiji i Rusima. Beograd, 1912. S. 200—201.
76. Ibid. С. 208.
77. S.C. Čitaoci i pisci. Iz beležaka jednog čitaoca // Brankovo kolo. 1905. № 36. S. 1128—1133.
78. Delo. 1910. Kn. 57. Sv. 3. S. 429—445.
79. Ibid.
80. Maksim Gorki o Cehovu // Brankovo kolo. 1905. № 1. S. 32.
81. Dnevni list. 1905. №№ 152, 153, 154.
82. Srbobran. 1909. № 241. S. 1.
83. Štampa. 1905. №№ 86, 88; Politika. 1905. №№ 564, 565; Dnevni list. 1911. № 23; Večernje novosti. 1907. № 116; Beogradske novine. 1907. № 124; Štampa. 1907. № 116.
84. Соловьев Е. Очерки из истории русской литературы XIX века. СПб., 1903. С. 513—514. Книга, которой пользовался Максимович, была в его домашней библиотеке. Сейчас она находится в Библиотеке САН.
85. Там же. С. 521.
86. Волжский. Очерки о Чехове. СПб., 1903.
87. Stajić V. Anton Čehov // Vihor. 1914. № 4. S. 74.
88. Подробнее об этом: Лаффит С. Чехов во Франции // ЛН. Т. 68. С. 710.
89. См.: Lazarević B. Pola veka od smrti Jovana Skerlića, u knjizi Skerliću u spomen. Beograd, 1964. S. 191—192.
90. Čehov A. To je bila ona. Sv. 1. Beograd; Novi Sad (Jevtina biblioteka ruske literatura), 1920.
91. Čehov A. Znak čuđenja. S rus. O.G. Beograd; Novi Sad, 1920.
92. Čehov A. Pozno cveće. Sv. 43—44. Beograd; Novi Sad (Jevtina biblioteka ruske literature), 1921; Čehov A. Kaštanka. Beograd, 1921.
93. Nova svetlost. 1921. № 5. S. 62.
94. Srpski književni glasnik. 1922. Kn. VII. Sv. 8. S. 639.
95. Čehov A. Pripovetke. Beograd, 1923. S. V—XXX.
96. Čehov A. Kameleon. Beograd, 1934.
97. Инвентарный номер на издании Грузинцева меньше, что дает основание предполагать, что оно вышло раньше. На экземпляре в Народной библиотеке карандашом написано: 17/VIII 1926.
98. Srpski književni glasnik. 1940. Kn. LIX. S. 319.
99. Crnjanski M. Mi postajemo kolonija strane knjige. 1932.
100. Bogdanović M. Prevoditi ili ne prevoditi // Politika. 1932. № 8562. S. 6.
101. Bogdanović M. Stari i novi. Kn. I—V. Beograd, 1931—1955. Kn. III. S. 494—502.
102. Lazarević B. Prevodilačka umetnost // Srpski književni glasnik. 1940. Kn. 59. S. 187.
103. О продаже этих двух книг сообщает «Politika». 1939. № 10996. С. 74.
104. Ćosić B. Deset pisaca — deset razgovora. Beograd, 1931.
105. Miljković B. Originalnost u književnosti // Srpski književni glasnik. 1925. Kn. 16. Sv. 4. S. 349.
106. Stajic M. Marginalije. Kn. II. Beograd, 1940. S. 149.
107. Ćosić B. Mihed-Media. VIII // Književnost. 1968. Sv. 47. S. 267.
108. Drenovac N. Pisci govore. Beograd, 1964. S. 80.
109. Politika. 1972. 14. X. S. 11.
110. Drenovac N. Op. cit. С. 218.
111. Politika. 1974. № 21661. S. 19.
112. Ibid. 1974. № 21836. S. 17.
113. Ibid. 1974. № 21843. S. 19.
114. Ibid. 1975. № 22152. S. 17.
115. Ibid. 1975. № 22166. S. 17.
116. Ibid. 1974. № 21941. S. 17.
117. Sekulić I. Veljko Petrović kao pripovedać // Sekulić I. Sabrana dela (см. примеч. 20). Kn. IX.
118. Ibid.
119. Srpski književni glasnik. 1926. 16. II. S. 305—308.
120. Ibid. 1928. 16. II. S. 302—305.
121. Miličević Ž. Tvorci i tumaći. Subotica; Beograd, 1958. S. 172.
122. Ćosić D. Predlog za čitanje Dušana Radića // Srpska književnost između dva rata. Kn. II. S. 366.
123. Milošević M. Mali ljudi. Beograd, 1938. Например, рассказы «Čudan čovek» и «Azil».
124. Književnost. 1953. Sv. 5. S. 483.
125. Politika. 1928. № 7176. S. 12.
126. Srpski književni glasnik. 1928. Kn. 24. Sv. 4. S. 316.
127. Osler J. Oficir kao plagijator // Kritika. 1928. № 8. S. 228.
128. Измайлов А.А. А.П. Чехов. М., 1916; Čehov A. Dvoboj. Beograd, 1922. S. 8.
129. Čehov A. Dvoboj. S. 10. Процитированные слова А. Белого см.: Белый А. Чехов // Весы. 1904. № 8. С. 1—9.
130. Čehov A. Dvoboj. S. 10.
131. Čehov A. Pripovetke. Beograd, 1923. S. XIX (предисловие Я. Продановича).
132. Подробнее об этом пишет Dr B. Đorđević. Medicina i književni rad Antona Čehova // Misao. 1924. Kn. XVI. Sv. 113—119. S. 1469—1478.
133. Pogodin A. A.P. Čehov // Misao. 1929. Kn. XXIX. Sv. 5—6. S. 314.
134. Mitropan P. Stvaralački rad A.P. Čehova // Misao. 1925. Kn. XVII. Sv. 5—6. S. 321—329.
135. Ibid.
136. Pogodin A. Istorija ruske književnosti. Beograd, 1927. S. 234.
137. Pogodin A. A.P. Čehov. S. 313—327.
138. Askočenski P. Pesnik ruske inteligencije // Nova Evropa. 1929. Kn. XX. Sv. 7. S. 224.
139. Srpski književni glasnik. 1929. Kn. XXVIII. Sv. 6. S. 446.
140. Slonjim M. Čehovljevo delo, s rus Pešić M. // Ruski arhiv. 1929. Sv. 5—6. S. 5—15.
141. Ibid. S. 14.
142. Ibid. S. 13—14.
143. Sergejev I. Anton Čehov // Letopis Matice srpske. 1930. Kn. CCCXXIII. Sv. I. S. 43—52.
144. Ibid. S. 51.
145. Ljacki E. Ogledi о ruskoj književnosti XIX veka. Beograd, 1935. (Poučnih Srpske književne zadruge. VIII). S. 277.
146. Ibid.
147. Ruski arhiv. 1931. Sv. XIII. S. 77.
148. Mitropan P. Borba oko Čehova // Južni pregled. 1929. Kn IV. S. 398.
149. Новое время. 1929. № 2459.
150. Vardar. 1934. № 247. S. 7 (б/п).
151. V.T. В России будет торжественно отмечаться 75-летие со дня рождения Антона Чехова // Štampa. 1935. № 350. S. 6.
152. Žuhina K. Čehovljevi junaci još ni danas nisu izumrli // Politika. 1935. № 9606. S. 9.
153. Remizov A. Povodom tridesetogodišnjice smrti Čehova // Ruski arhiv. 1935. Sv. XXX—XXXI. S. 13.
154. Novosti. 1921. № 133; Srpska riječ. 1922. № 199; Beogradske novine. 1924. № 118; Glas Šumadije. 1932. № 42; Pravda. 1939. № 12551; Srpski književni glasnik. 1936. Kn. XLIX. Sv. 2. S. 151—153; Politika. 1939. № 11178. S. 8.
155. Jedinstvo. 1923. № 1254. S. 4; Štampa. 1934. № 189. S. 3; Vreme. 1934. № 4615. S. 6.
156. Tri susreta sa Maksimom Gorkim // Vreme. 1940. № 6654. S. 9.
157. Misao. 1931. Kn. 35. Sv. 5—6. S. 389.
158. См.: А. Белый. Антон Павлович Чехов // В мире искусств. 1907. Кн. 11—12.
159. Вишневский А. Клочки воспоминаний. Л., 1928. С. 100.
160. Философов Д. Липовый чай // Чеховский юбилейный сборник. М., 1910. С. 197—202.
161. Anonim. Prava Rusija // Vreme. 1924. № 741. S. 2.
162. Čehov A. Pripovetke. S. XXVII.
163. Волжский. Указ. соч. С. 161.
164. Sekulić I. Sabrana dela. Kn. IX. Novi Sad, 1966. S. 174—175.
165. Književne novine. 1982. № 643. S. 14.
166. Politika. 1982. № 24761. S. 8.
167. Drenovac N. Pisci govore. S. 172—173.
168. Književne novine. 1954. № 24. S. 7.
169. Savremenik. 1960. № 3. S. 326—334.
170. Ibid.
171. Čehov A. Stepa. Dvoboj. Beograd, 1964. S. 8—9.
172. Zbornik radova Više pedagoške škole u Nišu. 1964. № 1. S. 215.
173. Stojnić M. Ruski pisci. Sarajevo, 1974. S. 85.
174. Ibid. S. 90.
175. Ibid. S. 97.
176. Čehov A. Sabrana dela. Kn. 1. Beograd, 1974. S. 23.
177. Ibid. S. 27—28.
178. Ibid. S. 43.
179. Reporter. 1981. № 760. S. 54.
| Предыдущая страница | К оглавлению | Следующая страница |