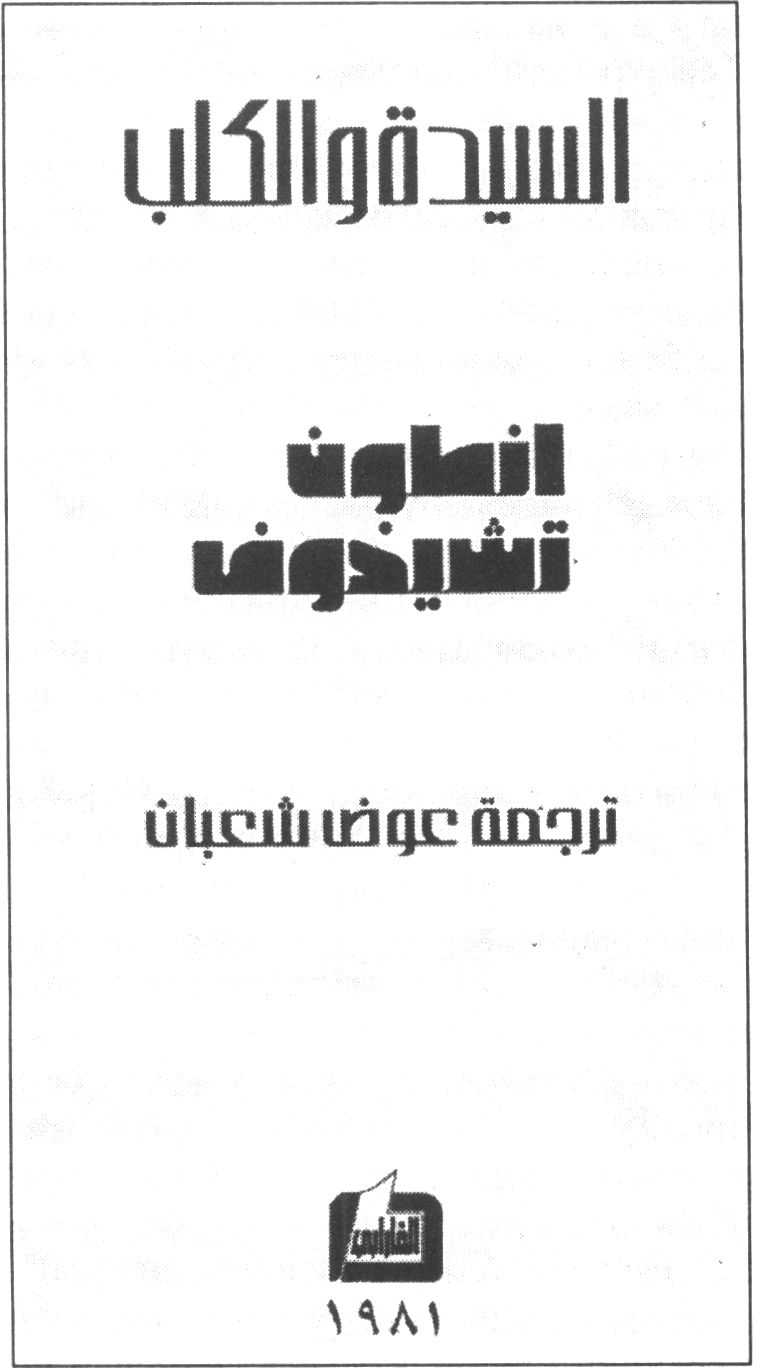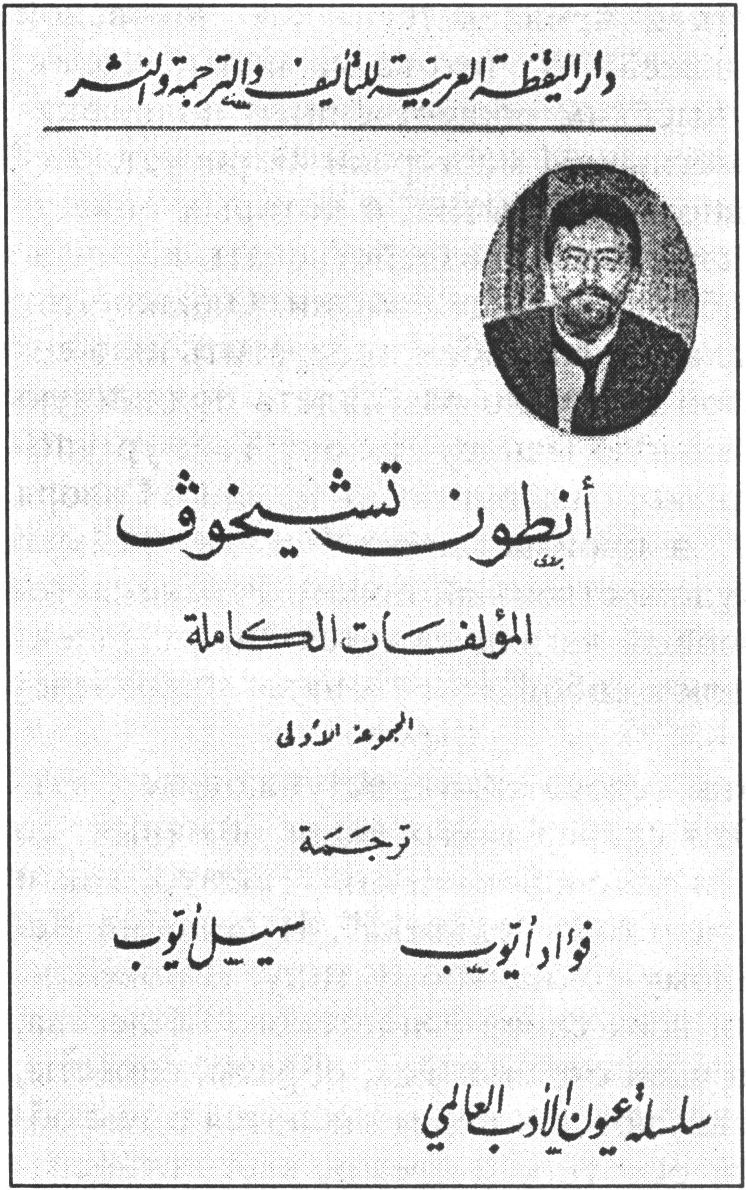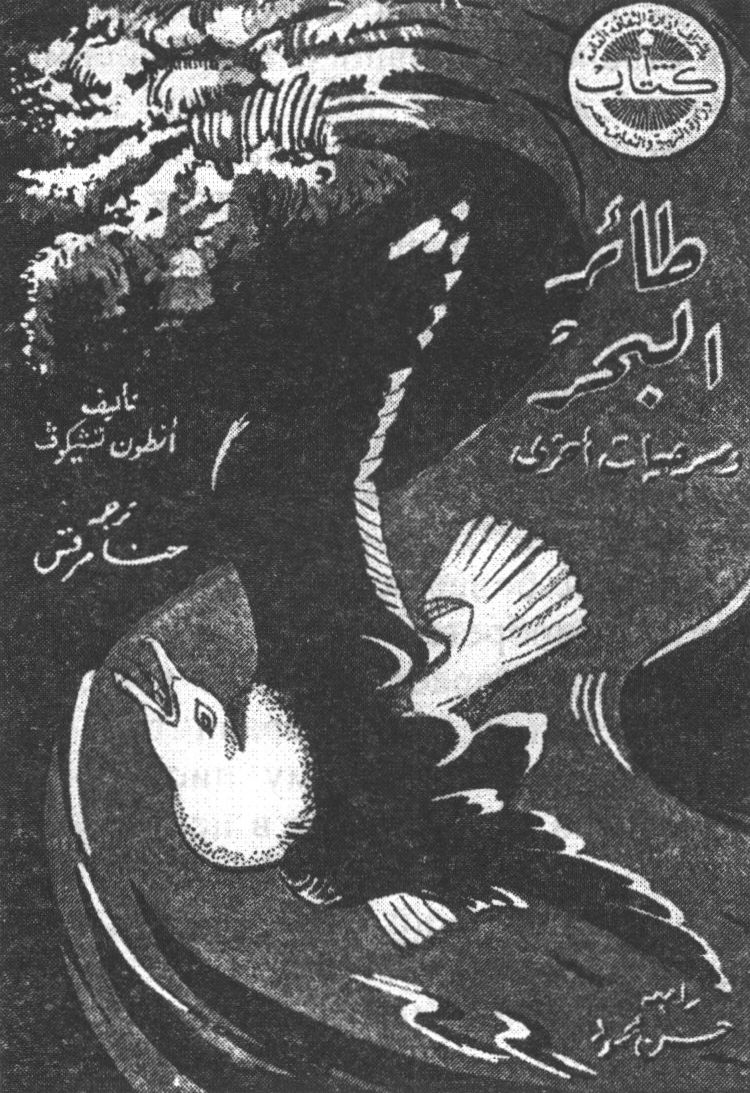Знакомство арабских народов с русской литературой началось с XIX века. В 1890-е гг. и начале XX века в арабских странах были изданы переводы произведений Пушкина, Л. Толстого, Достоевского, Горького, впоследствии оказавшие влияние не только на умонастроения передовой арабской интеллигенции, но и на развитие литературы.
Центром переводческой деятельности в этот период были Палестина и Сирия, где существовала целая группа переводчиков с русского языка. В популяризации русской литературы немаловажная роль принадлежала школам русского Императорского Православного Палестинского общества, учрежденного в 1882 г. Преподавателями в этих школах были педагоги, которые приглашались из России, а также арабы, получившие образование в России.
Группа переводчиков сложилась и в Египте, который с конца XIX в. стал центром культурной и литературной жизни Арабского Востока: туда эмигрировали многие деятели культуры из других арабских стран. Еще в 30-е гг. XIX в. в Каире была создана специальная Школа переводчиков, которую возглавлял известный просветитель Рифаа Рафи ат-Тахтави (1801—1873).
Наибольший успех в деле ознакомления арабов с русской литературой сопутствовал, в частности, выпускникам учительской семинарии в Назарете — Халилу Бейдасу и эмигрировавшему в Египет Селиму Кобейну. В марте 1914 г. египетский журнал «Аль-Хиляль» («Полумесяц») отмечал, что египтянам близка литература русских, и писал, в частности, о Кобейне как о знатоке русской литературы. Среди других известных в то время популяризаторов произведений русских писателей отметим имена египтян Рашида аль-Хаддада и Фараха Антуна, Ибрахима Шааде из Сан-Паоло, тунисца Мухаммеда аль Мушайрики.
Обращение арабов к русской культуре не было случайным. Оно обусловливалось в первую очередь потребностями общественно-исторического развития арабского общества. Из мировой культуры арабская интеллигенция воспринимала то, что давало ей возможность глубже осмысливать собственные проблемы. Ломка феодального уклада и возникновение буржуазных отношений в развитых арабских странах в конце XIX — начале XX вв. типологически совпадали с характером российской действительности второй половины XIX века; русская классическая литература оказалась близкой к арабской реальности, в большой мере соответствуя развитию общественной мысли в арабском мире на данном этапе.
У демократической интеллигенции Арабского Востока интерес к русской литературе особенно возрастает под влиянием революционных событий в России в 1905 г. «Повышенный интерес к России, — пишет И.Ю. Крачковский, — вызывает большее внимание не только к классической, но и современной русской литературе: революция 1905 года дала, наконец, толчок к знакомству арабов с Горьким»1.
Почти одновременно с Горьким известность в арабском мире (прежде всего в палестино-сирийском регионе) начинает приобретать Чехов. Арабских переводчиков привлекают главным образом его ранние произведения. Очень скоро Чехов становится здесь одним из популярных писателей. Причины растущей популярности Чехова-новеллиста объясняет И.Ю. Крачковский: «Сама форма ранних рассказов Чехова была особенно удобна для целей этих переводчиков: небольшие по объему, они легко умещались в одном номере газеты или журнала. Занимательная фабула оказывалась доступной для читателя даже среднего уровня, а сюжет, непосредственно вводивший в жизнь современной России, был особенно привлекателен для сирийского араба той эпохи, симпатии которого часто устремлялись к нашей стране больше, чем к Западной Европе»2.
Широкой известности Чехова способствовало еще и то, что журнал «Нива», в приложении к которому печатались его рассказы, был распространен среди читателей Палестины, как русских, так и арабов, интересовавшихся российской действительностью.
В 1905 г. сириец Ибрахим Джабир, учитель школы Палестинского общества, издает первый сборник рассказов, переведенных с русского, в котором значительное место занимает Чехов. В дальнейшем И. Джабир выпускает рассказы Чехова отдельной книжкой. В 1909 г. палестинец Халил Бейдас приступает к изданию в Хайфе журнала «Ан-Нафаис» («Драгоценности»), в котором в его переводах часто появляются рассказы Чехова. Антун Баллан, также учитель школы Палестинского общества, получивший образование в России, в Казанской духовной семинарии, издал в сирийском городе Хомсе сборники своих переводов, в которых Чехов представлен несколькими рассказами. По словам И.Ю. Крачковского, «с начала XX века до первой мировой войны Чехов сохраняет прочное положение в этой области арабской литературы, создаваемой и расходящейся главным образом среди арабской интеллигенции, духовно тяготевшей к России»3.
Арабские писатели уже в тот период стремились к осмыслению русской классики. О том, какое впечатление производила на них литература России и творчество Чехова, в частности, можно судить по признаниям известных ливанских писателей, представителей «сиро-американской» школы Михаила Нуайме и Абд аль-Месиха Хаддада, получивших образование в Назарете. С 1906 по 1911 гг. М. Нуайме учился в России, в полтавской семинарии. Писатель вспоминает о годах учебы: «Моим любимым предметом уже в Назарете была литература... В семинарии я скоро погрузился в русскую литературу. Передо мной точно открылся новый мир, полный чудес. Я читал с жадностью. Едва ли существовал какой-нибудь русский писатель, поэт или философ, которого бы я не перечитал»4. Писатель признает, что его первые литературные опыты связаны с русской литературой. Особенно восторженно он отзывается о Чехове. Нуайме называет Чехова художником «не только русским», указывает на «глубокую правдивость чеховского творчества»5.
Но в основном арабские переводчики тех лет воспринимали Чехова пока еще как занимательного рассказчика, «смешного писателя». Их интерес к творчеству русского прозаика ограничивался сюжетной стороной его рассказов. Пьесы и повести Чехова оставались вне внимания переводчиков. Их не привлекали и особенности художественного мастерства писателя, поскольку, как справедливо замечено, «новая развивающаяся литература в начале XX века едва выходила из стадии просветительства и не чувствовала еще необходимости новых форм для своего выражения»6.
Напомним, что работа переводчиков в то время принимала зачастую характер национальной адаптации. В арабских странах практиковались и такие формы переводческой деятельности, как перевод-переложение, перевод-пересказ — явление не только типичное для раннего этапа развития восточных литератур, но характерное и для России XVII—XIX вв. и других европейских стран вплоть до начала XIX в. Не ставя перед собой задачи точно передать текст оригинала, переводчики стремились к тому, чтобы сделать максимально понятным для арабского читателя европейский образ жизни и приблизить иноязычное произведение к привычным эстетическим представлениям. К тому же, сами переводчики ни профессионально, ни по своему идейно-эстетическому уровню не были еще подготовлены для верного понимания и адекватной передачи произведений европейской литературы, инонациональной образности. Таким образом, работая над текстом, они вносили в него в значительной степени индивидуальную творческую коррекцию — перерабатывая оригинал, переводчики излагали его в меру своего мастерства, в соответствии со своим мировоззрением и вкусом, приближая его к своим нравственным требованиям7. Такой трансформации подверглись рассказы Чехова «Интеллигентное бревно» (сб. «Тайная беседа», пер. Антун Баллан. Хомс, 1913) и «Пари» (сб. «Дружеская жемчужина в драгоценных рассказах», пер. Ибрахим Джабир, 1905). При переводе сценки «О вреде табака» Антун Баллан, по наблюдениям А.А. Долининой, «смягчил все звучащие в ней трагические нотки, стараясь, чтобы этот монолог был только смешным, не больше»8. Ибрахим Джабир ввел в переводной текст чеховского «Пари» типично арабские речевые обороты и выражения, чтобы приспособить иноязычное произведение к хорошо знакомому отечественным читателям литературному стилю.
Особый успех на долю русской литературы в арабских странах выпадает после Первой мировой войны, прежде всего в Египте, ставшем лидером арабского литературного движения. И снова огромной популярностью здесь, особенно в 20-е гг., среди широких кругов интеллигенции пользуется новеллистическое творчество Чехова. Этому способствовал ряд факторов как общественно-политического, так и эстетического характера.
В художественной жизни решающую роль сыграло движение «египтизации» (т. е. создания национальной египетской литературы), сопровождаемое разрушением общих для арабской словесности традиционных форм повествования, в частности, рассказа-макамы, поисками новых путей в литературе, отвечающих запросам времени. В литературу пришла новая плеяда писателей — Мухаммед и Махмуд Теймуры, Махмуд Тахир Лашин, Ибрахим аль-Мысри и др., сгруппировавшихся вокруг литературного объединения «новая школа», братья Иса и Шихата Убейды. Существенное значение имело то, что господствующее положение в творчестве этих писателей занял жанр рассказа, который читатели, по словам Махмуда Теймура, «принимали с любовью и радостью». Упомянутые писатели призывали к отражению местной египетской действительности во всех ее специфически национальных и социальных проявлениях. Они впервые выдвинули задачи объективного изображения существующей реальности, демократизации искусства. Египетских новеллистов 20-х гг., обратившихся к новым героям и темам, стали волновать и проблемы художественного мастерства.
Тем не менее малый жанр с трудом пробивал себе дорогу. Еще недавно сочинение рассказов, да еще о простолюдинах, по традиции в литературных кругах считалось ремеслом, недостойным звания истинного писателя. Не случайно свое произведение «Зейнаб» (1914) М.Х. Хайкаль подписал псевдонимом, боясь, что его назовут «автором рассказа». Устремления писателей Египта, их борьба за новый жанр перекликаются с теми чувствами, которые владели в свое время в России Чеховым. Бунин вспоминает, что Чехов как-то сказал ему: «Вам хорошо теперь писать рассказы, все к этому привыкли, а это я пробил дорогу к маленькому рассказу, меня еще как за это ругали... Требовали, чтобы я писал роман, иначе и писателем нельзя называться...»9
Высокого художественного уровня достигли переводы (с английского) проживавшего в Дамаске палестинца Ахмеда Щакира аль-Карми (1894—1927). Переводы аль-Карми, журналиста, поэта, критика, новеллиста, появились в 20-х гг. в различных органах арабской печати, главным образом в Дамасском журнале «Аль-Мизан» («Весы»), владельцем которого был он сам. Среди них рассказы О. Уайльда, Р. Тагора, Мопассана («В лесу», «Марокка», «Бесполезная красота»), стихотворения в прозе Тургенева («Нищий», «Завтра! Завтра!») и рассказ Чехова «Произведение искусства». В отличие от многих современников, аль-Карми, стремясь к правдивости перевода, следовал тексту подлинника, идентично передавая и названия переводимых произведений.
Важную роль в популяризации творчества Чехова сыграли египетские журналы «Аль-Хиляль», основанный в 1892 г. известным просветителем, романистом Дж. Зейданом, «Ас-Сийаса» («Политика»), который выходил под редакцией М.Х. Хайкаля, высоко оценивавшего значение русской литературы во всей европейской художественной жизни. В еженедельнике «Аль-Балаг» («Сообщение») рассказы Чехова печатал в своих переводах Мухаммед ас-Сибаи. В «Аль-Муктатафе» («Сборник») вышел рассказ «Пари» (1928 г.) в переводе крупного ливанского литературоведа Асада Халила Дагера, в журнале «Ас-Сийаса» — «Скучная история». Значительное внимание Чехову уделял литературный журнал «Ар-Ривайа» («Роман»), основанный в 1937 г. Здесь в течение короткого времени наряду с переводами западной классики появились образцы русской литературы, в том числе рассказы Чехова «Человек в футляре», «Страшная ночь», «Рассказ без конца», «Любовь», «Дуэль», «Нервы» и многие другие10.
Атмосферу «волнения», охватившего писателей «новой школы» при первом знакомстве с русской литературой, передает их современник, видный египетский писатель и критик Яхья Хакки: «Когда решили приступить к изданию газеты «Аль-Фаджр» (печатный орган «новой школы». — Э.А.), они повторяли такие имена, как Гюго, Достоевский, Мопассан, Чехов, Бальзак... Вокруг этих писателей разгорались споры. Однажды дело чуть не дошло даже до драки — кто-то сказал, что Горький менее народный писатель, чем Бальзак»11. Далее Яхья Хакки вспоминает: «От первого (англо-французского. — Э.А.) периода увлечения они перешли ко второму этапу духовного обогащения — настолько сильно поразила их русская литература... Я не буду далек от истины, если скажу, что на писателей «новой школы» наибольшее воздействие оказала русская литература»12.
Дарование Чехова получает особенное признание Яхьи Хакки. Он отмечает роль русского новеллиста и в собственной писательской судьбе, связывая с ним свои первые шаги в литературе. В интервью египетскому литературоведу Фаруку Шуше Яхья Хакки говорит: «Должен признаться, что в юности духовную пищу я нашел в русской литературе, серьезно и искренне рассказывающей о том, что волновало наши юношеские души, — о судьбе человека, о зле и добре, об ангелах и дьяволах, о женщинах порядочных и падших, о разумных людях и безумцах, о консерваторах и революционерах. Много места в русской литературе уделяется описаниям природы, как например, в «Записках охотника» Тургенева — редкой жемчужине, подобно которой я ничего не встречал. Русская литература повествует о крестьянах, об их нищете и надеждах на лучшую долю... Все это импонировало нам, молодым... Я проглотил «Преступление и наказание», «Анну Каренину», «Воскресение», «Мертвые души», произведения Горького и Чехова... Эти книги были моим хлебом насущным»13.
Хотя Яхья Хакки замечает, что это юношеское увлечение вскоре прошло и он пристрастился к западноевропейской литературе, но к опыту Чехова на протяжении своей многолетней творческой жизни он обращается не раз. В том же интервью, на вопрос Фарука Шуше, согласен ли он с мнением критиков, считающих его «писателем с устойчивым, неизменным методом и стилем», Яхья Хакки отвечает: «Они правы, я действительно консервативен. Такое определение вполне справедливо. Но в свою очередь и мне хочется спросить у этих критиков — способны ли они обнаружить существенную разницу между начальным и последним этапами литературной деятельности таких крупнейших писателей, как Чехов и Мопассан?»14
Новеллистика Чехова в значительной мере расширила тематику национальной литературы, ее воздействие на творчество арабских писателей сказалось в выборе сюжетов, а главное — в принципах типизации. Об этом свидетельствует неизменный интерес писателей к тяжелой судьбе низших слоев общества (мелких чиновников, продавцов, извозчиков, нищих). Таков рассказ Мухаммеда Теймура (1892—1921) «Свадьба и похороны» из сборника «Что глаза видят» (Каир, 1922). В этом рассказе два главных действующих лица, олицетворяющих два противоположных мира (богатства и нищеты). По своей коллизии (у извозчика умирает сын, а паша, устраивающий в это время пышную свадьбу своему сыну, отказывает извозчику в подаянии на похороны) этот рассказ напоминает рассказ Чехова «Тоска», где тоже запечатлена трагедия одинокого бедняка (тоже извозчика), и таким образом раскрывается конфликт между миром богатства и миром нищеты. В постановке и разработке темы угнетенного положения женщины египетские писатели также вдохновлялись гуманистическим творчеством Чехова. В рассказе Исы Убейда «Я для тебя...» (сб. «Исхан ханум». Каир, 1921) усилия матери и дочери создать видимость материального благополучия и тем самым обеспечить возможность «удачного» брака дочери вызывают в памяти рассказы Чехова, изображающие картины жизни мещанской среды: «Приданое», «Загадочная натура», «Скверная история». Какой бы ни была насмешка Чехова, мягкой или разящей, за ней неизменно проглядывает сочувствие писателя к людям, к человеческому горю и критика того общества, которое порождает и сам мещанский дух, и мещанские идеалы. Нечто подобное улавливается и в рассказе «Я для тебя...». Иса Убейд осуждает девушку и в то же время показывает закономерность ее превращения в существо расчетливое и лицемерное.
Природа юмора в чеховском рассказе близка и Шихате Убейде (ум. в 1961 г.). Ирония в его новеллах — это подчас грустная улыбка, лишь подчеркивающая комичность ситуации. Например, в рассказе «Поздравляю, Умм Мухаммед» (сб. «Дарс му''лим». Каир, 1922) жених впервые видит невесту на свадьбе и, пораженный ее уродством, вместе с другими гостями приносит ей поздравления и ретируется.
Благотворное влияние чеховской новеллистики сказывается в углубленном внимании к внутреннему миру «маленького человека», в умении в незначительных, на первый взгляд, будничных событиях найти пищу для обличения отрицательных сторон окружающей действительности. Это отразилось в творчестве Махмуда Тахира Лашина (1894—1954), известного своими симпатиями к русской литературе. Среди литературных наставников Лашин называл, прежде всего, Мопассана и Чехова. Некоторые арабские критики усматривают влияние на творчество Лашина и Горького. Так, обращаясь к Лашину, Мансур Фахми писал: «Многие твои рассказы по духу и стилю напоминают некоторые вещи Максима Горького»15. И.Ю. Крачковский отмечал воздействие русской литературы именно на психологическую сторону мастерства Лашина-новеллиста16.
В творчестве Лашина, особенно в рассказах, касающихся нравственных проблем, семейно-бытовой темы: «Алло», «Место, где перестают слышать», «На дне пропасти», «Дом покорности» и других, вошедших в сборники «Ирония свирели» (Каир, 1926) и «Рассказывают, что...» (Каир, 1930), ощущается чеховская боль и сострадание ко всем тем, чью честь и человеческое достоинство попирает безжалостное и бездушное общество.
Характерным качеством прозы Лашина является юмор. Ставя своих героев во внешне комические обстоятельства, Лашин, подобно Чехову, лишь смягчал, приглушал трагизм жизненной ситуации, от чего сила воздействия рассказа еще более увеличивалась. В юмористических рассказах египетского писателя можно встретить персонажей, напоминающих комические образы, созданные Чеховым. С чеховскими людьми «в футляре» сходны чиновники — главные персонажи рассказов Лашина «Рассказывают, что...» и «Краска стыда». С первых же строк ощущается насмешка Лашина над героем «Краски стыда»: «Амм Раджаб, шейх Раджаб, Раджаб-эфенди, Амм Раджаб-эфенди — все эти прекраснейшие имена принадлежат в равной мере единственному в своем роде созданию из редчайших созданий Аллаха»17. В этой иронической (ирония достигается путем употребления прилагательных в превосходной степени) характеристике героя улавливается чеховская манера изображения. Созданные Лашиным образы чиновников олицетворяют типичных представителей прежнего Египта, которые в условиях новой жизни выглядят людьми устаревшими, а потому и смешными.
Чеховское влияние ощущается в обличении многочисленных пороков и слабостей персонажей рассказов Лашина — их ограниченности, косности, пошлости, которые писатель представляет как явления обыденные, повседневные. Юмор Лашина направлен и против тупых и жадных служителей полиции, олицетворенных в фигуре сержанта, возвышающейся над площадью Баб аль-Халак («Сержант Багдади»). Заостренная комическая ситуация и главный комический образ рассказа напоминают чеховского «Хамелеона».
Лашин расширил и композиционные возможности новеллы за счет новых приемов повествования, переняв некоторые художественные особенности ранней новеллистики Чехова. Прежде всего это относится к субъективному типу повествования в рассказах Лашина, к его вниманию к детальным характеристикам персонажей, их быта, порой даже мельчайшим, что собственно и представляло собой одну из специфических особенностей реализма в египетской литературе 20-х гг.
Перу Лашина принадлежит рассказ «Взрыв»18, сюжет которого, как отмечает автор, «заимствован из рассказа великого русского писателя Чехова». Это — своеобразная версия рассказа Чехова «Тяжелые люди», хотя Лашин, подобно другим арабским писателям, оригинала не указывает. Подобная техника национальной адаптации характерна и для других писателей этого периода. Так, Мухаммед Теймур при адаптации лирической новеллы Мопассана «Лунный свет», названной в арабском варианте «Господь мой, для кого ты создал это счастье», отметил: «Этот рассказ Мопассана, известного французского писателя, подвергся арабизации содержания, образов, времени и места действия. В нем все египтизировано, от оригинала не осталось ничего, кроме духа произведения, и в этом я следую Толстому, его опыту перевода мопассановских новелл»19. Однако, в результате адаптации, вопреки утверждению Мух. Теймура, изменилась, прежде всего идейная направленность, т. е. «дух» произведения Мопассана20.
Интерес к «Тяжелым людям» Чехова можно объяснить пристальным вниманием русского прозаика к темам семьи и воспитания, столь злободневным для египетского общества того времени. Естественно, что чеховское отношение к такой социальной несправедливости, как обездоленность большей половины рода человеческого, умение Чехова за «рядовыми», «скучными» бытовыми историями разглядеть и показать бесчеловечное отношение к женщине и внешне «беспристрастным» описанием вызвать сострадание к ней, находило живой отклик у многих арабских писателей, в том числе и у Лашина.
Назвав свой рассказ «Взрыв», Лашин, по-видимому, хотел усилить драматизм положенного в основу сюжета семейного конфликта, порождаемого не только разностью характеров, столкновением различных принципов семейнобытовой морали, но и условиями существования мещанской среды, где извечная тяга любой ценой «выбиться в люди», добиться достатка, приводит к потере человечности; стремление людей к лучшей доле оборачивается в конце концов ожесточением и эгоизмом.
Основная коллизия чеховского рассказа — губительное воздействие семейного деспотизма на характер и психологию людей, даже близких, изображение того, как требования беспрекословного подчинения порождают «тяжелых людей», — все это могло быть с равным правом перенесено и на египетскую почву, особенно при характеристике мелкобуржуазных кругов.
Лашин сохранил идею и основную сюжетную канву оригинала, последовательность событий чеховского произведения. Он также следует чеховскому принципу раскрытия семейных коллизий. Вместе с тем Лашин вносит в рассказ ряд изменений для того, чтобы приблизить произведение русского писателя к египетской действительности, а русских героев — к арабским. С этой целью он заменяет имена русских персонажей арабскими, опускает одни эпизодические лица, вводит новые. Например, в рассказе Лашина появляется служанка (арабская семья, даже среднего достатка, немыслима без нее) — «памятник покорности и несчастья»; подобный образ в рассказе Чехова отсутствует. Лашин египтизировал и некоторые сценки оригинала, характеризующие чисто русский быт, раскрывающие типично русский характер. А специфические русские выражения и обороты он либо снимает, либо заменяет привычными, арабскими. В основном Лашин, автор «городских» рассказов, место действия переносит в знакомую ему городскую среду, в то время как у Чехова события происходят в деревне.
Как и Чехов, свой рассказ египетский писатель начинает с описания главного героя. У Чехова: «Ширяев, Евграф Иванович, мелкий землевладелец из поповичей (его покойный родитель о. Иоанн получил в дар от генеральши Кувшинниковой сто две десятины земли), стоял в углу перед медным рукомойником и мыл руки. По обыкновению, вид у него был озабоченный и хмурый, борода не чесана». У Лашина: «Салих-эфенди Абд аль-Ваххаб — торговец мануфактурой — стоял перед медным тазом, поставленным на бамбуковый стул, и мыл руки перед тем, как приступить к еде. По обыкновению, он никогда не забывал об этом с тех пор, как узнал, что это предписание Аллаха».
Далее Чехов лаконично характеризует членов семьи, собравшихся за столом в ожидании ее главы: «Он ворчал, а семья его сидела за столом и ждала, когда он кончит мыть руки, чтобы начать обедать. Его жена Федосья Семеновна, сын Петр — студент, старшая дочь Варвара и трое маленьких ребят давно уже сидели за столом и ждали. Ребята — Колька, Ванька и Архипка, курносые, запачканные, с мясистыми лицами и с давно не стриженными жесткими головами, нетерпеливо двигали стульями, а взрослые сидели не шевелясь и, по-видимому, для них было все равно — есть или ждать...
Как бы испытывая их терпение, Ширяев медленно вытер руки, медленно помолился и не спеша сел за стол. Тотчас же подали щи. Со двора доносился стук плотницких топоров (у Ширяева строился новый сарай) и смех работника Фомки, дразнившего индюка. В окно стучал редкий, но крупный дождь».
Все это Лашин передает более подробно, стремясь, очевидно, оттенить, подчеркнуть контрастность при изображения семейного уклада — непререкаемого, поддерживаемого вековыми традициями, авторитета мужчины, полновластного «хозяина» в своем маленьком мирке, перед которым трепещут все домочадцы, особенно жена — жалкое, бесправное и покорное существо: «Воду ему лила (на руки. — Э.А.) служанка, которой нет еще 11 лет, с запутанными волосами, худая, из дыр джильбабы просвечивались ребра и даже виднелся позвоночник <...>. Его жена Фатима стояла возле него с полотенцем в руках, в ожидании, чтобы подать ему, как только он кончит. Что касается его первенца Шакира, то он разместился на ручке софы, погрузившись в чтение ежедневной газеты. Никто не осмелился занять свое место за столом, кроме Таухиды пяти лет от роду, но даже она не решалась на большее, посматривая то в сторону отца, то на еду перед собой.
Словно дожидаясь, чтобы пробило два часа пополудни, или как бы желая испытать степень терпения членов дома, он мыл руки медленно и тщательно. Этим он стремился научить служанку воспитанности и приличию в подобном случае. Убедившись, что руки чистые, а юная служанка запомнила его указания и наставления, он небрежно принял полотенце у жены и не торопясь, тщательно вытер руки. Наконец, он грузно направился к столу, каждый занял свое место и трапеза началась»*.
Интересно отметить, что у Чехова определенный психологический настрой создают упоминание об осеннем дожде (в начале и конце рассказа) и выразительное описание унылого вида мокрых полей. Для египетской же природы переход к осени не столь контрастный и, быть может, поэтому у Лашина нет столь важного для передачи общего настроения чеховского пейзажа. Но пейзажа адекватного, более соответствующего природе своей страны, городскому ландшафту, у него тоже нет. Во всем остальном Лашин почти дословно сохраняет здесь текст оригинала (особенно диалогов), за исключением некоторых деталей, особенно в сцене, разыгравшейся между отцом и сыном из-за денег, необходимых молодому студенту для поездки на учебу (эта сцена — основная в развитии обоих сюжетов).
Но писатель значительно отходит от оригинала в следующем за этой кульминацией повествовании. Фразу Чехова: «Сын так же, как и отец, махнул рукой и выбежал на двор», он передает, в пространном, подробном, характерном для арабского писателя эмоциональном стиле, подчеркивающем смятенное состояние героя: «Однако сын сделал то же, что и отец, он топнул ногой и ушел в свою комнату. Он казался взбешенным. Молодой человек лег на постель и пытался думать о своем положении. Однако в возбуждении он не мог ни лежать, ни думать. Он встал, надел свою изношенную одежду и рваную обувь (у Чехова — сапоги — Э.А.) и вышел из комнаты. Дойдя до наружной двери, он помедлил, затем остановился: куда? зачем? и чем все это кончится? Так и не найдя ответа, он быстро вышел и направился, куда глаза глядят... В этот миг он не чувствовал ничего, кроме желания подышать воздухом, чтобы успокоить гордое сердце и пылающую голову».
Герой Чехова, думая о том, что недурно бы пойти в Москву пешком, «как есть, без шапки, в рваных сапогах и без копейки денег», рисует в своем воображении «всевозможные дорожные приключения, одно другого причудливее, живописные места, страшные ночи, нечаянные встречи». То ему видятся разбойники, то представляется помещичий дом, где в него влюбляется хозяйская дочь. Но встреча со старушкой помещицей возвращает его к реальной действительности, напоминая о том, что «в каждой семье есть свои радости и свои ужасы».
Эти размышления Ширяева-младшего, одиноко бредущего по дороге в поле, Лашин вновь передает на привычный для арабов манер: «Он шел и шел, то медленно, то быстро, задумчивый, растерянный, сталкиваясь с прохожими и не замечая их; мимо проезжали коляски, он не слышал окликов, а если и видел кого-либо из своих, то прятался или менял путь. Куда? Зачем? И чем все это кончится? Он не знал! Дорога привела его на улицу Каср ан-Нил, и там он увидел студентов, прогуливающихся небольшими группами. Среди них не было ни одного такого одинокого, грустного, грязного, как он...» Далее герой Лашина оказывается в глубине сада, где, спрятавшись от чужих взоров и сутолоки и растянувшись на зеленой траве под финиковыми пальмами, предается невеселым думам, затем приходит к Нилу с мыслями о самоубийстве (вспомним, что герой Чехова тоже воображает, что «где-нибудь под Курском или под Серпуховым он, обессиленный и умирающий от голода, свалится и умрет»): «Возле мечети он остановился, обращаясь с мольбой к Аллаху!! Он все шел и все думал, и наконец решил, что не бросится в Нил, не сделает себя героем истории, пока не поговорит с отцом».
Затем Лашин вновь обращается к чеховской канве рассказа, воспроизводя ее в своем изложении.
Герои Чехова, как бы осознав в итоге всю нелепость и тяжесть разыгравшейся семейной драмы, каждый по-своему переживая и стыдясь ее, смягчаются: «В пять часов утра студент нежно простился со всеми и даже поплакал. Проходя мимо отцовской комнаты, он заглянул в дверь. Евграф Иванович одетый, еще не ложившийся, стоял у окна и барабанил по стеклам.
— Прощайте, я еду, — сказал сын.
— Прощай... Деньги на круглом столике... — ответил отец, не поворачиваясь.
Когда работник вез его на станцию, шел противный, холодный дождь. Подсолнечники еще ниже нагнули свои головы, и трава казалась темнее».
И Лашин, сохраняя чеховскую интонацию «примирения», почти дословно передает ситуацию, слегка модифицируя концовку рассказа: «В пять часов утра он оделся, прослезившись. Когда он дошел до двери отца, тот спросил:
— Куда ты отправляешься?
Обернувшись, он увидел отца, стоящего возле кровати:
— Я покидаю вас.
Салих-эфенди, все же повернувшись, сказал:
— Деньги на расходы и одежду найдешь на круглом столике...»
Высоко оценивая мастерство рассказа Лашина «Взрыв», Яхья Хакки в то же время отмечает, что хотя «сила таланта Лашина не ослабевает ни в одной строке»21, вызывает сомнение сама правомочность сюжетного заимствования у Чехова, поскольку, по словам Хакки, семейные проблемы в России отличаются от египетских. Трудно себе представить, — считает критик, — что подобный разговор сына с отцом имел бы место и был бы естественен в условиях египетского воспитания, египетских обычаев22.
В этом замечании, конечно, содержится известная доля истины. Но в том-то и заключается, на наш взгляд, ценность лашинской адаптации Чехова, что египетский писатель в меру своего таланта, преодолевая разность сугубо национальных «слагаемых» (географических, исторических, социально-психо-логических), окружающих сюжетную модель рассказа, берет у Чехова главное, ориентируясь, прежде всего, на характер гуманизма русского писателя, на способ выявления в существующей действительности добра и зла.
Чеховское восприятие мира и человека оказалось особенно близким Махмуду Теймуру (1894—1973). И хотя в произведениях Теймура и присутствует элемент стилизации под Мопассана (все исследователи его творчества отмечают это, да и сам писатель на протяжении своей долгой жизни не раз высказывал восхищение мастерством французского прозаика, с которого и началось его знакомство с мировой литературой), тем не менее Теймур более тяготеет к Чехову по своему душевному складу, что больше всего сказалось на манере изображения персонажей и на авторском отношении к героям.
Что же привлекало египетского писателя в новеллистике Чехова? Думается, именно существующее в чеховском творчестве «незримое, но весьма определенное напряжение между реальным и идеальным порядком мира»23, в котором противоречиво и сложно смешались «подлинная и неподлинная» жизнь, ни с чем не сравнимое чеховское ощущение пошлости и одновременно силы «вещного мира», давящего на человека, лишающего его свободы и ставящего его в зависимость от косной стихии. Именно эта, эстетически оформленная реакция русского художника на судьбу человека в окружающем его мире, сострадание к нему, понимание его, на наш взгляд, и сделала Теймура арабским «соавтором» и вместе с тем учеником великого русского мастера.
Первое знакомство Теймура с произведениями Чехова было скорее случайным. И довольно удачным. Произошло это в конце Первой мировой войны. В статье «Как я познакомился с новеллистом-гуманистом Чеховым» (1960 г.) Теймур рассказывает: «Как-то вечером по обыкновению мы собрались в одном доме. Наш друг — большой эрудит — принялся рассказывать о русском писателе, рецензию на сборник произведений которого вычитал в английском журнале. Книга включала длинные рассказы вперемешку с короткими. Название ее, насколько помню, «Дуэль». Рассказ друга возбудил мой интерес к этой книге. Вскоре я приобрел ее. И это было первое, что я прочел из русской литературы, вернее первое, что я прочел у Антона Чехова. Выбор оказался удачным. С произведений этого писателя-гиганта началось мое знакомство с русской литературой»24.
Превосходный знаток западноевропейской литературы, привыкший к «классическому» стилю, к типу рассказа, где событие непременно имеет начало, развитие и конец, Теймур был откровенно поражен и восхищен. В рассказах Чехова он почувствовал «новый аромат», доселе неведомый его собратьям по перу. В глаза бросилась великая разница между Чеховым и корифеями французской реалистической школы, широко известными его соотечественникам — Бальзаком, Флобером, Мопассаном. Сопоставляя французских писателей и Чехова, Теймур увидел в творчестве русского новеллиста новое качество повествования. «Он словно открыл передо мной окно, в которое я увидел новую литературу, отличающуюся от произведений мировой литературы, которые мы читали на французском и английском языках. С этим новым миром меня познакомил Чехов, самый близкий к жизни, самый далекий от искусственности и риторичности. Он вышел за пределы формы, обычно принятой в европейской литературе. И не удивительно поэтому, что книга Чехова повысила мой интерес к русской литературе, я проникся к ней большим уважением и полюбил ее. Я убедился, что русская литература — глубоко гуманное искусство, правдиво отображающее жизнь...»25
По признанию Теймура, благодаря знакомству с творчеством «гениального новеллиста Чехова» он узнал Горького, а затем полюбил Л. Толстого, Тургенева, Достоевского и других великих писателей России. Чехова по силе таланта Теймур сравнивает только с Горьким, находит то общее, что сближает и объединяет творческие позиции двух писателей. По мысли Теймура, Чехов помог занять русской литературе в арабском мире такое же место, какое до этого занимала литература европейская. Благодаря Чехову «русская литература распространилась среди арабских читателей самых различных кругов»26. Причину такой популярности и притягательной силы русской литературы Теймур видит в «родстве русской и арабской души». «Я чувствую всем сердцем, что какие-то духовные нити связывают меня с литературой русских. Долго размышляя о причине этого, я понял, — секрет заключается в том, что русская душа и восточная имеют много общего, я бы даже сказал, что они одинаковы, как близнецы, ибо между ними есть большое сходство в средствах выражения, в чувствах, в эмоциях»27.
Рассказы Чехова стали для Теймура «источником знаний и вдохновения». В них он сумел найти то, что типично и характерно именно для арабской действительности, для жителя его страны. «Читая Чехова, я думаю, что людей, похожих на героев его рассказов, можно встретить среди нас, они имеют те же черты характера, те же привычки»28. Может быть, рассуждения Теймура о родстве русской и восточной души покажутся нам несколько наивными. Но надо вспомнить прежде всего, что эта мысль была общей для писателей «новой школы», являясь отражением их симпатий к России и к русской литературе, в которой их особенно привлекали высокая гражданственность, гуманизм, интерес к простому человеку.
Теймур одним из первых арабских писателей указал на отличительные художественные принципы чеховской новеллистики. За внешней простотой чеховских произведений он сумел распознать скрытую глубину и сложность внутренней, чаще всего драматической, жизни героев. Новеллистика Чехова позволила Махмуду Теймуру осознать, что в произведении главное — не сюжет. Нужно суметь облечь идею в такую форму, чтобы избежать декларативности, навязывания читателю своих взглядов, откровенной дидактики, отказаться от традиционных пространных рассуждений и описаний, излишних для сюжета произведения.
Хотя Теймур читал Чехова не в оригинале, а только во французских и английских переводах, он во многом смог постичь и оценить глубину таланта этого гениального художника, непревзойденное богатство его новеллистического творчества. В предисловии к своему первому сборнику рассказов «Шейх Джума» (1925) среди мировых новеллистов ведущее место наряду с Мопассаном Теймур отводит Чехову, подчеркивая, что их справедливо считают «королями новеллы» в современную эпоху29. Но в отличие от Мопассана, повествованию которого свойственны внешний эффект, предельная эксплуатация парадоксальных ситуаций и, главное, та огромная роль, которую играет в нем сам рассказчик, его оценки, его «прямое присутствие», — «полускрытость» автора в рассказах Чехова, «недосказанность», «невысказанность» его позиции, составляющие особую прелесть чеховской прозы, отсутствие в ней «принудительной сюжетности» (тоже в отличие от «напряженной сюжетности» Мопассана)30, ее открытость миру случайного, оказались гораздо ближе египетским прозаикам и Махмуду Теймуру, в особенности.
Теймур творчески овладевает некоторыми приемами чеховского рассказа, при этом он руководствуется одним из основных принципов чеховского искусства — краткостью. Теймура, по его собственному признанию, в новеллистике Чехова привлекали, прежде всего, лаконизм и простота, означающая простоту темы, простоту образов, простоту выражения. Причем простота чеховского выражения производила на Теймура самое сильное впечатление31, поскольку и его волновала одна из задач египетских новеллистов 20-х гг.: сделать литературу понятной и доступной широким народным массам.
Теймуру удалось понять основной принцип построения короткого рассказа. Стремясь популяризировать малую форму, он пытается раскрыть ее структуру и показать отличительные черты новеллы по сравнению с другими жанрами литературы. «Новелла, — отмечает он, — строится вокруг одного жизненного эпизода, одного наиболее характерного случая или события, одной человеческой судьбы. Такое временное ограничение требует от писателя огромного мастерства (емкости мысли, лаконизма изобразительных средств)32.
Подход Теймура к изображению действительности в значительной мере приближается к чеховскому. Изображение египетского общества в целом, как и широкие обобщения, не свойственны Теймуру. Для него характерно скорее внимание к отдельному персонажу, его психологии, образу жизни. Поступки человека в той или иной конкретной ситуации, раскрывающие подлинную суть его натуры, зарисовки быта, нравов, пороков и слабостей людей, — привлекают пристальное внимание Теймура.
Как и для Чехова, важную роль в развитии действия и характера персонажей в рассказах Теймура играет событие, случай, который круто меняет жизнь героев, их поведение. Под влиянием случая изменяется судьба главных героев ранних рассказов Теймура «Амм Митвалли», «Шейх Наим», «Шейх Сейид слабоумный» и др. Но в отличие от Чехова, во многих произведениях которого («Страх», «Дуэль», «Невеста», «Рассказ неизвестного человека» и др.) нет явных мотивировок перемен в характерах персонажей, их судьбе, Теймур подготавливает читателя к «событию» самым тщательным образом. Лишь в рассказе «Хаджи Фируз» (сб. «Амм Митвалли». Каир, 1925) совершенно неожиданно превращение главного героя Хаджи Фируза — вчерашнего грешника в сегодняшнего святого. Такая метаморфоза никак не обоснована предыдущим ходом событий. Творчество Теймура, подобно Чехову, знает немного произведений с благополучными, «счастливыми» концами. И что особенно важно отметить, — у Теймура (как и у Чехова) нравственный идеал выражается не в прямой форме. Свое неприятие окружающей действительности египетский новеллист, как и русский прозаик, выражает через отрицание определенных человеческих типов. Можно указать и на сходство тех пороков, которые изобличали оба писателя, — это пошлость, фальшь, лицемерие, духовное убожество, праздность. Учитель словесности в одноименном рассказе Чехова делает запись в дневнике: «Где я, боже мой?! Меня окружает пошлость и пошлость». «Душно мне... Мне душно!» — восклицает герой рассказа Махмуда Теймура «Такова жизнь» (сб. «Шейх Джума»), не желающий мириться с пороками и недостатками чуждой ему среды. Осуждая человеческие пороки, Теймур не всегда открыто обличает их и выражает гнев. Как и Чехов, он нередко использует в этих случаях внешне юмористические ситуации, комические обстоятельства.
Любовь часто не приносит счастья героям Теймура, к которому в равной мере можно отнести слова, сказанные о Чехове: «Счастливая любовь означала бы у Чехова, что между узким семейным мирком и большим миром найдена, обретена гармония, — во что Чехов почти не верил, а если и верил, то как в нечто исключительное. А он писал не об исключениях, а о характерном, обычном, обыденном»33.
Теймуру близок художественный мир Чехова-реалиста. Переходя в начале творческого пути от романтических настроений к реалистическому воспроизведению жизни, Теймур учился у русского новеллиста манере изображения действительности. Теймур понял, что основной залог высокой художественности произведения, «настоящая сила рассказа» заключается в его «прямоте и правдивости»34.
Следует отметить близость размышлений Теймура о литературе и назначении писателя с чеховскими. Известно мнение Чехова, что художник должен быть не судьею своих персонажей и того, о чем они говорят, а только беспристрастным свидетелем. Однако чеховская «беспристрастность» противостоит «нейтрализму» Мопассана, особенно в этическом аспекте. Изображая несовершенство человеческой натуры, Мопассан, в отличие от русского художника, исследующего несовершенство жизни, занимал позицию «объективного созерцателя», отказываясь чаще всего от выражения «нравственного императива». Отсутствие «напряжения между реальным и идеальным» (столь характерного для творчества Чехова) или его недостаточность для того, чтобы сформировать определенную нравственную позицию, порой приводит Мопассана к тому, что он пренебрегает моральными критериями. Подобная позиция противоречила всей традиции русской литературы XIX века, что отразилось в резком осуждении Л. Толстым так называемой «моральной объективности» Мопассана35. Теймур, отмечая, что писатель не является проповедником («художественное творчество — не трибуна для проповеди»), а главным образом, и прежде всего, художником, в то же время считал, что литература должна воздействовать на чувства читателя. Но это должно достигаться не навязыванием оценок, не прямыми призывами и декларациями36.
Теймур увидел и другую особенность и привлекательность чеховской прозы — отсутствие «героизации» персонажей. «У Чехова не найти героев, ослепляющих своими яркими судьбами, высоким общественным положением. Он выбирает людей обыденных, незаметных. И мастерски их рисует, раскрывая их подлинную человеческую сущность. События, о которых повествует Чехов, это не трагические случаи, способные воздействовать на читательские эмоции. Это — повседневные события текущей жизни. Однако этот художник слова, благодаря силе своего таланта, способен превратить их в события значительные. За внешней простотой нетрудно разглядеть подлинную человеческую трагедию...»37 Повествовательную манеру Чехова Теймур уподобляет «собеседованию», за которым, однако, «пылает огонь жизни». Говоря об отсутствии традиционных «концовок» в произведениях Чехова, Теймур замечает, что это — особый, чеховский художественный прием. Рассказы Чехова, — считает Теймур, — только на первый взгляд кажутся «незавершенными». На самом же деле они представляют собой законченные произведения38.
И в творчестве Теймура мы не встретим героев ярких, вступающих в острый конфликт с окружающим миром. Это скорее всего люди обычные, со своими заботами и надеждами, мечтами и разочарованиями. Теймур, как и Чехов, стремится понять и защитить «маленького человека». И подобно Чехову, не проявляет приверженности к одному социальному типу. В новеллистике писателя воплощены представители всех слоев египетского общества, создающие достоверную панораму жизни всей страны. Так, образы, сюжеты, темы рассказов Теймура по-своему соприкасаются и перекликаются с тем образным миром, который создал Чехов. Это особенно и прежде всего относится к раннему творчеству Теймура, которое с полным правом можно назвать «чеховским».
Со временем заслуженное признание на Арабском Востоке начинает получать вторая ипостась русского художника — его замечательный драматургический дар. В 1944 г. в журнале «Аль-Хиляль» в переводе известного театрального деятеля Заки Тулеймата появляется пьеса Чехова «Медведь». В небольшом введении к переводу З. Тулеймат отмечает огромную роль Чехова-драматурга, открывшегося арабскому миру после романов Л. Толстого и Достоевского (арабские зрители имели возможность познакомиться с инсценировками «Воскресения», «Анны Карениной», «Преступления и наказания»). З. Тулеймат акцентирует внимание на особенностях чеховского дарования — его тонком психологизме, умении распознать скрытые в человеке внутренние противоречия. «Это большое достоинство, — пишет Заки Тулеймат, — которое придает его произведениям отпечаток высокой культуры, вечной в своей правдивости, литературы, которая обращается к человечеству в целом, выходя за пределы отличий религии, языка, страны»39.
И что очень важно в этом высказывании — Заки Тулеймат впервые сформулировал представление о мировом значении творчества Чехова, общечеловеческие истоки произведений которого в той или иной форме были отмечены Михаилом Нуайме и Махмудом Теймуром.
Так на протяжении нескольких десятилетий изменилось понимание наследия Чехова. По словам И.Ю. Крачковского в цитированном выше труде, «теперь он не просто занимательный повествователь, знакомящий нас с мало известной страной, — теперь он учитель высокого художественного мастерства, даже на далеком, казалось бы, материале арабской жизни».
В 1948 г. в Каире выходит «Вишневый сад» в переводе (с английского) Мухаммеда Тахира аль-Джабалави. В предисловии к пьесе переводчик отмечает, что Чехов обладает «редким, исключительным» дарованием драматурга, которое проявляется в ракурсе наблюдения художника над действительностью, где трагическое часто соседствует с комическим, смешное — с печальным, а при существующих жизненных противоречиях простой человек кажется ничтожным, никому не нужным40. По мнению аль-Джабалави, пьесы Чехова — наиболее наглядное свидетельство его объективного видения сущности изображаемых явлений. ««Вишневый сад», — пишет он там же, — реальная картина жизни, в ней нет ничего искусственного или преувеличенного. Эту реальность Чехову мастерски удалось облечь в прекрасную одежду искусства. Писатель достигает высот психологического анализа при изображении человеческих характеров».
Наряду с «Вишневым садом», в арабских странах популярны пьесы Чехова — «Дядя Ваня», «Чайка», «Три сестры», выдержавшие по нескольку изданий.
С середины 40-х гг. проявляется значительный интерес к творчеству Чехова со стороны литературной критики. В 1945 г. в каирском журнале «Аль-Муктатаф» публикуется одна из первых статей о Чехове. Здесь же, в Каире, отдельным изданием выходит «Моя жизнь», в 1947 г. — «Рассказ неизвестного человека» и сборник «Русские рассказы», в котором значительное место отводится переводам из Чехова. Однако, как отмечает А.А. Долинина, имея в виду этот сборник, «переводчик своим стремлением к «украшению стиля» исказил до неузнаваемости произведения русских писателей, совершенно уничтожив все реалистические черты»41. В 1947 г. в Каире, в издательстве «Дар аль-Маариф», в популярной серии «Икра» («Читай») публикуются рассказы Чехова отдельным сборником в переводе Наджати Сидки.
Большую роль в пропаганде русской литературы, в том числе и Чехова, в это время играет ливанский журнал «Ат-Тарик» — орган прогрессивных писателей Сирии и Ливана, основанный в 1941 г. известным ливанским писателем и публицистом Омаром Фахури. В «Ат-Тарике» успешно сотрудничали демократически настроенные писатели и из других арабских стран, прежде всего Египта и Ирака. Здесь в 1944 г. печатается статья о Чехове по случаю 40-летия со дня его смерти, материалом для которой послужили, в основном, советские исследования.
В 50-е гг., в эпоху подъема борьбы за идеалы независимости, в арабской литературе утверждается критический реализм как основной художественный метод. Появляется течение «новый реализм», сплотивший молодых писателей из демократических слоев общества. Господствующее положение в литературе занимает рассказ. В ведущих арабских странах, добившихся независимости, наблюдается бурный подъем литературной жизни, обусловленный значительными общественно-политическими достижениями. Усиливается внимание передовых художников к русской литературе. Египетский критик Ахмад аль-Бадини говорит о роли русской литературы в арабском литературном процессе этого периода: «Реалистическая литература (в арабском регионе. — Э.А.) обязана своим величием и расцветом русским писателям. Мы нуждаемся в такой литературе, за которую ратовал Горький, говоривший, что литература должна быть искусством, исполненным верою в человека, в скрытые бессмертные силы человека, должна отражать действительный мир, окружающий угнетенного и угнетателя, жертву и палача»42.
Наряду с Горьким, чей революционный пафос более всего отвечал боевому духу литературы, широкую известность приобретает Чехов, вступив в пору, пожалуй, наибольшей своей популярности в арабском мире в целом. Теперешний интерес арабских литераторов к Чехову можно сравнить с тем восторженным отношением, которое проявлялось к русскому писателю в 20-е гг. — в период становления реалистического направления в искусстве и приоритета жанра рассказа.
Заметно увеличивается число переводов произведений Чехова, они становятся более профессиональными. Дамасское издательство «Арабское пробуждение» в 1954—1955 гг. в серии «Шедевры мировой литературы», выпускает наряду с другими русскими писателями собрание сочинений Чехова в двух томах. Переводчики Фуад Айюб и Сухейл Айюб в предисловии к первому тому подчеркивают, что они «старались придерживаться точности оригинала, дабы сохранить дух произведений Чехова, отразивших глубокие человеческие страдания, пронизанных призывом к человеку противодействовать злу в бескомпромиссной борьбе за жизнь»43.
Рассматривая жизненный и творческий путь русского писателя, переводчики акцентируют внимание на основных характерных чертах его новеллистики. Обращаясь к высказываниям Чехова о литературе, они выделяют те, где Чехов ратует за необходимость правдивости, реалистичности в искусстве.
Переводчики отмечают высокое мастерство Чехова-художника, его новаторскую роль в истории развития русской литературы. У Чехова, по их наблюдениям, огромный талант. Богата художественная палитра писателя; в его творчестве, считают они, трудно найти два сходных по художественному решению рассказа, два аналогичных образа, сюжета44. Привлекает к себе и «беспредельное представление Чехова о человеке и жизни, мастерски реализующееся в художественном творчестве писателя». Пользуясь малым объемом повествования, он умеет запечатлеть большой и значительный жизненный эпизод. Отмечаются и особенности чеховского мироощущения, его эстетических принципов, душевного склада, трезвый взгляд на жизнь, воплощенный в неразрывной связи его произведений с «глубинными пластами действительности», присущая Чехову острая наблюдательность художника-психолога, позволяющая всесторонне постигать человеческую сущность, доходить до «дна» ее, обращение к юмору как мощному средству «осмеяния окружающего общества», глубокое сочувствие к судьбам своих персонажей, «терпящих крах, крушение иллюзий». «Показывая героев в моменты духовного поражения, Чехов не осуждает их... Крестьяне, рабочие, купцы, попы, учителя, странники, офицеры, чиновники, — все его персонажи, будь они детьми или взрослыми, мужчинами или женщинами, — все они друзья Чехова и всем им Чехов — друг»45.
Переводчики указывают и на другие, главные с их точки зрения, неповторимые черты чеховского искусства. Прежде всего — это простота выражения: «Он пишет просто, потому что не может писать иначе». Подчеркивается оптимистичность звучания чеховской прозы, хотя, на первый взгляд, отмечают переводчики, она может показаться глубоко пессимистичной. Все это позволяет называть Чехова подлинным живописцем, по произведениям которого «можно составить достоверную картину старой России со всеми ее трудностями, невзгодами и радостями»46.
Для популяризации творчества Чехова многое сделали и бейрутские издательства. В 1954 г. в переводе Мунира аль-Баалбеки выходит «Моя жизнь», в 1959 г. издается «Дуэль». В эти же годы печатается перевод «Скучной истории», выполненный Мухаммедом аль-Маасарани. В 1956 г. на страницах бейрутского журнала «Аль-Адаб» («Литература») публикуется рассказ «Мститель» в переводе Эдгара Саркиса.
Высокое качество переводов Мунира аль-Баалбеки отмечает Михаил Нуайме в заметке «Давайте переводить!»47. Напоминая, что переводчику недостаточно знать в совершенстве язык, с которого он переводит и на который переводит, а он должен прочувствовать дух писателя, его метод и стиль, а также дух эпохи, в которую писатель жил и творил, известный ливанский прозаик считает, что Мунир аль-Баалбеки обладает всеми этими достоинствами переводчика, и прежде всего — высоким чувством ответственности за «благородное дело, содействующее обогащению арабской литературы и арабского читателя». М. Нуайме отдает должное и профессионализму ливанского писателя Сухейля Идриса как переводчика произведений Чехова, в частности, «Вишневого сада».
Все эти бейрутские переводы снабжены предисловиями переводчиков, выступивших (так же, как и в случае с дамасским изданием) в роли литературных критиков. В них творчество Чехова рассматривается в разных аспектах. Так, Мухаммед аль-Маасарани наряду с описанием наиболее ярких, на его взгляд, эпизодов из жизни писателя, заостряет внимание на идейно-тематической основе произведений Чехова, написанных в предреволюционные годы и отражающих настроения русской интеллигенции — ее нерешительности, сомнений, колебаний. По мнению Мухаммеда аль-Маасарани, «Скучная история» — самое прекрасное произведение Чехова на данную тему48.
Автора предисловия к «Моей жизни» привлекает другая особенность чеховской прозы — гуманизм писателя, искусство анализа душевного состояния, простота выражения. Переводчик считает «Мою жизнь» «одним из лучших произведений великого прозаика»49.
Издание «Дуэли» было приурочено к юбилейной дате — 100-летию со дня рождения Чехова. В связи с этим в обширном редакционном предисловии рассказывалось о перипетиях жизненного и творческого пути писателя. Выдержки из высказываний Чехова перемежались с анализом чеховских произведений. При этом отмечались свойственные чеховскому творчеству черты — юмор, критическая направленность и другие особенности, обеспечившие непреходящий успех Чехова в русской литературе, в том числе и в драматургии. По словам автора предисловия, «Чехов совершил революцию в драме, превратив ее в настоящее искусство, так же как он совершил переворот в области короткого рассказа»50.
Перевод «Дуэли» снабжен и кратким редакционным послесловием. В нем отмечается, что Чехов «создал новый жанр в литературе» (имеется в виду тип чеховского рассказа). Писатель называется родоначальником особого психологического направления в литературе, «обратившегося к изображению различных проявлений характеров людей, их душевных состояний, мыслей и чувств...»51
Чеховское миропонимание и приемы повествования в эти годы близки многим арабским писателям — египтянину Юсуфу Идрису52, ливанцу Михаилу Нуайме, иракскому прозаику Эдмону Сабри53, сирийским новеллистам, членам ассоциации сирийских писателей, созданной в 1951 г., и др.
Так, представитель Ассоциации Хасиб аль-Кайяли (1921—1993) в начале своей литературной деятельности откровенно говорил о воздействии на него рассказов Чехова. В журнале «Ан-Нуккад» («Критика») в 1950 г. (№ 50) Х. аль-Кайали писал, что Чехов поразил его своей человечностью, неразрывной связью с жизнью. Хотя со временем, по словам самого аль-Кайяли, он освободился от «зависимости» от этого великого русского мастера, однако своей приверженностью «малому жанру» он обязан только ему. Но Хасиб аль-Кайали, возможно, только теоретически пытался уйти из этого «плена», чтобы обрести свою интонацию и найти свои темы, по сути своей практически следуя за Чеховым в его принципах отражения действительности. Присущее Чехову чувство языка и «ощущение действительности» являлись главной притягательной силой для ай-Кайяли, и это главное, что он берет из наследия русского писателя.
По признанию другого писателя Ассоциации Фадыля ас-Сибаи (р. 1929), его всегда привлекала простота чеховских рассказов, которая производила на него сильное впечатление.
Мопассана и Чехова своими литературными учителями называл сирийский прозаик Абд ас-Салям аль Уджейли. Сильное воздействие Чехова испытал еще один сирийский новеллист — Абдаллах Абд. Родственность тем и сюжетов можно заметить и в творчестве последующего поколения писателей — ливийского прозаика Али Мустафы аль-Миссурати, йеменского новеллиста Мухаммеда Абд аль-Вали.
Все больше творчество Чехова привлекает внимание арабской критики, призывающей писателей учиться у него мастерству изображения при решении проблем, стоящих перед своей, национальной литературой, в частности, новеллистикой. Тревогу арабских критиков вызывает современное состояние новеллы. Так, палестинская писательница Асма Туби, отмечая низкий художественный уровень некоторых арабских новелл, считает необходимым следовать опыту мировой новеллистики, лучшим образцом которой является Чехов54. «Обратитесь к Чехову, прочитайте, например, его рассказ «Ванька», — пишет Асма Туби, — и он захватит вас целиком... Рассказ будоражит мысль и чувства, заставляет задуматься над тем, почему люди угнетают детей? Сколько тысяч из них могут написать такое письмо, которое написал Ванька своему деду в ночь на рождество? Кто повинен в трагедии этих малышей? Как можно облегчить их участь?»55
Асма Туби подчеркивает, что настоящий рассказ должен затрагивать лучшие чувства читателя, пробуждать в нем человечность. Именно такой нравственной силой воздействия обладает, по ее мнению, творчество Чехова.
Однако творчество Чехова не всеми арабскими критиками оценивается одинаково. В связи с признанием открыто негативного отношения Чехова к неприглядным явлениям русской действительности раздаются голоса о его пессимистическом мироощущении, безысходной участи его героев, и это возводится к пониманию им бессмысленности, абсурдности существования. Но подобные оценки творчества Чехова, как правило, вызывают резкую критику арабских последователей чеховского искусства.
В связи с этим интерес представляет статья сирийского критика Джалала Фарука аш-Шарифа, написанная по случаю пятидесятилетия со дня смерти Чехова56. Поставив перед собой задачу дать отпор некоторым западным буржуазным толкователям творчества Чехова, их попыткам обвинить Чехова в унылом пессимизме, объявить его «поэтом отчаяния», аш-Шариф в качестве доказательства жизнеутверждающего чеховского миросозерцания приводит переписку писателя с Горьким, ссылается на высказывания самого Чехова о месте и назначении писателя в жизни. Основой отношения к чеховскому наследию для аш-Шарифа служит горьковское понимание творчества Чехова. «Наследие Чехова сегодня, спустя 50 лет после его смерти, известное благодаря переводам на все языки мира, входит в богатую мировую литературную сокровищницу», — так начинает свое исследование аш-Шариф57. Ратуя за объективную трактовку произведений Чехова, выступая против ложного понимания эстетических критериев Чехова, аш-Шариф пишет, что «арабский читатель чувствует потребность в «новом слове» о Чехове, особенно после того, как он приобрел популярность в арабских странах»58.
Аш-Шариф приводит высказывания о Чехове английской писательницы, горячей поклонницы чеховского искусства Кэтрин Мэнсфилд, утверждающей подобно Л. Шестову, что главная особенность чеховских драм в том, что в них звучит тема одиночества, а «чеховские персонажи окружены плотными стенами», из которых нет для них выхода, что основой чеховского мироощущения является признание абсурдности бытия и т. д.59
Полемизируя с подобными взглядами и отвергая «абсурдистскую» трактовку творчества Чехова, аш-Шариф утверждает, что «уныние» писателя имеет под собой реальную почву — оно продиктовано условиями жизни той России, которую «открыто, правдиво и достоверно» изобразил Чехов в своих произведениях60. «Чехов был верен правде всегда. Однако действительность, которую преподнес нам Чехов в своих произведениях, была в сущности своей трагической...» Если Чехов изобразил несчастья и суровости жизни в России, то этим самым он «стремился к более высоким целям. Если Чехова и встревожила проблема «бессмысленности» человеческой судьбы, то это объясняется лишь тем, что он хотел проникнуть в глубь национальной действительности, а через нее обратиться к общечеловеческим проблемам»61.
Тенденциозного подхода к творчеству Чехова лишена, на взгляд аш-Шарифа, книга французской исследовательницы Ирен Немировской «Жизнь Чехова», которую арабский критик считает «лучшей биографией писателя из всех известных»62.
Подобное стремление к верной интерпретации чеховского творчества можно сравнить с тем резонансом, который вызывали в арабских странах произведения крупнейшего египетского прозаика Нагиба Махфуза, испытавшего, по его собственному признанию, влияние Л. Толстого. Н. Махфуз неоднократно обвинялся в пессимизме, упадочнических настроениях. Подобные выводы строились на том основании, что герои писателя не достигают желанной цели и судьба их обычно складывается трагически. В интервью с египетским литературоведом Фаруком Шуша Н. Махфуз говорит: «Да, я писатель грусти, но грусть — не черта моей натуры. Я отношусь к поколению, у которого грусть преобладает даже в моменты радости. Потому что счастливые встречаются лишь среди равнодушных, или высших слоев, таких нет в народной среде. И неудивительно поэтому, что мое творчество отличает грусть. Было бы странным, если бы мои произведения были пронизаны радостью... Но моя тоска — не упадочническая, не пессимистическая. Упадочничество — душевная болезнь. Насколько мне известно, я ей не подвержен, ведь пессимист отрицает жизнь, ее ценности. А мои герои любят жизнь, ведь она прекрасна. Но обстоятельства оказываются сильнее их желаний»63. Отвечая тем, кто обвинял его в декадентстве, Н. Махфуз неизменно подчеркивал: «Я никогда не был приверженцем абсурдизма. Я реалист». Другому критику Ахмаду Мухаммаду Атыйе, интересовавшемуся значением трагических финалов его романов, Н. Махфуз говорил, что подобным путем он «выражает свое обвинение существующему обществу»64.
С задачами своей национальной литературы связывает творчество Чехова известный египетский критик Рага ан-Наккаш. В статье «Об арабской новелле»65 Рага ан-Наккаш говорит о социальной детерминированности искусства Чехова, о связи человека и общества в произведениях писателя. В качестве примера Рага ан-Наккаш приводит рассказ Чехова «Тоска», который потряс критика идеей необходимости взаимопомощи людей, их потребности в общении друг с другом, которую писатель выразил, идя от обратного, т. е. показав отчужденность людей, их равнодушие. «Просто и легко раскрыл нам Чехов трагедию маленького человека... Действие в рассказе развивается незатейливо, но насколько богата и глубока эта простота. Это есть подлинное искусство и именно в нем нуждается человечество»66. (Аналогичная оценка рассказа «Тоска» содержится и в исследовании другого литературоведа доктора Решала Рушди «Искусство новеллы»67, вышедшем первым изданием в 1959 году.)
Идеи рассказов Чехова, их социальный смысл, — отмечает далее Рага ан-Наккаш, — «намного убедительнее всяких лозунгов и призывов. Потому что Чехов, за внешней несложностью произведений которого скрывается глубокое значение, видел все недостатки и пороки общественного устройства страны, чувствуя внутреннюю потребность в изменении порочной жизни. Именно по этой причине его произведения обладают большей силой воздействия, чем разного рода теоретизирования в литературной критике»68.
Рага ан-Наккаш, говоря о необходимости малой формы для арабской литературы, призывает писателей, следуя чеховским эстетическим установкам, «исходить из самой жизни, не предаваться силе воображения, потому что глубокое постижение жизненных явлений — основа подлинно художественного произведения»69.
Интерес арабских литературных кругов вызывает не только творчество Чехова, но и личность, частная жизнь писателя. Однако вместе с достоверным обликом Чехова на страницах арабской прессы встречаются нелепые рассуждения, искажающие подлинный портрет художника. Так, со статьей под названием «Женитьба Чехова. Писатель, которого ненавидели женщины!» выступает Хабиб Джамати70. Правда, автор статьи отдает должное писательскому мастерству Чехова, признавая, что «он был выдающимся писателем-гуманистом, блестящим драматургом <...> имя которого продолжает жить, ибо оно бессмертно»71. Но с такой характеристикой чеховского дарования трудно совместить черты, которые приписываются Чехову и не имеют ничего общего с реальной личностью писателя-гуманиста. Статья написана, как объявляет автор, к юбилейной дате — 100-летию со дня рождения писателя. Автора, по его собственному признанию, в первую очередь интересует личная судьба Чехова, его взаимоотношения с другими людьми, прежде всего, с литераторами, и его отношение к женщинам. «Странным событием» в жизни Чехова автор считает женитьбу писателя: «Известно, что Антон Чехов ненавидел женщин, избегал общения с ними. Его холодность к женщинам отразилась и в его творчестве — пьесах и рассказах, и в личных беседах с людьми. Поэтому и женщины ненавидели его, а вместе с ними и литераторы и критики, анализирующие его произведения, как в России, так и в других странах, где Чехова переводили»72. Женитьба Чехова на Ольге Книппер, считает Джамати, не принесла писателю утешения, не облегчила его страдания, о чем свидетельствуют полные тоски и любви его письма к жене. И еще одна деталь, которую добавляет Джамати к своей характеристике Чехова. По словам Джамати, «он гневался, если кто-либо оспаривал его точку зрения на миссию литературы и литератора»73. А между тем широко известно высказывание Бунина: «Злым Чехова я никогда не видал; раздражался он редко, а если и раздражался, то изумительно умел владеть собой. Но и холодным я его не видал <...> это был человек редкого душевного благородства, воспитанности и изящества в самом лучшем значении этих слов, мягкости и деликатности при необыкновенной искренности и простоте, чуткости и нежности при редкой правдивости»74.
К счастью, «рассуждения», подобные тем, какими отличился Джамати, в арабской печати встречаются не часто. В основном же преобладает восторженное отношение к личности Чехова.
60-е годы в истории арабской литературы — мрачное и суровое время. Прогрессивная творческая интеллигенция теряет веру в идеалы, за которые она боролась, в реальную возможность общественного переустройства. Трагическим событием, оказавшим влияние на сознание и литературную деятельность интеллигенции, явилось поражение арабов в «шестидневной» арабо-израильской войне в июне 1967 года. Многие писатели сосредоточиваются на изображении только сферы субъективного, на внутренней, духовной жизни человека. Сомнению подвергается способность традиционного реализма выразить характер современной, напряженной и довольно усложненной действительности, конфликты личности и общества. Реализм считается устаревшим, консервативным литературным направлением, «нуждающимся» в замене более «совершенными» методами художественного творчества.
В арабских странах в этот период наиболее благоприятную почву нашла западная модернистская эстетика. Внимание значительной части творческой интеллигенции привлекает художественная позиция французских писателей-экзистенциалистов. Страницы журналов пестрят статьями об основных положениях экзистенциализма в творчестве Ж.-П. Сартра, С. де Бовуар, А. Камю, Джойса, Лоуренса и др. Арабская критика ссылается на все растущую популярность экзистенциальной философии в целом, на данном этапе наиболее соответствующей умонастроению арабской интеллигенции.
Чехов в эти годы по-разному оценивается арабскими литераторами.
Борьба вокруг творчества Чехова разгорается с новой силой; наряду с признанием Чехова как «самого правдивого реалиста» все явственнее звучат субъективистские толкования литературной деятельности русского прозаика. Критики находят в его мировоззрении и творчестве черты экзистенциализма. Вместе с тем в ливанском журнале «Аль-Адаб» появляются публикации, отвергающие «декадентские» толкования творчества Чехова.
Так, египетский критик Анвар аль-Маадави выступил со статьей «Ученик Чехова»75, представляющей собой предисловие к сборнику рассказов известного египетского новеллиста Мухаммеда Абу аль-Муаты Абу ан-Нага «Девушка в городе». Критик считает Абу ан-Нага последователем «чеховской школы» в новеллистике. Он видит в Чехове писателя, который «поражает новеллистическим видением мельчайших деталей», и отмечает, что Чехов справедливо назван писателем-«ювелиром». По словам Анвар аль-Маадави, «мы можем проследить эти мельчайшие детали во всех его произведениях, — говорит далее Анвар аль-Маадави. — Эти детали приобретают особую значимость, когда он показывает своих персонажей в критические моменты их жизни»76.
Подобную технику письма критик сравнивает с «химическим опытом, состоящим из последовательных этапов, кода элементы соединяются в реакцию и приводят к конечному результату. Контрасты жизни часто и есть не что иное, как отдельные элементы чеховских опытов».
Наличие характерных черт чеховской прозы аль-Маадави отмечает в новеллах ан-Нага. Прежде всего, это тонкая наблюдательность, трезвость и ясность художественного видения национальной египетской действительности.
Глубокое и полное ощущение специфики чеховского творчества дал крупный египетский критик Сабри Хафез в статье «Реализм поэтики в драматургии Чехова»77. Критик пишет: «Имеется много причин, побудивших меня к исследованию драматургии Чехова. Интерес к Чехову продиктован не только тем, что он занимает выдающееся место в развитии мировой драматургии, и не только тем, что он заложил основу большинства современных течений в драме, и не только тем, что его пьесы по сей день продолжают привлекать внимание в равной мере как критиков, так и зрителей. Драматургическое творчество Чехова поражает прежде всего глубиной познания тайных областей человеческой души. Причем достигается эта глубина в превосходном, простом стиле... Кроме того, Чехов был одним из первых писателей, преодолевших натурализм в драме... Он дал новое изображение человека на сцене... Даже долгими паузами, подлинным «потоком молчания», столь распространенным в его пьесах, он сумел передать всю силу тех взрывов, которые таятся в душах его персонажей, добрых по натуре, ищущих лучшей жизни».
«Антон Чехов — художник подлинной простоты и человечности. Этой своей удивительной простотой он в корне потряс мировой театр, оказав несомненное воздействие на последующие поколения писателей»78. Сабри Хафез считает Чехова писателем «исключительного таланта», а его драмы — «бессмертными, всю глубинную сущность которых исчерпать до конца невозможно»79.
Критик высказывает и свое отношение к спорам вокруг «пессимистического» взгляда Чехова на жизнь, отмечая, что эти диспуты и побудили его обратиться к анализу чеховских пьес. Пьесы Чехова, по словам Сабри Хафеза, — самое значительное явление в мировой драматургии: «Чехов появился, чтобы стать современным европейским Софоклом <...> покоряя не только простотой и увлекательностью своих пьес. Он появился, чтобы вернуть драме софокловское равновесие. Он появился, чтобы стать зеркалом русской души кануна революции. Он правдиво изобразил все нюансы этой души, ее стремление к светлому будущему, которое должно непременно наступить... Он появился, чтобы помочь людям увидеть истинное лицо действительности, чтобы сорвать маску с прогнившего общественного строя России. Чехов увидел вестников грядущей радости. Он чувствовал необходимость перемен, революционных преобразований, способных вывести русский народ из его невыносимого положения»80.
Египетский критик не может не сказать и о том, что неоднократно отмечалось другими прогрессивными арабскими литераторами — о предельной достоверности и проницательности чеховского изображения, о социальной направленности творчества писателя. «Чехов глубоко прочувствовал и осознал путь общественного развития своей страны, тесно связав искусство и реальность»81.
Много места критик уделяет особенностям поэтики чеховской драматургии. В приверженности Чехова к «театру молчания», в изображении людей из обычной, повседневной жизни, в отсутствии героических персонажей («Мы не находим в его пьесах героев в традиционном понимании»), в лиричности стиля критик видит наиболее зримые и значимые черты художественного мастерства русского драматурга. Но все это не означает, — поясняет Сабри Хафез, — что в его пьесах преобладает романтическое направление. «Чехов является самым правдивым реалистом», — заключает критик82.
Аналогичные мысли высказывает и другой известный египетский критик Али ар-Раи в предисловии к переводу «Трех сестер». «Бесполезно искать среди чеховских персонажей героев <...>, — пишет он. — Каждый отдельный человек у него — это все люди вместе взятые, это толпа со всеми своими проблемами, радостями и печалями...»83
Возвращаясь к Сабри Хафезу отметим, что и он подчеркивает «общечеловеческое» звучание проблем, тревожащих героев Чехова: «Чехов сумел создать общечеловеческие типы в своих бессмертных жемчужинах искусства»84.
В арабских странах широко популяризируются и работы советских исследователей творчества Чехова. Арабские литераторы в своих статьях о Чехове ссылаются на труды В. Ермилова, К. Чуковского, А. Белкина, З. Паперного. В арабских журналах печатаются также статьи западноевропейских писателей и критиков о творческом пути Чехова.
Еще в 1959 году в Каире вышла книга В. Ермилова о Чехове в переводе Абд аль-Кадира Кутта и Фуада Камиля. В 1975 г. в Бейруте появляется перевод работ А. Белкина под названием «Чехов — новеллист и драматург»85. Переводчица — доктор Хайат Шарара в предисловии к книге характеризует политическую и общественную ситуацию в России в конце XIX — начале XX века, на фоне которой возникает творчество русского писателя. Хайат Шарара акцентирует внимание на идейной направленности чеховского творчества. «Изображение Чеховым лицемерия, бездуховности, его интерес к «мелочам» жизни представляли собой резкую критику тогдашней действительности. Чехов показал не только духовную опустошенность людей, не только бессмысленность жизни, которую они вели, не только их бесплодные мечтания. Чехов отобразил и их веру в светлое будущее, в то будущее, когда жизнь станет действительно прекрасной»86.
Хайат Шарара призывает арабских литераторов к всестороннему изучению творчества Чехова, более широкому и глубокому ознакомлению арабского читателя с его наследием. А чтобы лучше понять и оценить Чехова, считает Хайат Шарара, арабским критикам и литературоведам необходимо знать и литературное окружение писателя, творчество его современников — лучших представителей русской художественной мысли того времени87.
Отмеченные выше явления арабской литературной жизни позволяют сделать вывод, что на протяжении последних ста лет в арабском мире благодаря усилиям переводчиков, прогрессивных писателей и литературных критиков существует стабильный интерес к творчеству Чехова. Его популярность среди арабской читающей публики постоянно растет.
А.П. Чехов. Дама с собачкой. Бейрут, 1981. Титульный лист
А.П. Чехов. Собрание сочинений. Т. 1. Дамаск, <1954>. Обложка
Антон Чехов. «Чайка» и другие пьесы. Каир, 1959. Обложка
Примечания
*. Здесь и далее перевод автора обзора.
1. Крачковский И.Ю. Горький и арабская литература // Крачковский И.Ю. Избранные сочинения. Т. III. М.; Л., 1956. С. 275—276.
2. Крачковский И.Ю. Чехов в арабской литературе // Там же. С. 313.
3. Там же.
4. Цит. по: Крачковский И.Ю. Автобиография Михаила Нуайме // Там же. С. 226.
5. Нуайме М. Вдали от Москвы и Вашингтона. Бейрут, 1957. С. 73—74.
6. Крачковский И.Ю. Чехов в арабской литературе. С. 314.
7. Об этом подробно см.: Долинина А.А. Первый сборник произведений М. Горького на арабском языке // Горький и литературы зарубежного Востока. М., 1968; Али-заде Э.А. Египетская новелла. Зарождение и формирование жанра. М., 1974. С. 35—37, 50—56.
8. Долинина А. Русская литература в арабских странах // Русская литература. 1960. № 1. С. 203.
9. Бунин И.А. Собрание сочинений. Т. 9. М., 1967. С. 208.
10. Долинина А. Русская литература в арабских странах. С. 203.
11. Хакки Яхья. Заря египетского рассказа. Каир, 1975. С. 78.
12. Там же. С. 81—82.
13. Шуша Фарук. Яхья Хакки // Аль-Адаб. № 1. 1960. С. 11.
14. Там же. С. 29.
15. Фахми Мансур. Предисловие // Лашин М.Т. Ирония свирели (сб. рассказов). Каир, 1926.
16. Крачковский И.Ю. Новоарабская литература // Крачковский И.Ю. Избранные сочинения. Т. III. М.; Л., 1956. С. 75.
17. Лашин Махмуд Тахир. Краска стыда // Лашин М.Т. «Рассказывают, что...» (сб. рассказов). Каир, 1930. С. 47.
18. Рассказ включен в сб. М.Т. Лашина «Ирония свирели». С. 111—128.
19. Теймур Мухаммед. Сочинения. Т. I. Сияние духа. Каир, 1922. С. 250. По-видимому, М. Теймур имел в виду рассказ Мопассана «Порт», при переводе которого Л. Толстой «и не стремился к точности»; он даже изменил заглавие рассказа, назвав его по имени героини — «Франсуаза» — и снабдив пометой: «По Мопассану». См.: Федоров А.В. Основы общей теории перевода. М., 1968. С. 87.
20. Об этом см. Али-заде Э.А. Указ. соч. С. 102—103.
21. Хакки Яхья. Заря египетского рассказа. С. 231—232.
22. Там же.
23. Ерофеев В.В. Стилевое выражение этической позиции (стили Чехова и Мопассана) // Типология стилевого развития XIX века. М., 1977. С. 423.
24. Теймур Махмуд. Как я познакомился с новеллистом-гуманистом Чеховым // Аль-Хиляль. 1960. № 3. С. 55.
25. Там же. С. 55—56.
26. Там же. С. 57.
27. Арабские писатели о русской и советской литературе. Махмуд Теймур (Египетский р-н ОАР) // Современный Восток. 1958. № 9. С. 65—66.
28. Там же
29. Теймур Махмуд. Предисловие // Теймур Махмуд. «Шейх Джума» и другие рассказы. Каир, 1925.
30. Ерофеев В.В. Указ. соч. С. 422—423.
31. Теймур Махмуд. Соч., указ. в примеч. 24. С. 56.
32. Теймур Махмуд. Предисловие // Теймур Махмуд. Шейх Джума и другие рассказы. Изд. 2. Каир, 1927.
33. Гейдеко В.А. А. Чехов и Ив. Бунин. М., 1976. С. 216.
34. Теймур М. Соч., указ. в примеч. 29.
35. См.: Ерофеев В.В. Указ. соч. С. 433.
36. Теймур Махмуд. Соч., указ. в примеч. 24. С. 56.
37. Там же.
38. Там же.
39. Цит. по: Крачковский И.Ю. Чехов в арабской литературе. С. 314—315.
40. Аль-Джабалави Мухаммед Тахир. Предисловие // Чехов А. Вишневый сад. Каир, 1948.
41. Долинина А. Русская литература в арабских странах. С. 206.
42. Цит. по: Рассказы арабских писателей. М., 1955. С. 186.
43. Айюб Фуад, Айюб Сухейл. Предисловие // Чехов А. Полное собрание сочинений. Т. I—II. Дамаск, 1954—1955. Т. I. С. 6.
44. Там же. С. 4.
45. Там же. С. 5.
46. Там же. С. 6.
47. Аль-Адаб. 1955. № 8. С. 15.
48. Аль-Маасарани Мухаммед. Предисловие // Чехов А. Скучная история. (Бейрут. 195...). С. 3—8.
49. Аль-Баалбеки Мунир. Предисловие // Чехов А. Моя жизнь. (Рассказ провинциала). Бейрут, 1954.
50. Чехов А. Дуэль. Изд. 1. Бейрут, 1959. Предисловие. С. 12.
51. Там же. Послесловие (без с.).
52. См.: Кирпиченко В.Н. Юсуф Идрис. М., 1980. С. 43—46.
53. См.: Чуков Б.В. Реализм в послереволюционной иракской прозе (1958—1972) // Литературы зарубежной Азии в современную эпоху. М., 1975. С. 292—294. См. также в наст. кн. статью Б.В. Чукова «Чехов в Ираке».
54. Туби Асма. Наша новелла // Аль-Адаб. 1955. № 4. С. 30.
55. Там же. С. 31.
56. Аш-Шариф Джалал Фарук. Антон Чехов // Аль-Адаб. 1954. № 10. С. 41—46.
57. Там же. С. 41.
58. Там же.
59. Там же. С. 42.
60. Там же. С. 46.
61. Там же.
62. Там же. С. 42. Книга И. Немировской (Nemirovsky I. La vie de Tchékhov. Р., 1946) пользовалась успехом и в других восточных странах.
63. Аль-Адаб. 1960. № 6. С. 18—19.
64. Там же. С. 27—28.
65. Ан-Наккаш Рага. Об арабской новелле // Аль-Адаб. 1959. № 9. С. 11—14.
66. Там же. С. 11.
67. Рушди Решад. Искусство новеллы. Бейрут. Изд. 2, 1975. С. 110—121.
68. Ан-Наккаш Рага. Указ. соч. С. 11.
69. Там же. С. 12.
70. Аль-Хиляль. 1960. № 10. С. 36—40.
71. Там же. С. 40.
72. Там же. С. 36—37.
73. Там же. С. 36.
74. Бунин И.А. Собрание сочинений. Т. 9. М., 1967. С. 187.
75. Аль-Маадави Анвар. Ученик Чехова // Аль-Адаб. 1960. № 8. С. 18—21.
76. Там же. С. 18.
77. Хафез Сабри. Реализм поэтики в драматургии Чехова // Аль-Адаб. 1964. № 8. С. 28—32, 49—54; № 9. С. 30—35, 59—63.
78. Там же. С. 28.
79. Там же.
80. Там же. С. 50.
81. Там же.
82. Там же. С. 53.
83. Цит. по: Ан-Наккаш Рага. Указ. соч. С. 53.
84. Хафез Сабри. Указ. соч. С. 50.
85. Белкин А. Чехов — новеллист и драматург. Бейрут, 1975.
86. Там же. С. 6.
87. Там же. С. 7—8.
| Предыдущая страница | К оглавлению | Следующая страница |