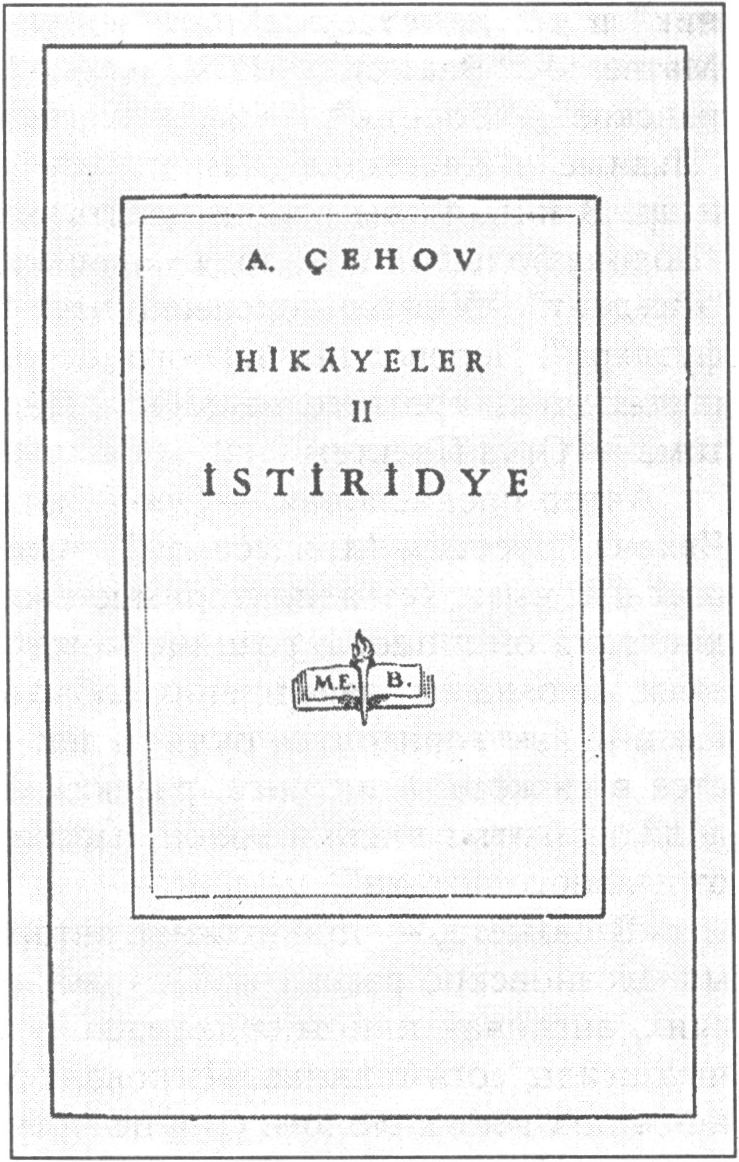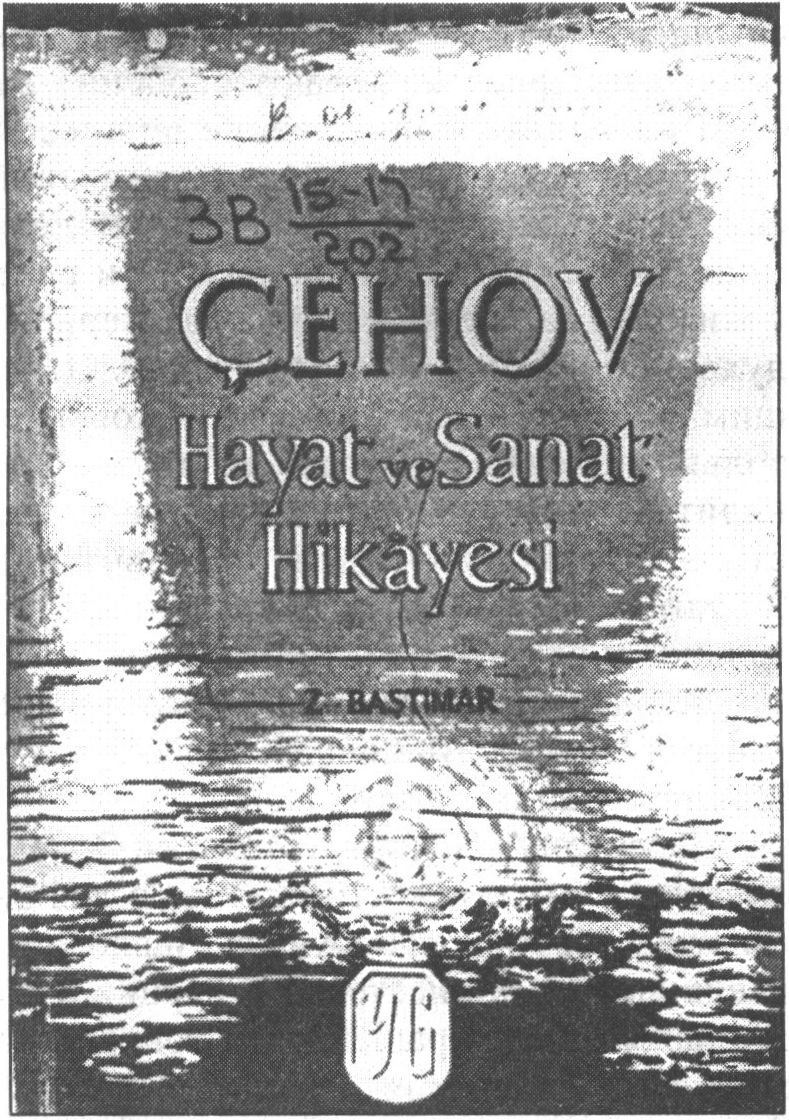1
С произведениями русских классиков, и Чеховым в том числе, турок впервые познакомили русские или выходцы из России. В конце XIX в. уроженец Дагестана Мурат-бей1 издал первый перевод комедии Грибоедова «Горе от ума»; благодаря О. Лебедевой2 в Турции стали известны Пушкин, Лермонтов, Толстой.
Своим знакомством с Чеховым турки обязаны русскому ученому-тюркологу В.А. Гордлевскому3, который в 1910 г. в газете «Ени газете» (№ 751) опубликовал свой перевод чеховского рассказа «Брожение умов» с небольшой заметкой, характеризовавшей «эпоху безвременья, когда складывалось мировоззрение автора»4.
Следующие переводы рассказов Чехова в Турции относятся ко второй половине 20-х гг.: в 1926 г. газета «Вакит» опубликовала «Шуточку» и «Унтера Пришибеева», без указания фамилии переводчика, но с пометкой «с русского»5.
«В середине 30-х гг., — отмечает В.А. Гордлевский, — русская литература привлекает к себе пристальное внимание... Среди русских писателей, увлекавших турок, одно из первых мест, а может быть, и первое занимает Чехов»6. Анкарские и стамбульские газеты того времени «Хакиммиети миллие», «Улус», «Сон поста», «Тан», «Сон саат» были полны переводами чеховских рассказов. В 1937 г. одна лишь газета «Сон поста» поместила подряд три рассказа Чехова: «Полинька», «Смерть чиновника» и «Произведение искусства». Как писал позднее Хасан Али Эдиз7, «Чехов вошел в турецкую литературу прежде всего своими небольшими юмористическими рассказами. Много лет мы смеялись, читая его рассказы, которые появлялись на страницах наших газет»8.
Издавая в 1934 г. «Антологию мировых шедевров», Васыф Махир включил в нее рассказ Чехова «Нищий». В предпосланной переводу коротенькой заметке Васыф Махир повторяет то, что давно сказал о Чехове М. де Вогюэ9: «Чехов — русский Мопассан, он в нескольких строках умеет нарисовать большое полотно»10. В «Избранные русские рассказы», которые издал в Турции в 1940 г. Гаффар Гюней, он включил сделанные им ранее переводы восьми чеховских рассказов.
Надо отметить, что турецкий читатель узнавал Чехова главным образом через французский язык, но переводили его и с английского, т. е. делался перевод с перевода; незнание же русского языка, русских реалий часто приводило к искажениям и ошибкам в турецком тексте. В.А. Гордлевский, который в статье «Чехов в Турции» коснулся также и качества переводов чеховских новелл на турецкий язык, отмечал «грубое непонимание», «искажения» и «пропуски».
«Иногда они <пропуски. — А.С.> понятны, — писал В.А. Гордлевский, — переводчик сознательно убирает те фразы, которые говорят, как ему кажется, об исключительном предпочтении христианства и затрагивают господствующую религию (например, в рассказе «Пари»). Иногда пропуски объясняются причинами внутреннего порядка <...> длинноты, описания отвлекают и утомляют и, как любого школьника, его <читателя. — А.C.> занимает фабула-развязка. Здесь литература идет как бы навстречу вкусам неприхотливой публики и вырабатывает кинематографическую манеру письма. И, наконец, пропускает переводчик то, что ему непонятно... Но переводчики используют также часто совершенно недопустимый прием: они искажают концовку фабулы и дают отсебятину <...> Разбросанные там и сям часто по отдельным рассказам переводческие приемы-манипуляции, произведенные над Чеховым, сконцентрированы на «Ваньке» целиком — здесь изменено все, от заглавия до последней строчки.
Я осуждаю переводы чеховских рассказов по трем линиям и нахожу:
1) ошибки, происходящие от неряшливости или от незнания русского языка и русской жизни; 2) упрощенческий подход, потакающий читателю; 3) искажения, недостойные литератора...»11
Лишь очень немногие в Турции в 20—30-х гг. переводили Чехова непосредственно с русского языка: это были либо турки, которые в 20-е гг. учились в Москве в Коммунистическом университете трудящихся Востока и в других школах, как Хасан Али Эдиз, Зеки Баштымар, либо люди из России, оказавшиеся в те годы в Турции (Гаффар Гюней).
Первые книги Чехова в Турции появились в 30-х гг. С тех пор его популярность непрерывно росла и не будет преувеличением сказать, что к настоящему времени все произведения Чехова, за очень малым исключением, переведены на турецкий язык и опубликованы в сборниках или вышли отдельными изданиями.
Сборники рассказов назывались и называются, в подавляющем большинстве, по заголовку первого рассказа, помещенного в книге.
Первой изданной в Турции в 1930 г. книгой Чехова была повесть «Драма на охоте». В переводе она была названа «Девушка в красной юбке». Переводчик Аднан Тахир Тан, — отмечал В.А. Гордлевский, — «заявляет, что он переводит произведение, только недавно изданное в Советском Союзе», а анкарское издательство «Акбаба» выпустило книгу в «цветной обложке под сарафан» со следующей рекламой: «Это — шедевр, — прекраснейший роман, здесь и любовь, и страсть, и ненависть, и преступление, и муки совести, — словом бесподобная красота»12.
Первый сборник чеховских рассказов вышел в 1935 г. Он назывался «Спутник жизни» и включал в себя шесть рассказов в переводе и с предисловием Сами-заде Сюррейи. По словам Хасана Али Эдиза, Сами-заде Сюррейя «сослужил хорошую службу, познакомив нас с русской литературой <...> Собранные им рассказы — не лучшие в чеховском творчестве. Но как первый шаг к представлению рассказов Чехова в виде сборника он имеет определенное значение»13.
Спустя три года, в 1938 г., стамбульское издательство «Ремзи» выпустило в серии «Переводы мировых писателей» второй сборник — «Маска»; его перевел с русского языка Зеки Баштымар, написавший также и предисловие, в котором изложил биографию писателя. В сборник вошли тридцать рассказов: «Маска», «Злоумышленник», «Весной», «Сон», «Писатель», «Старый дом», «Унтер Пришибеев», «На даче», «Зеркало», «Хамелеон», «Радость», «Зиночка», «Выигрышный билет», «Дачники», «Сонная одурь» и др. В том же 1938 г., в серии «Карманные книжки» Сабиха Зекерия выпускает маленький сборник «Человек в футляре» в переводе также с русского Б. Дениза14, в который входили, помимо «Человека в футляре», еще два рассказа Чехова. ««Человек в футляре», — отмечал Хасан Али Эдиз, — один из самых сильных рассказов Чехова. Он отражает впечатления писателя от школьной жизни в Таганроге. Для определенного типа людей выражение «человек в футляре» стало нарицательным»15.
В 1939 г. были опубликованы сразу три сборника: «Смерть чиновника», «Женское сердце» и «Дела идут со звоном». В этот последний сборник вошли пять чеховских рассказов с предисловием издателя Ибрагима Хильми.
В 1940 г. в серии «Переводы мировых писателей» увидела свет книга под названием «Палата № 6» (она включала «Палату № 6» и «В овраге»). Повести перевел с русского языка Хасан Али Эдиз, он же явился и автором предисловия, в основе которого лежал краткий пересказ монографии А. Дермана «Антон Павлович Чехов. Критико-биографический очерк» (М., 1939). «Мы можем выделить, — отмечал Х.А. Эдиз, — две характерные особенности, отличающие творчество Чехова: лаконизм (краткость, ясность) и простоту... Чехов оказал большую услугу русской литературе. Он ввел в нее жанр короткого юмористического рассказа. Чехов совершил революцию в русском театре... Он вдохнул в него жизнь и действие...»16 В последнем разделе своего предисловия (оно называлось «Чехов в Турции») Х.А. Эдиз перечислял, какие чеховские книги вышли в Турции к началу 1940 г. и давал им краткую характеристику17.
В том же 1940 г. Гаффар Гюней перевел чеховский водевиль «Предложение».
В 1943 г. увидели свет два сборника: один назывался «Женское сердце» (в переводе Хасана Али Эдиза), второй вышел в серии «Бессмертные произведения» и назывался ««Рассказ художника» (имеется в виду «Дом с мезонином» — А.С.) и другие рассказы». Он включал: «Рассказ художника», «Тссс!..», «После театра», «Писатель», «Клевета», «Розовый чулок», «Длинный язык», «Смерть чиновника», «Дорогая собака», «Загадочная натура», «Из воспоминаний идеалиста» и др. — Всего двадцать рассказов.
В том же году в стамбульском книгоиздательстве «Улькю» вышла пьеса «Вишневый сад» (ее перевели Вахдет Гюльтекин и Вала Карабуга). В кратком предисловии говорилось, что «Русский театр как своими пьесами, так и сценическим искусством, сыграл большую роль в развитии реалистического театра и в этом отношении велико значение Чехова. Московский Художественный театр возник на почве его идей и благодаря его произведениям далеко шагнул вперед. Кроме того, и другой гений русского реалистического театра — Максим Горький — вырос благодаря поощрению Чехова»18.
Еще в начале 40-х гг. Министерство национального просвещения Турции приняло решение об издании новой серии «Переводов мировой литературы» и разработало обширный план, по которому был предусмотрен и выпуск произведений великих русских писателей в серии «Русские классики». Подобное решение турецкого министерства объяснялось не только желанием ознакомить турок с образцами мировой литературы, но и настоятельной потребностью улучшить качество перевода. К работе над переводами были привлечены люди, хорошо владевшие русским языком, появились новые имена переводчиков — Нихаль Ялуза Талуй, Сервет Лунель, Эрол Гюней и др. Это позволило автору статьи «А.П. Чехов в Турции» М.С. Михайлову отметить позднее, что произведения Чехова, переведенные в сороковых и пятидесятых годах с русского текста, являются «более доброкачественными»19.
В 1944 г. издательство «Ремзи» выпустило в свет сразу четыре пьесы Чехова: «Три сестры» (переводчик Хасан Али Эдиз), «Вишневый сад» (переводчики Эрол Гюней и Шахап Ильтер), «Дядя Ваня» (переводчик Гаффар Гюней) и «Чайка» (переводчики Нихаль Ялуза Талуй и Кемаль Кайя). Годом позже пьесы были изданы в одном томе в серии «Русские классики». Автор рецензии на это издание Эрол Гюней в газете «Улус» (26 января 1945 г.) отмечал: ««Чайка», «Дядя Ваня», «Три сестры» и «Вишневый сад» оказали неизмеримо глубокое влияние на театр нашего времени, они указали театру верный путь»20.
Повесть «Дуэль» в переводе Зеки Баштымара вышла в 1945 г. в серии «Русские классики» и в издательстве «Ремзи».
М.С. Михайлов по поводу этих вышедших переводов писал: «Переводы знаменитых пьес А.П. Чехова, как входящие в серию «Русские классики», так и опубликованные издательством «Ремзи», сделаны с русского языка с достаточной точностью и убедительностью. Назовем удачный перевод «Чайки», который был сделан в 1944 г. Нихаль Ялуза Талуй и Кемалем Кайя. Такое же благоприятное впечатление оставляет и перевод Зеки Баштымаром повести «Дуэль»»21.
В течение пяти лет (1945—1949) Министерство национального просвещения в серии «Русские классики» выпустило пять томов «Рассказов» Чехова, в которые вошли более ста произведений писателя.
Первый том включал 27 рассказов: «Кривое зеркало», «Радость», «В цирюльне», «Умный дворник», «Загадочная натура», «Из дневника помощника бухгалтера», «Злой мальчик», «Perpetuum mobile», «Приданое», «Дочь Альбиона», «Страшная ночь», «Толстый и тонкий», «Клевета», «Альбом», «Брак по расчету», «Певчие», «Орден», «Учитель словесности» и др. Второй том включал тоже 27 рассказов: «Устрицы», «Хамелеон», «Хирургия», «Маска», «Заблудшие», «Из огня да в полымя», «Старость», «Сапоги», «Шило в мешке», «Отец семейства», «Сонная одурь», «Восклицательный знак», «Антрепренер под диваном», «Нервы», «Злоумышленник», «Счастливчик», «Из воспоминаний идеалиста», «Тссс!..», «Писатель» и др. Третий том состоял из двадцати пяти рассказов: «Кухарка женится», «Унтер Пришибеев», «Налим», «В бане», «Зеркало», «Мертвое тело», «Ворона», «Мыслитель», «Симулянты», «То была она!», «Неудача», «Длинный язык», «Розовый чулок», «Шуточка», «Первый любовник» и др. В четвертый том вошли тридцать три рассказа: «Анюта», «Иван Матвеич», «Ванька», «На мельнице», «День за городом», «Мальчики», «Шампанское», «Володя», «Тиф», «Рассказ госпожи NN», «Счастье», «Ненастье», «Пьяные», «Каштанка», «Враги», «Нищий», «Полинька», «Зиночка», «Верочка» и др. В пятый том вошли десять рассказов и повестей: «Степь», «В овраге», «Володя большой и Володя маленький», «Попрыгунья», «Скрипка Ротшильда», «Студент», «Учитель словесности», «Анна на шее», «Моя жизнь», «Человек в футляре». Переводчик первого, второго и четвертого томов — Сервет Лунель, переводчики третьего тома Огуз Пельтек и Гаффар Гюней, переводчик пятого тома — Огуз Пельтек.
Автор предисловия — Эрол Гюней в отличие от М. де Вогюэ, назвавшего Чехова «русским Мопассаном», сравнивая рассказы Чехова с рассказами Мопассана, выявляет неповторимое своеобразие Чехова. В начале же своего предисловия он пишет о разнице между жанрами рассказа и романа. «Конец рассказа не означает завершения события, сюжета. Наоборот, он открывает перед нами новые горизонты, будит в нас мечты... Большинство же романов нуждается в сюжете, в интриге, рассказ может начисто от этого отказаться. В нем должны быть начало и конец, рассказ — это небольшой ручеек, оторвавшийся от главного потока».
«В сюжете, — продолжает автор, — в начале и в конце нуждаются лишь мопассановские рассказы. Поэтому они значительно уступают рассказам русских, англичан или американцев. У французских новеллистов есть безупречный стиль, есть техника. Из новелл Мериме нельзя выкинуть ни одного слова, но от них веет холодом. Они не могут наполнить нас бесконечной мечтой, как повести Пушкина, рассказы Тургенева, Чехова. Они не открывают перед нами новых горизонтов, наоборот, они хотят навязать нам собственное освещение общеизвестных взглядов... В рассказах русских есть ощущение неопределенности, рассказ уводит нас то в одну, то в другую сторону, он никогда не оставляет нас ни в чем уверенными. В рассказах русских каждое мгновение, каждое слово исполнены волнения и глубокого смысла. В них ничего не говорится до конца, они обращаются к нашим чувствам, они всегда открывают перед нами мир.
Ни один писатель до Чехова не увидел этих сторон рассказа, ни один не развил его возможности. В рассказах Чехова мы не найдем ни события, ни начала, ни конца. Его рассказы словно приглашают нас в путешествие, в мир, который скрывается за взглядами, словами...
Чехов не ощущает потребности, как Бальзак или Флобер, подробно показывать нам дом, людей, среду, которая людей окружает. В его рассказах нет ни одного лишнего или стоящего не на месте слова... Почти каждый его рассказ мог бы свестись к следующему: «Жена плакала. Муж обнял ее за плечи. Она перестала плакать». Всего несколькими словами Чехов может нарисовать внешность героев, их внутренний мир, прожитые дни, пережитые волнения, чувства горечи или сожаления.
Чехов не стремится, подобно Мопассану, обнажать душу героев в критические моменты их жизни. Новеллы Мопассана неотделимы от французской классической трагедии, рассказывающей о последних двадцати четырех часах жизни героя.
У Чехова нет потребности говорить об этом. Одним неброским словом он открывает перед нами весь мир и показывает повседневную жизнь.
У Мопассана, вместе с концом рассказа, кончается что-то и в жизни людей, о которых он пишет. У Чехова герои продолжают жить своей прежней жизнью.
Как Расин в своих трагедиях, Мопассан заставляет людей играть, он входит в мир людей, нарушает его. Чехов же не вторгается в мир своих героев, он освещает их невидимым светом фонаря. И мы видим только то, на что падает этот свет. Он не касается ни характера людей, ни их поведения. Что происходит в темноте, когда гаснет свет? Понять и почувствовать — надлежит нам.
Каков же тот мир, который описал Чехов? Этот мир полон горечи, печали, подлости.
Мы входим в жизнь с любовью, желанием мыслить и работать, но общество, в котором мы живем, постепенно убивает в нас наши желания, а убив, нас бросает».
Эту свою мысль Эрол Гюней подтверждает образом Лаевского из «Дуэли», а в заключение пишет: «Кто виноват? Виноват наш пошлый мир, люди в футлярах, опошляющие еще больше этот мир, и мы сами. Чехов приглашает нас сбросить футляры, зовет к свободной, полной любви жизни. Но если в мире ничего не изменится, никто не будет вправе чувствовать себя свободным и быть счастливым.
В одном из своих рассказов <«Крыжовник». — А.С.> Чехов написал: «Надо, чтобы за дверью каждого довольного, счастливого человека стоял кто-нибудь с молоточком и постоянно напоминал бы стуком, что есть несчастные...»
Чехов и есть тот человек. Его рассказы — это удары молоточка.
Они не дают нам забыть, что в мире много низости и пошлости и если в нем не настанет перемены, ни один честный человек не сможет жить спокойно»22.
Несомненно, что издание пяти томов чеховских рассказов позволило турецкому читателю составить наиболее полное представление о творчестве русского писателя, тем более, как справедливо замечает М.С. Михайлов, «переводы, которые сделаны непосредственно с русского языка, в целом должны быть отнесены к доброкачественным»23.
В 1946 г. в Стамбуле вышла книга с двумя водевилями: «Свадьба» и «Юбилей» (переводчики Димитрий Соракин и Сефер Айтекин).
В 1952 г. стамбульское издательство «Варлык» выпустило в переводе Сервета Лунеля сборник под названием ««Смерть чиновника» (избранные рассказы)», в который вошли двадцать рассказов и среди них: «Дочь Альбиона», «Брожение умов», «Альбом», «Певчие», «Маска», «Из огня да в полымя», «Восклицательный знак», «Злоумышленник», «Кухарка женится», «Унтер Пришибеев», «Налим», «То была она», «В бане», «Полинька».
В 1955 г. в издательстве «Енилик» вышел сборник, который назывался «75000» (переводчик Хасан Али Эдиз), а в издательстве «Варлык» — «Дуэль», которую перевела Нихаль Ялуза Талуй. Через год, в 1956 г., в ее же переводе была издана повесть «Скучная история».
Водевиль «Предложение» был переиздан в 1958 г., а в 1959 г. вторым изданием вышел сборник ««Смерть чиновника» (избранные рассказы)».
В связи со 100-летием со дня рождения Чехова издательство «Варлык» выпустило отдельным изданием повесть «Степь» (переводчик с русского Мехмет Озгюль), а издательство «Енигюн» — сборник «Мужики», который перевел Зеки Баштымар.
Пьесу «На большой дороге» (в турецком переводе «На горной дороге», переводчик Улькю Тамер) выпустило издательство «Де» в 1960 г.
В 1962 г. в переводе Нихаль Ялуза Талуй увидел свет сборник «Страшная ночь» (издательство «Варлык»).
Два перевода пьесы «Чайка «(переводчики Нихаль Ялуза Талуй и поэт Бехчет Неджатигиль) и вторым изданием повесть «Дуэль» были опубликованы в 1963 г.
Второе издание пятитомника «Рассказы» было предпринято в 1965—1966 гг., в 1966 г., кроме того, был переиздан сборник под названием «В овраге» (в него вошли «В овраге» и «Палата № 6»), а анкарское издательство «Бильги» в 1966 г. выпустило однотомник чеховских водевилей под заголовком «О вреде табака», в который вошли «О вреде табака», «На даче», «Медведь» (переводчик — поэт Йылмаз Груда).
В 1967 г. последовало третье издание сборника ««Смерть чиновника» (избранные рассказы)», первое издание пьесы «Иванов» (переводчик — поэт Атаол Бехрамоглу24).
Сборник под названием «Пропитание» вышел в 1968 г., сборник «Мужики» — в 1969 г., в новом переводе с русского Мехмета Озгюля.
В 1970 г. вышли несколько книг Чехова: стамбульское издательство «Улуташ» выпустило сборник «Рассказы», а издательство «Гюн» — «Три сестры» в переводе Улькю Тамер; книгу с двумя пьесами: «Три сестры» и «Леший» (переводчик Атаол Бехрамоглу) — выпустило анкарское издательство «Бильги».
В 1971 г. вышла книжка под названием «Поцелуй» (переводчик Огуз Альалчын), в 1972 г. — вторым изданием — сборник «Страшная ночь», в 1973 г. — повесть «Дама с собачкой» и четвертым изданием — пьеса «Чайка».
Анкарское издательство «Бильги» предприняло издание новой серии чеховских произведений под названием «Все рассказы Чехова» и в том же году выпустило в переводе Энгина Алтая две книги — сборник «В овраге» и сборник «Принцесса».
В 1982 г. новый сборник «Степь» вышел в переводе Мехмета Озгюля.
2
Критическая литература о Чехове — хотя Чехов переводится и публикуется достаточно давно — пока что весьма невелика. Можно назвать две монографии, отдельные высказывания турецких литературоведов и переводчиков, а также ряд статей в различных журналах и газетах.
Переводчик Чехова поэт Вахдет Гюльтекин в статье, опубликованной в литературном приложении к газете «Курун» (1937), писал о зависимости Чехова от Гоголя: ««У обоих — критический дух и расположение к насмешке. Чехов также разбивает мечты и идеалы, однако, он жалеет героев. И эти особенности показаны в рассказе «Поцелуй»»25. По словам В.А. Гордлевского, Гюльтекин особо выделяет в связи с этим рассказы «Черный монах», «Пари», «Хамелеон», «Моя жизнь»26.
Несколько страниц посвятил творчеству Чехова автор монографии «Европейская литература и мы» Исмаил Хабиб27. Книга вышла в Стамбуле в 1940 г. Говоря о Чехове как о «писателе-реалисте, завоевавшем мировую славу», И. Хабиб рассматривает его творчество как звено, связующее великих русских писателей XIX века с Горьким. Касаясь тематики чеховского творчества, И. Хабиб пишет о крушении дворянства под напором развивающегося капитализма, жалком положении крестьян, произволе царских чиновников и т. д. Более подробно И. Хабиб характеризует только рассказ «Палата № 6». Он говорит, что в этом произведении проявилась «во всем величии глубина искусства Чехова», что это «шедевр, который увлекает при чтении <...> заставляет долго-долго думать». После длительного пересказа повести автор раскрывает «силу и величие реализма писателя», показавшего Россию при самодержавном строе, отмечает символичность образа Никиты, подчеркивая вместе с тем, что Чехов верит в неизбежность наступления лучших дней, в торжество правды28.
В 1950 г. стамбульское издательство «Эгитим» выпустило книгу Ирэн Немировской «Жизнь Чехова»29, которую перевел на турецкий язык писатель Октай Акбал30. Эта художественно написанная биография писателя охватывает всю жизнь Чехова. Автор широко привлекает русские источники, в том числе письма Чехова. Софи Лаффит назвала книгу И. Немировской «лучшей французской биографией писателя»31.
Как известно, в 1954 г. выходящий в Париже журнал «Europe» посвятил один из номеров Чехову в связи с 50-летием со дня его смерти*. Турецкий журнал «Варлык» за 1955 г. перепечатал из этого журнала статью французского автора Мари Анн Комнин «От Чехова к Пиранделло»32, отмечавшей «родственные элементы в творчестве Чехова и Пиранделло»33. В следующем году журнал «Варлык» опубликовал статью писателя Халдуна Танера «Пьесы Чехова»34.
100-летие со дня рождения Чехова было отмечено в Турции изданием монографии Зеки Баштымара о Чехове и нескольких журнальных статей.
Книга Зеки Баштымара «Жизнь и творчество Чехова»35 в основе своей также содержит пересказ монографии А. Дермана. З. Баштымар расширил главу «Чехов-драматург», уделив в ней главное внимание пьесе «Вишневый сад».
«Какое место в пьесе «Вишневый сад», — пишет З. Баштымар, — занял новый взгляд Чехова на драматургию?
В пьесе — очень простая интрига: в ней нет сюжета в общепринятом смысле, который заключал бы в себе борьбу героев с жизненными трудностями. В ней нет начала, нет и «эффектного» конца. В этой пьесе «ни разу не выстрелило» ружье. В пьесе нет и внешней интриги, она одушевляется всеми сценическими средствами. От начала до конца пьесу окрашивает лиризм. Временами этот лиризм овеян грустью, временами он оживлен, а временами — романтичен. Больше всего лиризм проявляется в диалогах действующих лиц...
В пьесе, — продолжает автор, — есть зрительное восприятие пейзажа. Белые цветы вишневого сада, восход и закат солнца и т. д., — все играет свою роль. Немалую роль играет и слуховое восприятие: пронзительный, еле слышный звук лопнувшей струны, глухие удары топора, которым рубят вишневые деревья, играют особенно важную роль в композиции. Они означают не только уничтожение вишневого сада, но и гибель родового гнезда. Усиливая различными средствами лирическое начало пьесы, Чехов мастерски, будто плетет кружева, вводит драматические и комические элементы в монотонность происходящего. Эти различные элементы неразрывно связаны с жизнью на сцене, самой характерной чертой которой является постоянное духовное несоответствие героев». Далее З. Баштымар в своей книге следующим образом характеризует чеховские пьесы: «В пьесах Чехова важны не только переживания героев, но все сценические средства, все, что зритель видит на сцене, писатель пользуется любой деталью, которая усиливает действие пьесы». «Отсюда становится понятным, — пишет в заключение
З. Баштымар, — смысл и значение той роли, которую играют в пьесах зрительное и слуховое восприятие...»36
Журнал «Тюрк дили» поместил в 1960 г. статью писателя Нутку Оздемира «Антон Чехов: «Вишневый сад»»37, а журнал «Варлык» — небольшую заметку Мехмета Сайды «Антон Чехов»38.
Переводчик Чехова Хасан Али Эдиз опубликовал в газете «Джумхуриет» (30 января 1960) статью «100-летие со дня рождения Антона Чехова»39. В ней, в частности, говорилось: «Антон Павлович является одним из очень известных и очень любимых писателей в Турции. На протяжении многих лет наши газеты и журналы были украшены его тонкими изящными рассказами. Такие пьесы Чехова, как «Дядя Ваня», «Вишневый сад», «Три сестры», шедшие на сцене Стамбульского городского театра, возбуждали всеобщий интерес... Чехов, считающийся в русской литературе мастером краткости, простоты и прозрачности слога, был не только великим новеллистом, но в то же время и крупным драматургом мира... Чехов был тем, кто принес в русский театр новшества. Своими произведениями он сделал переворот в старых театральных традициях и навыках, в старой композиции пьес. Вот именно поэтому пьесы Чехова считаются в русском театре началом новой эпохи»40.
В 1968 г. Нутку Оздемир опубликовал в журнале «Тюрк дили» статью «О «Чайке»»41.
В двух номерах журнала «Хисар» была напечатана статья Мустафы Миясоглу «Антон Чехов» (1972)42.
3
Чехова-драматурга узнали в Турции позднее, чем Чехова-прозаика. Первым постановщиком чеховских пьес и пропагандистом чеховской драматургии на турецкой сцене, которая с тех пор вошла в репертуар турецких театров, был Мухсин Эртугрул43, известный актер и режиссер, многолетний руководитель Стамбульского городского театра (до 1934 г. театр назывался «Дарюльбедайи»). Вернувшись в Турцию из Советского Союза, Мухсин Эртугрул в 1928 г., «восторженно встреченный турецкой печатью, показывает в Стамбуле <...> «Вишневый сад» по Станиславскому и чеховскую шутку «Медведь»»44.
В 1940 г. студенты Драматического отделения Анкарской государственной консерватории сыграли, в качестве учебного спектакля, водевиль Чехова «Предложение».
Три театральных сезона подряд Мухсин Эртугрул на сцене Стамбульского городского театра ставил чеховские пьесы: в сезон 1942/43 г. — «Вишневый сад», в 1943/44 г. — «Три сестры» и в 1944/45 г. — «Дядю Ваню».
Наибольшее число откликов вызвала и пьеса и спектакль «Три сестры». Еще до выхода спектакля театральный журнал «Перде ве сахне», желая, видимо, объяснить выбор театром именно этой пьесы Чехова, поместил на своих страницах заметку об успехе мхатовского спектакля «Три сестры» в Америке во время гастролей в 1923 году и о постановках «Трех сестер» на американской и лондонской сценах45.
Рецензенты, откликнувшиеся на постановку «Трех сестер», писали не столько о самом спектакле, сколько, в связи с этим, о творчестве Чехова-драматурга.
Писатель Рефии Джеват Улунай в пространной рецензии писал: «Чехов принадлежит к тем знаменитым русским писателям, которые черпают силу в реализме. Его произведения открыли в литературе эпоху. События, составляющие сюжет его пьес, действующие лица, типы — все это взято из обыденной жизни. Чехов никогда не искал ничего необыкновенного. По его мнению, сцены жизни, которые мы переживаем воочию, представляют бесконечную сокровищницу для анализа. Он запускал руку в эту груду материала и извлекал из атомов, которые для нас незначительны, целые миры. С точки зрения действия, пьесы его как будто пустые, однако, в них потоки жизни, и непрерывные, точно это течет полноводная река. Автор не выискивал для пьесы действующих лиц; они попадаются нам в жизни на каждом шагу тысячами. Они и не играют большой роли в ходе пьесы; они кажутся такими, какие они есть, и так они и живут. Вот в этом-то и заключается то свойство реализма, который возносит Чехова на ступень гения»46.
Другой писатель — Селим Нюзхет Герчек в своей рецензии «Спектакль, который не дал удовлетворения» писал: «В пьесе нет сюжета, там нет и главных героев. Люди — куклы, которыми играет жизнь. Бессмысленная будничная жизнь возбуждает в человеке волнение. Пьеса — песнь пессимизма, музыка грусти русской души. С точки зрения драматургии Чехов проявил здесь беспредельное искусство и силу»47.
Писатель Валя Нуреттин отмечал: «У него <Чехова> мысли и прови́дение, как у кудесника, который уже предугадал будущую русскую жизнь»48. Валя Нуреттин с одобрением отозвался о переводе пьесы, сделанном Х.А. Эдизом: «Каждая фраза ясна и прозрачна, как будто это не перевод, а оригинальное турецкое произведение»49.
В 60-е гг. пьесы Чехова вновь игрались на сценах турецких театров.
В сезон 1962/63 г. на сцене Анкарского театра драмы был поставлен «Вишневый сад». В связи с этой постановкой театральный критик Акай писал: «Коллектив театра приложил большие усилия, чтобы проникнуть в глубину чеховского замысла и воплотить его на сцене, выразить средствами актерской игры, декоративного и музыкального оформления основные идеи и настроение пьесы»50. А театральный журнал «Девлет тиатросу» перепечатал названную выше статью Нутку Оздемира «Антон Чехов и «Вишневый сад»» (1960 г. — см. примеч. 37).
Частная стамбульская труппа «Кент оюнджулары» в том же сезоне сыграла «Чайку». В театральном журнале «Кент оюнджулары» были опубликованы три небольших статьи о Чехове. В первом номере журнала за 1963 г. статья Хасана Али Эдиза «Драматург Антон Павлович Чехов»51, а в третьем номере — статья искусствоведа Метина Анда «Чехов в России»52, «Заметки о Чехове» К.С. Станиславского (переводчик Неджати Джумалы)53 и заметка «Годы, в которые жил Чехов»54.
В сезоны 1965/66 и 1966/67 гг. на сцене столичного Государственного театра шел водевиль «Предложение» и пьеса «Дядя Ваня»55.
Стамбульский городской театр в 1970 г. впервые показал спектакль «Иванов», а труппа «Кент оюнджулары» — «Три сестры». Эту пьесу труппа выбрала, чтобы отметить свой десятилетний юбилей. Спектакль, поставленный режиссером Али Тайгуном, вызвал отклики в печати. По мнению театрального обозревателя Селми Андака, «Три сестры» являются «одной из самых трудных психологических пьес» Чехова. Селми Андак напоминал в своей рецензии на спектакль о первой постановке «Трех сестер» в 1944 г. и отмечал, что новая постановка «выгодно отличается от предыдущей удачными сценическими находками, что сделало ее понятнее и доступнее»56. В заглавных ролях в спектакле выступили известные актрисы Йылдыз Кентер, Мераль Тайгун и Джан-дан Исен.
В следующем году актер и режиссер этой труппы Мюшфик Кентер поставил спектакль по рассказам Чехова, который назывался «Странный зверь, который зовется человеком». Журнал «Кент оюнджулары» поместил статью Эрола Гюнея «Куклы Чехова»57, и, кроме того, перепечатал статью Софи Лаффит «О романтизме и драматургии Чехова» (переводчик с французского Ешим Гювемли)58.
В 1973 г. Стамбульский городской театр вновь поставил «Вишневый сад»; театральный обозреватель Тахир Озчелик поместил в журнале «Едитепе» рецензию на эту постановку59.
Стамбульская труппа «Кент оюнджулары» обратилась к Чехову в конце 70-х гг.: в сезон 1978/79 г. труппа показала турецкому зрителю «Дядю Ваню». Журнал «Театр», публикуя сообщение об этой постановке, приводит слова актрисы Йылдыз Кентер, следующим образом объяснявшей замысел спектакля: «Каждый хочет что-то сделать, что-то критикует, от чего-то стремится освободиться и красиво говорит об этом, однако, неспособен реализовать свои мечты, как отъезд в Москву в «Трех сестрах»». По мнению театральной критики, в этом спектакле было много комедийных ситуаций, много горькой иронии60.
4
Влияние Чехова на творчество турецких писателей не было предметом специального исследования советских туркологов, работ такого рода нет и в Турции.
Статьи, на которые неоднократно делались ссылки в настоящей работе — «Чехов в Турции» В.А. Гордлевского и «А.П. Чехов в Турции» М.С. Михайлова — это скорее обзоры, в которых идет речь о том, в какие годы и какие произведения Чехова переводились на турецкий язык и публиковались в Турции. В них говорится о качестве переводов, приводятся высказывания турецких литераторов о Чехове.
Однако в ряде работ, в которых рассматриваются вопросы о связях русской и турецкой литератур, их авторы отмечают безусловность влияния великих русских писателей, и Чехова в том числе, на творчество турецких писателей.
В своей статье «Гоголь в Турции» В.А. Гордлевский заметил: «Влияние Горького и Чехова уже несомненно»61, подразумевая влияние двух этих писателей на творчество писателей Турции.
М.С. Михайлов приводит в своей статье свидетельство польского ориенталиста А. Зайончковского. Касаясь ряда новелл турецкого писателя Саида Фаика «Ненужный человек», «Кофейня в квартале», «На Алемдаге есть змея», «Мало сладкое кофе», «Последние птицы», «Разыскивается пропавший без вести», польский ученый отметил: «Читая эти новеллы и даже судя по таким названиям, как «Ненужный человек», легко заметить преобладающее влияние на Саида Фаика новелл Чехова»62.
С.Н. Утургаури, автор ряда статей о влиянии Горького на творчество турецкого писателя Орхана Кемаля, в статье «Горький и турецкая литература» доказывает влияние Горького на Орхана Кемаля63.
В заключение приведем выдержки из статьи Л.О. Алькаевой «Русская классика в Турции», которая подтверждает влияние русских писателей, в частности Чехова, на турецкую литературу.
«Определенное сходство социально-экономического уклада царской России дореволюционных лет и Турции начала республиканского периода, — говорится в статье, — не могло не натолкнуть турецких писателей на освещение проблем, которые в свое время поднимались и разрабатывались лучшими писателями-демократами.
Начиная с 30-х годов, даже по характеру своей тематики, — судьба «маленького» угнетенного человека, взаимоотношения народа и интеллигенции, жизнь крестьян, «исповедальная тема» интеллигента, духовная эмансипация женщины, сатирическое обличение произвола властей, бюрократизма, — турецкая литература явно перекликалась с русской и в лице своих наиболее прогрессивных писателей творчески заимствовала идеи из ее богатейшего наследия.
Но, разумеется, не только тематика привлекала турецких писателей: им был близок психологизм, а главное — активный гуманизм русской литературы XIX и начала XX века. Итак, вполне закономерным и естественным представляется общее духовное воздействие более развитой литературы на молодую литературу турок, становившуюся на твердую национальную почву»64.
Чехова в Турции знают. С появлением первых публикаций в турецких газетах и журналах переводов чеховских рассказов его популярность в Турции непрерывно росла. Доказательство этому — ежегодное издание сборников чеховских рассказов, начало издания «Все рассказы Чехова», переиздание ранее вышедших в свет чеховских книг.
А постоянное обращение турецких театров к пьесам Чехова свидетельствует и о популярности в Турции Чехова-драматурга.
А.Чехов. Рассказы. Т. 2. Анкара, 1948. Обложка
Баштымар З. Чехов. Жизнь и творчество. Стамбул, 1960. Обложка
Примечания
Приносим благодарность С.Н. Утургаури за уточнения и поправки, внесенные в статью покойного автора.
*. Europe. 1954. № 104—105. Содержание номера см.: наст. том. Кн. 1. С. 68.
1. Мурат-бей (известный под именем Мизанджи Мурат-бей) — историк и журналист. Родился в 1853 г. в даргинском селении Дагестана. Окончил Ставропольскую гимназию. В 1872 г. уехал учиться в Швейцарию, откуда переехал в Турцию. Он — автор шеститомной «Всемирной истории» и однотомной «Османской истории». Был издателем газеты в Стамбуле. Один из лидеров младотурецкого движения.
2. Ольга Сергеевна Лебедева (Гюльнар-ханум, р. 1854). Окончила Казанский университет, где изучала турецкий язык. В 1881 г. совершила поездку в Константинополь. Впервые перевела на турецкий язык и издала в Турции повести Пушкина «Метель» и «Пиковая дама», отрывки из поэмы Лермонтова «Демон», рассказы Л. Толстого: «Семейное счастье», «Ильяс», «Два старика» и «Чем люди живы?». В Турции были опубликованы написанные ею биография Пушкина и краткий очерк русской литературы от эпохи Петра I до Льва Толстого. С 1900 г. она была почетной председательницей Общества востоковедения в С.-Петербурге.
3. Владимир Александрович Гордлевский (1876—1965) — академик, глава Московской школы тюркологов. Учился в Лазаревском институте восточных языков и на историко-филологическом факультете Московского университета. После двухлетнего пребывания в Турции, куда был командирован для совершенствования в турецком языке, продолжал образование в Париже. По возвращении в Москву преподавал турецкий язык и литературу в Лазаревском институте, заведовал кафедрой Московского института востоковедения. Занимался турецким фольклором и этнографией, языком, литературой и историей Турции. В 1960—1968 гг. в Москве вышли четыре тома «Избранных сочинений» В.А. Гордлевского.
4. Гордлевский В.А. Чехов в Турции // Гордлевский В.А. Избранные сочинения. Т. II. М., 1961. С. 463. Впервые на русском языке эта статья была опубликована в «Известиях АН СССР», Отделение литературы и языка. 1944. Т. III. Вып. 5. С. 220—227.
5. См. об этом там же.
6. Там же. С. 464.
7. Хасан Али Эдиз (1904—1972) — турецкий литератор, переводчик. В 20-е гг. учился в Москве в Коммунистическом университете трудящихся Востока. Переводил на турецкий язык Пушкина, Тургенева, Горького, Чехова.
8. Ediz H.A. Anton Çehov ve eserleri // Anton Çehov. G.N. koguş. Istanbul, 1940. S. XLV.
9. Эжен Мельхиор де Вогюэ (1848—1901) — французский писатель и историк литературы, член французской Академии. Во время семилетнего пребывания в составе французского посольства в России изучил русский язык и литературу. В своих работах по русской литературе указал на значение творчества Достоевского, Горького, Чехова для западноевропейского читателя. Автор известной статьи «Антон Чехов», переведенной на русский язык при жизни Чехова (Антон Чехов. Критический очерк де Вогюэ, дополненный мнениями русских критиков. С портретом. Перевел с французского и дополнил Н. Васин. М., 1903).
10. Цит. по: Гордлевский В.А. Указ. соч. С. 466.
11. Там же. С. 468.
12. Там же. С. 465.
13. Ediz H.A. Op. cit. S. XLV.
14. «Б.Дениз» — псевдоним Хасана Али Эдиза.
15. Ediz H.A. Op. cit. S. XLV.
16. Ibid. S. XLVI.
17. Ibid. S. XLII, XVIII—XLIV.
18. Цит. по: Михайлов М.С. А.П. Чехов в Турции // Научные доклады высшей школы. Филологические науки. 1960. № 4. С. 94.
Михаил Семенович Михайлов — тюрколог. Известен как автор статей по турецкому языку, как один из составителей «Турецко-русского словаря», переводчик сборника рассказов турецкого писателя Рефика Халида (1927 г.) и других писателей. Ему принадлежат статьи «Гоголь в Турции», «Горький в Турции», «Л.Н. Толстой и языки тюркской семьи», «Тургенев в Турции». Многолетний преподаватель турецкого языка и литературы в Московском Институте востоковедения и Институте международных отношений.
19. Михайлов М.С. Указ. соч. С. 95.
20. Там же.
21. Там же. С. 93.
22. Güney E. Onsöz // Çehov A. Hikâyeler. 1. Ankara, 1945. S. XII—XV.
23. Михайлов М.С. Указ. соч. С. 92.
24. Бехрамоглу Атаол — современный турецкий поэт. Несколько его стихотворений вошли в сборник «Молодые поэты Турции» (М., 1974).
25. Цит. по: Гордлевский В.А. Указ. соч. С. 466.
26. Там же.
27. Habib I. Avrupa edebiyatı ve biz. 2. Baskı. Istanbul, 1940. S. 362—363, 521—524.
28. Цит. по: Михайлов М.С. Указ. соч. С. 93.
29. Nemirovski I. Çehov'un hayatı. Dilimize çeviren Oktay Akbal. Istanbul: Egitim Basımevi, 1950, IV. 160 s. (перевод с франц. изд.: Nemirovsky I. La vie de Tchekov. Avant-propos de Jean-Jacques Bernard. Paris, 1946. 259 p.)
Ирэн Немировская (1903—1942) — французская писательница. По происхождению — русская, родилась в Киеве в богатой семье. После 1917 г. жила во Франции. В 1942 г. была арестована гитлеровцами и погибла. Автор нескольких повестей и романов; ее роман «Давид Гольдер» и повесть «Бал» вышли в русском переводе (Рига, 1930, 1931). Книга о Чехове вышла в Париже посмертно в 1946 г.
30. Октай Акбал — современный турецкий писатель. Известен у нас по сборнику рассказов «Византийский клад» (М., 1964), а также по переводам отдельных рассказов в книгах «Наша улица. Турецкая новелла XX века» (М., 1962) и «Стеклянный дворец. Новеллы современных турецких писателей» (М., 1964).
31. ЛН. Т. 68. С. 742.
32. Commue Marie-Anne. Çehov'dan Pirandello'ya // Varlık. 1955. № 424. S. 26.
33. См. также ЛН. Т. 68. С. 743.
34. Taner Haldun. Çehov'un oyun yazarligi // Varlık. 1956. № 430. S. 10.
Халдун Танер — современный турецкий писатель и драматург. В русском переводе вышли два сборника его рассказов: «Без одной минуты двенадцать» (М., 1965), «Рассказы» (М., 1971) и пьеса «Глаза на все я закрываю, но долг свой выполняю» (в сб. «Современная турецкая пьеса». М., 1977).
35. Zeki Baştimar. Çehov. Hayat ve Sanat. Hikâyesi. Istanbul: Yenigün yayinevi, 1960. 122 s.
36. Ibid. S. 114—116.
37. Özdemir Nutku. Anton Çehov: Vişne bahçesi // Türk Dili. 1960. № 1. S. 138—141.
Нутку Оздемир — современный турецкий поэт, театровед. Автор послесловия «Из истории турецкой драматургии в республиканское время» в сборнике «Современная турецкая пьеса» (М., 1977).
38. Sevda Mehmet. Anton Çehov // Varlık. 1960. № 523. S. 17.
39. Hasan Ali Ediz. Anton Çehov'un 100-üncü dogum yildönümü.
40. Цит. по: Михайлов М.С. Указ. соч. С. 95.
41. Özdemir Nutku. «Martı» üzerine // Türk dili. 1968. № 2. S. 599—606.
42. Miyasoglu Mustafa. Anton Çehov // Hisar. 1972. № 4. S. 20—22; № 5. S. 26—28.
43. Мухсин Май Эртугрул (1892—1980) — крупнейший турецкий актер, режиссер, театральный деятель. Его называют в Турции «отцом турецкого театра». Он был первым и долгое время оставался единственным режиссером, который ставил на сцене турецкого театра пьесы русских классиков: Л. Андреева, Толстого, Гоголя, Чехова, инсценировки по романам Достоевского. Два года (1925—1927) провел в Советском Союзе, хорошо знал театральную жизнь Москвы, был знаком с Вс. Мейерхольдом, К.С. Станиславским; в 30-е гг. неоднократно был гостем на международных театральных фестивалях в Москве и Ленинграде. Последний раз приезжал в Советский Союз в 1973 г. по приглашению ВТО.
44. По словам Хасана Али Эдиза, театральный журнал (имеется в виду «Дарюльбедайи») поместил в 1927 г. перевод двух чеховских пьес, сделанный Бедреддином Тунджелем; скорее всего это и были «Вишневый сад» и «Медведь», которые тогда были поставлены в театре «Дарюльбедайи».
45. Гордлевский В.А. Указ. соч. С. 457.
46. Там же. С. 469.
47. Там же. С. 469—470.
48. Валя Нуреттин (1901—1976) — турецкий писатель, журналист. В 20-е гг. учился в Москве в Коммунистическом университете народов Востока вместе с Назымом Хикметом. Широкую известность получила его книга о Хикмете «По этому миру прошел Назым», выдержавшая в Турции три издания.
49. Гордлевский В.А. Указ. соч. С. 470.
50. См.: Молодежь Азербайджана. Баку. 1963. 15 февраля.
51. Ediz Hasan Ali. Bir piyes yazarı olarak Anton Pavloviç Çehov // Kent oyuncuları. 1963. № 1. S. 9—10.
52. Ant Metin. Rusya'da Çehov // Kent oyuncuları. 1963. № 3. S. 8—10.
53. Stanislavski K.S. Çehov üstüne notlar // Kent oyuncuları. 1963. № 3. S. 19—21.
54. «Yaşadigi yillarda Çehov» // Kent oyuncuları. 1963. № 3. S. 32—34 (б/п).
55. Théatre in Turkey. 1967. № 3.
56. См.: Иностранная литература. 1971. № 5. С. 285—286.
57. Erol Günev. Çehov'un öyküleri // Kent oyuncuları. 1973. № 12. S. 14—17.
58. Laffite Sophie. Çehov'un romançılıgı ve tiyatro yazarlıgı üstüne // Kent oyuncuları. 1972. № 12. S. 10—13.
59. Özçelik Tahir. Vişne bahçesi // Yeditepe. 1973. № 201. S. 5.
60. См.: Театр. 1980. № 9. С. 134.
61. Гордлевский В.А. Гоголь в Турции // Гордлевский В.А. Избранные сочинения. Т. II. М., 1961. С. 513.
62. Цит. по: Михайлов М.С. Указ. соч. С. 94—95.
63. Утургаури С.Н. Горький и турецкая литература // Горький и литературы зарубежного Востока. М., 1968. С. 228—229.
64. Алькаева Л.О. Русская классика в Турции (к вопросу о влиянии русской литературы на турецких писателей) // Русская классика в странах Востока. М., 1982. С. 99—100.
| Предыдущая страница | К оглавлению | Следующая страница |