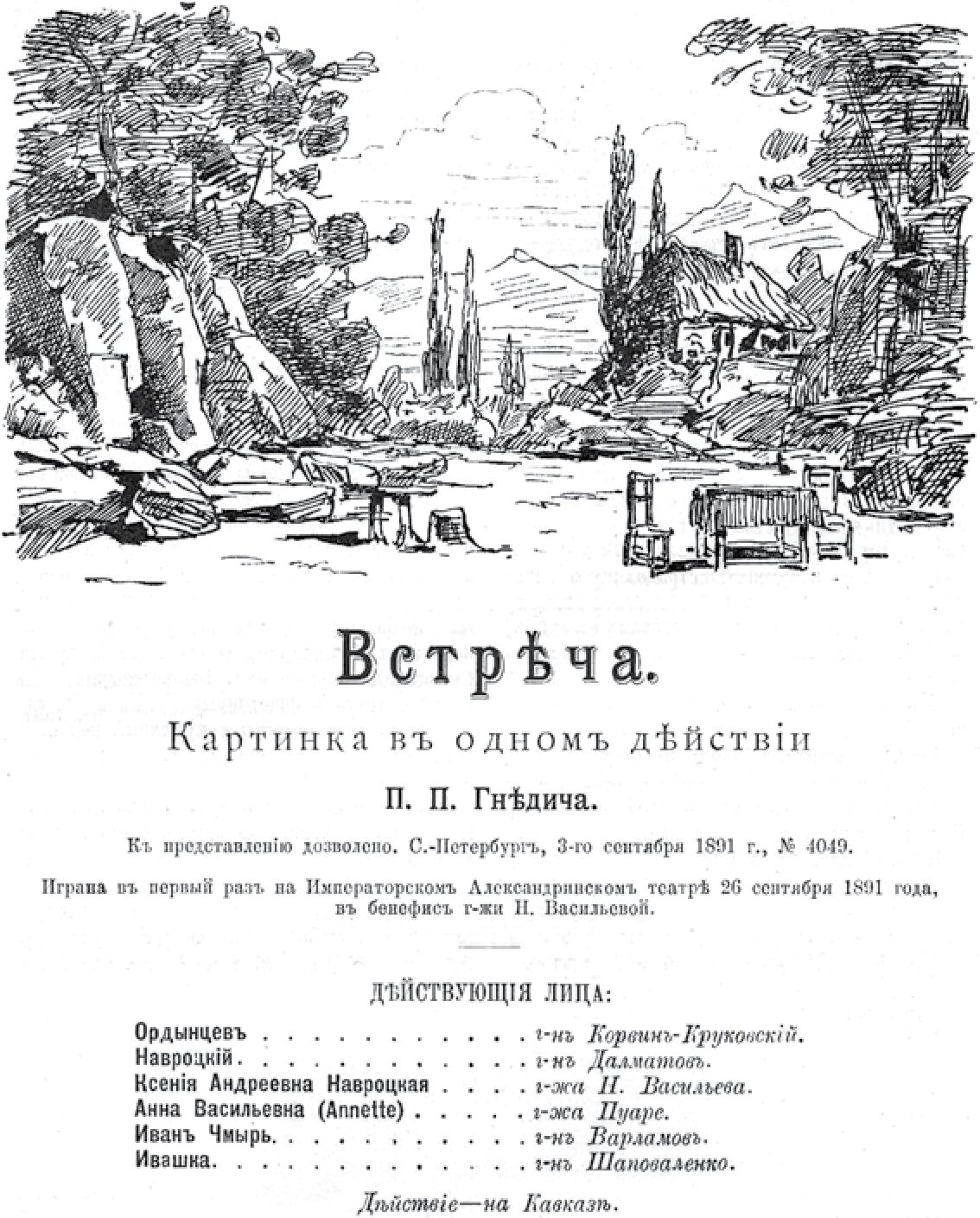Литература очевидно ела его, сосала его кровь, он любил её страстно, но она не отвечала ему взаимностью.
А.П. Чехов. Записи на отдельных листах
1
1900 году в петербургском журнале «Книжки «Недели»» начал печататься по частям, а вскоре был выпущен отдельным изданием роман популярного прозаика, драматурга, переводчика и театрального деятеля Петра Петровича Гнедича (1855—1925) «Купальные огни». На первых же страницах романа, ведя разговор о современной драматургии, героиня Гнедича высказывала оригинальное, как ей казалось, наблюдение над традициями современной зарубежной драмы: «...когда в первом акте французской пьесы говорят, что у девушки есть револьвер, публика начинает интересоваться: или она застрелится, или кого-нибудь застрелит»1. Невольно героиня коснулась того художественного приёма, который будет назван приёмом «стреляющего ружья». В русской драматургии он связан в первую очередь с именем А.П. Чехова. «Если вы в первом акте повесили на стену пистолет, то в последнем он должен выстрелить. Иначе — не вешайте его»2, — эти чеховские слова, запомнившиеся И.Я. Гурлянду, как и другое близкое высказывание в письме к А.С. Лазареву (Грузинскому): «Нельзя ставить на сцене заряженное ружьё, если никто не имеет в виду выстрелить из него. Нельзя обещать» (П III, 273), — относятся ещё к концу 1880-х годов.
П.П. Гнедич, профессиональный литератор, в недавнем прошлом член петербургского Театрально-литературного комитета (1891—1895) и в недалеком будущем — управляющий труппой Александринского театра (1901—1909), несомненно, должен был знать, что к 1900 году этот приём уже прочно вошёл в практику Чехова-драматурга. Автор «Купальных огней» сам использовал его классический вариант, когда «заряжается» именно револьвер: героиня Гнедича молодая девушка Мери, на столе у которой в начале повествования лежит заряженный револьвер, в конце романа стреляется из этого револьвера. Последней из чеховских пьес, написанных к этому времени, была пьеса «Дядя Ваня», где также стреляли из револьвера, но револьвер появлялся на сцене неожиданно, ничто по видимости не предвещало стрельбы. В «Дневниках Директора Императорских театров» В.А. Теляковского, побывавшего на спектакле Московского Художественного театра в ноябре 1899 года, засвидетельствована реакция неподготовленного зрительного зала на этот эпизод: «Публика сидит тихо, слушает внимательно, притаив дыхание, и всё ждёт, что будет. В третьем акте чувствуется сильное напряжение, раздаются два выстрела — выстрелы всё-таки нелепые, особенно второй, когда Дядя Ваня среди всех гонится за профессором, как за зайцем, и на виду у всех стреляет в него. В зрительном зале одновременно делается истерика у трёх дам, которых мужья тащат на руках по рядам кресел, публика в восторге — довольна, что её пробрало»3.
Эпизод со стрельбой в «Дяде Ване», каким бы неожиданным ни казался, не опровергает принцип предусмотрительно повешенного на стену заряженного ружья. Та же чеховская пьеса содержит наглядные примеры того, как любой предмет может выполнить схожую роль. Иными словами, предмету не надо быть непременно «ружьём» или «пистолетом», чтобы так или иначе «выстрелить» в нужный момент, то есть реализовать себя в сюжете и композиции произведения.
В четвёртом действии «Дяди Вани» таким предметом стала географическая карта Африки. Она упоминается в ремарке перед началом действия: «Комната Ивана Петровича; тут его спальня, тут же и контора имения. У окна большой стол с приходно-расходными книгами и бумагами всякого рода, конторка, шкафы, весы. <...> На стене карта Африки, видимо, никому здесь не нужная» (XIII, 105). В конце действия к этой карте подходит доктор Астров. Бесцельно смотря на неё, он говорит: «А, должно быть, в этой самой Африке теперь жарища — страшное дело!»
Эпизод у карты Африки происходит после того, как отбушевали все страсти, отношения выяснены и стало понятно, что героям нечего ждать от жизни и от судьбы. Реплика Астрова вливается в будничный разговор героев, не нарушая общего настроения последнего действия, «тихого и вялого» (П VIII, 272), по определению Чехова:
Астров. Моя пристяжная что-то захромала. Вчера ещё заметил, когда Петрушка водил поить.
Войницкий. Перековать надо.
Астров. Придётся в Рождественном заехать к кузнецу. Не миновать. (Подходит к карте Африки и смотрит на неё.) А, должно быть, в этой самой Африке теперь жарища — страшное дело!
Войницкий. Да, вероятно (XIII, 114).
Но «как много было заложено в этой фразе всего пережитого, горького»4, — вспоминала впоследствии О.Л. Книппер-Чехова. Именно этот момент спектакля, по впечатлению, переданному молодым М. Горьким, поражал всех сидящих в зрительном зале своей новизной и эмоциональным воздействием. Горький посмотрел «Дядю Ваню» в ноябре 1898 года в Нижегородском городском театре, после чего взволнованно написал Чехову: «В последнем акте «Вани», когда доктор, после долгой паузы, говорит о жаре в Африке, — я задрожал от восхищения перед вашим талантом и от страха за людей, за нашу бесцветную нищенскую жизнь. Как вы здорово ударили тут по душе и как метко!» Ненавязчиво, тонким художественным письмом Чехов создавал впечатление, что обычные будни могут предстать «страшной вещью», от которой «сердце сжимается, <...> стонет, рвётся»5.
Глубокий психологизм эпизода у карты Африки оказывался тем более действенным, что, помещая в комнату дяди Вани никому не нужную карту Африки, Чехов опирался на приём далеко не трагедийного характера. Ситуация, основанная на несоответствии географической карты месту, где она находится, в современной Чехову драматургии была источником только комических эффектов. Такой она предстаёт в одной из переделок популярного в своё время драматурга Виктора Александровича Крылова (Александрова), репертуарной в 1870—1880-е годы комедии-шутке «От преступленья к преступленью». Действие этой комедии происходит на почтовой станции на большой дороге, где временно скрываются сбежавшая от мужа госпожа Батракова и случайный соучастник её «преступленья» Городихин. Положение таково, что героям необходима карта: надо узнать, где они находятся и как добраться до железной дороги. Путешественники спрашивают карту у работницы Феногеи. Та сначала путает карту с игральными: «Карты?.. Третьево дня у Федул Тарасыча гости были, так в карты играли... должно, у них колода цела», — но затем понимает и приносит... географическую карту Африки:
Феногея (входя с картой). Вот эта, что ль?
Городихин. Эта, эта — давай сюда... слава богу. (Развёртывает карту.) Что же это такое?
Батракова. Что?
Городихин. Карта Африки... (Отдавая карту.) Откуда у вас это?
Феногея. Гимназист один проезжал, так забыл здесь, с тех пор у Федула Тарасыча висит.
Городихин. Ступай, неси её назад... (Феногея уходит.) Не дразни меня Мысом Доброй Надежды... О, сударыня! что с нами будет!?.6
На почтовой станции, в доме вечно нетрезвого смотрителя Федула Тарасыча, традиционного комедийного персонажа, географическая карта Африки так же странна и ни к чему не пригодна, как и в деревенском помещичьем доме, в комнате управляющего имением Войницкого. Однако в крыловской комедии её непригодность только усиливает фарсовую нелепость положения героев. Кроме того, карта Африки даёт им возможность поострить насчёт Мыса Доброй Надежды, каким «преступникам» в их положении представляется любая железнодорожная станция, избавляющая от мщения разгневанного супруга. В чеховской пьесе эпизод перед картой Африки освещён драматическим светом: ни одному из героев не суждено добраться до его Мыса Доброй Надежды. «Какая ещё там новая жизнь! Наше положение <...> безнадёжно» (XIII, 108) — убеждённо говорит Астров. Карта, «видимо, никому здесь не нужная», ассоциируется с безысходными судьбами персонажей, наполняется символическим смыслом. Говоря словами М. Горького, передавшего Чехову мнение «понимающей публики», это «совершенно новый вид драматического искусства», «в котором реализм возвышается до одухотворённого и глубоко продуманного символа»7.
П.П. Гнедич чутко уловил новизну и перспективность этого чеховского приёма. В конце романа «Купальные огни», изображая чувства опустошённости, отчаяния и тоски, переживаемые его героем князем Олсуфьевым, он ввёл эпизод, напоминавший сцену у карты Африки в «Дяде Ване»: «Злоба охватила его, злоба — на себя, на всё окружающее, на эти стены, на горшки с пальмами, зачем-то поставленные в его кабинете, на глупую высокую печку <...> ещё глупее казалась пожелтевшая карта России с яркими линиями границ, висевшая уже третий год неизвестно по какой причине»8.
Карта России, на которую смотрит Олсуфьев, висит в министерстве, где служит герой, в его кабинете, то есть в том месте, где она могла бы оказаться полезной. Но именно в ней концентрируется ощущение нелепости и бесцельности жизни, неожиданно приходящее к герою. Пожелтевшая карта в его кабинете становится знаком его судьбы, жизни, которая теперь тоже будет тянуться «неизвестно по какой причине» и в которой герою не суждены будут ни радость, ни счастье.
Как видим, Гнедич свободно включает в роман, то есть произведение эпическое, тот художественный приём, который был найден Чеховым как элемент «совершенно нового вида драматического искусства». Этот факт значит больше, чем просто заимствование. Тут стоит вспомнить реальную ситуацию конца XIX века: противостояние «литературности» и «сценичности», зафиксированное как злободневной критикой, так и позднейшими мемуарными свидетельствами. В начале 1890-х годов, обозревая современное состояние литературы и театра, П.Д. Боборыкин писал: «Человеку с дарованием и с серьёзной преданностью литературному идеалу нет ничего особенно привлекательного в положении драматурга»9. Другой обозреватель того же периода отмечал: «В наше время даже образовались особые представления о сценичности и литературности пьес, причём оба представления часто до последней степени расходятся одно с другим. Литературность пьесы как будто исключает её сценичность...»10 Вл.И. Немирович-Данченко позднее подтверждал ситуацию, сложившуюся к концу 1890-х годов: «...«драматург» и «писатель» были совсем не одно и то же...»11. Сам Гнедич в конце 1890-х годов был озабочен судьбой пьес «литературных, но не сценичных»12. Пример с «пожелтевшей картой России» — это свидетельство того, что в пору, когда разрыв между «сценичностью» и «литературностью» стал болезненно угрожающ, пьесы Чехова с их новым качеством психологизма и богатым потенциалом художественных приёмов уже начинали восприниматься как «совершенно новый вид» не только в области драматургии (о чём писал М. Горький), но и как новый вид словесного искусства, перспективный и для повествовательных жанров.
Ориентация на Чехова тем более показательна для автора «Купальных огней», что он прекрасно знал суждения о чеховской драматургии такого величайшего авторитета (не только для культурной России, но и лично для Гнедича, что в данном случае важнее), как Л.Н. Толстой. «Толстой, искренно любя Чехова, не любил его пьес»13, — вспоминал он уже после смерти Чехова. А ранее, в начале 1900-х годов, писал из Парижа жене Л.О. Гнедич в ответ на её впечатления о спектакле «Три сестры» в Художественном театре: «Что «Три сестры» ты едва досидела — это понятно, Толстой даже дочитать не мог. Помнишь, он сказал мне претонкую вещь: «Если пьяный лекарь будет лежать на диване, а за окном идёт дождь, то это, по мнению Чехова, будет пьеса, а по мнению Станиславского — настроение; по моему же мнению, это скверная скука, и, лёжа на диване, никакого действия драматического не вылежишь...»»14
Слова Толстого относились именно к «Дяде Ване», увиденному в Художественном театре в январе 1900 года. Восхищаясь меткостью толстовского отзыва, Гнедич, тем не менее, в это же самое время настаивал на включении «Чайки» и «Дяди Вани» в репертуар Александринского театра. Его стараниями репертуарная комиссия приняла решение о необходимости петербургской «реабилитации» «Чайки», потерпевшей в октябре 1896 года на Александринской сцене провал. Он пытался получить у автора и «Дядю Ваню» и переписывался с ним по этому поводу, аргументируя свою настойчивость следующим утверждением: «Без введения Ваших пьес в репертуар нельзя положить прочного основания делу...»15
2
Составитель аннотированного описания писем к А.П. Чехову Е.Э. Лейтнеккер, характеризуя переписку Чехова и Гнедича, отметил одну интересную особенность: «...на все предложения Гнедича дать Петербургу пьесы для постановки в Александринском театре Чехов идёт нерешительно или совсем не идёт...»16 Несомненно, что Гнедич в глазах Чехова был не только чиновником Императорской сцены, давно превратившейся, по чеховскому сравнению, в «эшафот, где казнят драматургов» (П III, 65). Однако если сейчас коснуться именно этой стороны их отношений, то можно лишь сожалеть, что в своё время Гнедич не оказался для Чехова официальным представителем театрального Петербурга. В 1895 году он оставил пост члена Театрально-литературного комитета, где в сентябре 1896 года будет обсуждаться чеховская «Чайка». Кто знает, может быть, останься Гнедич членом Комитета ещё на год, Чехов не получил бы оттуда задевший его как автора отзыв, ставший прологом провальной петербургской премьеры. Познакомившись с «Чайкой», Гнедич будет считать её лучшей чеховской пьесой. Петербургский неуспех этой пьесы искренне огорчит его, а постановка в Московском Художественном театре, увиденная в декабре 1898 года, побудит написать статью, восстанавливающую справедливость по отношению к Чехову-драматургу. Гнедич назовёт свою статью «Реабилитация Чайки» и, зная о хорошем отношении к Чехову А.С. Суворина, отдаст её для публикации в суворинскую газету «Новое время». И хотя Суворин согласится печатать её лишь при условии, что слово «реабилитация» будет вычеркнуто из заглавия, в самом тексте статьи это слово останется, как подведение итога настоящего и прогноз будущего: «В этой реабилитации «Чайки» я вижу залог светлого будущего, не для одного данного театра, а для русского театра вообще»17. Четверть века спустя, работая над мемуарной книгой, Гнедич выше всего поставит в заслугу собственное предвиденье: «В моей статье о «Чайке» важнее всего окончание. «Если пьесы, — писал я, — которые до сих пор носили нелепое определение «литературных, но не сценичных», могут идти с большим успехом на сценах, не обладающих «образцовыми» средствами, то это огромный толчок для будущего, театральное дело вступает в новую фазу. Много борьбы предстоит с представителями отживающих форм мнимой сценичности, но главное — первый шаг сделан»»18.
Гнедич отметит и принцип работы организаторов Художественного театра, пренебрегая сложившимся театральным соперничеством между Москвой и Петербургом. После публикации своей заметки он напишет в частном письме Чехову: «У Немировича и Алексеева дело хорошее — пусть только они не охладеют к нему». По-видимому, он будет стараться учитывать их достижения в своих собственных театральных преобразованиях, о чём отзовётся также как о «деле, которое только начинает формироваться»19.
На заметку о «Чайке» Чехов откликнется с благодарностью: «...сердечно благодарю Вас за статью о моей пьесе. Для меня это была такая радость, что не могу выразить» (П VIII, 70). Но когда в 1902 году он получит известие о возобновлении «Чайки» на Александринской сцене, то будет умолять Гнедича «ради создателя» (П XI, 16) не ставить её. «Чайка» всё же будет поставлена, в ноябре 1902 года Гнедич сообщит в Ялту автору об успехе и постарается успокоить его: «Постановка её доказала, как в течение шести лет шагнуло вперёд чутье театральной залы» (П XI, 350).
Гнедич был инициатором и в привлечении Чехова к участию в юбилейном Пушкинском сборнике 1899 года. По его просьбе Чехов прислал ему как одному из редакторов рукопись своего рассказа «Происшествие». Эта публикация влилась в общий «внушительный том в 675 страниц», давший чистого дохода около семи тысяч рублей, поступивших в фонд памятника Пушкину20. После издания сборника Гнедич сохранил чеховскую рукопись у себя, а затем передал в коллекцию Фидлера: об этом он сообщит сестре писателя М.П. Чеховой уже в 1913 году21.
Относясь с настороженностью к Гнедичу как к должностному лицу, Чехов ценил его за литературный профессионализм. Вл.И. Немирович-Данченко вспоминал, что Чехов говорил о Гнедиче: «Это же настоящий писатель. Он не может не писать. В какие условия его не поставь, он будет писать, — повесть, рассказ, комедию, собрание анекдотов. Он женился на богатой, у него нет нужды в заработке, а он пишет ещё больше»22. Чехову, сознающему, что талант «берёт не только качеством, но и количеством» (П II, 106), убеждённому в необходимости «постоянного правильного упражнения» (П V, 255), ежедневной писательской «дрессировки» (П II, 139), такая верность писательскому труду была по душе. «Я сему писателю очень сочувствую» (П III, 282), — отзывался он о Гнедиче осенью 1889 года в письме к литератору В.А. Тихонову.
В феврале 1897 года по инициативе Чехова в Серпухове в пользу местной земской школы, где Чехов был попечителем, силами Московского кружка любителей драматического искусства исполнялась комедия Гнедича «Брак». Нравилась Чехову и одноактная комедия Гнедича «Горящие письма», построенная на тонких психологических нюансах и чем-то напоминающая тургеневские пьесы. Показательно, что когда в 1898 году к Чехову из Парижа обратился преподаватель русского языка Я.С. Мерперт с просьбой рекомендовать новые пьесы «для французов, изучающих русский язык и ставящих каждую осень какую-нибудь русскую пьесу» (П VII, 264—265), писатель назвал «Горящие письма». К слову сказать, молодой К.С. Станиславский в 1889 году ставил «Горящие письма» — это была его первая и весьма успешная режиссёрская работа в московском Обществе искусства и литературы. Он играл Краснокутского — главную мужскую роль, а в одном из спектаклей сценический дуэт ему составила В.Ф. Комиссаржевская. Это выступление будущих знаменитостей, а тогда — просто любителей, по отзывам критики, «сделало бы честь даже настоящим актёрам какого угодно театра»23. Как утверждал впоследствии Станиславский, именно та постановка пробудила его стремление «разрабатывать в себе тонкую игру, основанную на мимике, паузах и отсутствии мнимых, театральных жестов», дала возможность «внести новую, невиданную на русских сценах манеру игры»24. В Доме-музее А.П. Чехова в Ялте хранятся материалы о том, что небольшие пьесы Гнедича с успехом разыгрывались и ялтинскими любителями. 8 октября 1896 года на сцене городского театра в программе благотворительного «концерта-спектакля» состоялась постановка «Горящих писем», где роль Краснокутского исполнил К.С. Станиславский, а роль Зинаиды Сергеевны Васильчиковой — известная любительница Ф.К. Татаринова25. В ту пору, когда Чехов уже стал ялтинским жителем, 24 февраля 1902 года в зале Александровской мужской гимназии любители играли в пользу пострадавших от землетрясения шемахинцев одноактный «этюд с натуры» Гнедича «Женя»26.
3
В настоящее время картина, отражающая знакомство Чехова с сочинениями Гнедича, составляется из фрагментов, но и они достаточно содержательны. Например, когда осенью 1898 года находящийся в Ялте Чехов посетовал на отсутствие книг, знакомая дама дала ему «почитать Гнедича», но оказалось, что он «эти рассказы читал уже...» (П VII, 344). Книги Гнедича имели, читали, обсуждали как в безымянных интеллигентных провинциальных кругах, так и в именитой столичной интеллектуальной среде. Характерную ситуацию отражает письмо Л.Н. Толстого к Гнедичу от 13 декабря 1899 года. В это время только что вышел новый роман Гнедича «Туманы», автор послал эту книгу в дар Толстому и получил в ответ следующий отклик: «Хотел поблагодарить Вас не только за присылку, но и за самое произведение, которое я всё читал в «Неделе» и с большим удовольствием. У меня есть брат, человек с чрезвычайно верным и тонким художественным чутьём. Когда я видел его в последний раз, он мне стал хвалить «Туманы», и мне было очень приятно перебрать с ним некоторые особенно понравившиеся нам прекрасные сцены...»27 В мемуарах Гнедича приводится свидетельство об интересе и к другому его роману, вероятно, «Купальным огням»: в одну из встреч в 1900 году он услышал от Толстого: «А роман ваш я ещё не прочёл. Мне его Чехов хвалил»28. Сам же Чехов писал ему в марте 1900 года: «Я читал Ваши «Туманы», но только малую часть в одной книжке «Недели». Теперь читаю «Купальные огни», хотя и не люблю читать урывками по частям» (П IX, 73).
Ряд сочинений Гнедича позволяет ставить вопрос о существовании скрытого пласта их взаимоотношений — творческих пересечений. Отмеченный эпизод с картой Африки в «Дяде Ване» и картой России в «Купальных огнях» отражает некое ученичество Гнедича у Чехова. Однако отношения их заслуживают того, чтобы назвать их более сложными.
В 1889 году в Приложении к журналу «Артист» была напечатана комедия Гнедича в четырёх действиях «Перекати-поле». Действие её происходит в деревне. Сюда, погостить у своего приятеля — помещика Чагадаева, приезжает из Петербурга молодой человек Волховской. В деревне Волховской знакомится с местной помещицей Агриппиной Петровной Третьяковой, которая с первых же слов начинает жаловаться на то, что её здесь все угнетают, «...может, вы меня, сироту, под своё покровительство возьмёте», — обращается она к Волховскому и на вопрос его, кто её обидчики, отвечает:
Третьякова. Все, батюшка, все!
Волховской. Ай! Неужели?
Третьякова. А я существо беззащитное...
Смарагдов. Ого!
Третьякова. Нечего «ого!» Я ведь — одна, понимаете, как есть одна. Два племянника в кадетских корпусах в Петербурге... Об них же надо печься. А ни вокруг, ни около никого.
Потом оказывается, что это «беззащитное существо» может дать отпор кому угодно: Агриппина Петровна всегда носит с собой заряженный револьвер, как-то подстрелила вора, лезшего в окно, сама устанавливает порядки в округе, сама вершит правосудие и диктует соседям, что и как они должны делать, — словом, за себя постоять умеет. Официальный блюститель порядка, становой Смарагдов боится её, как огня:
Третьякова. Вы пользуетесь тем, что я существо беззащитное, так ведь я вам покажу! Я два слова скажу — и ведь конец вам будет. Неправды я не потерплю...
Смарагдов. Боже мой, — да как же я смею, господь с вами.
И Волховского, к кому эта дама только что взывала о покровительстве, она сразу же вслед за тем наставляет: «Сама я существо беззащитное, а другому помогу всегда. <...> Чуть кто обидит вас — ко мне, в суд не подавайте — не стоит. Законы я лучше судейских знаю, да и прокурор мне родня — на внучатой племяннице женат...»29
Сюжет о «беззащитном существе» у Гнедича тесно связан с сюжетом рассказа Чехова «Беззащитное существо», опубликованного в «Осколках» 28 февраля 1887 года. Образ Третьяковой не может не вызвать в памяти образ чеховской Щукиной, чья основная характерологическая черта была даже вынесена в заглавие. Обе они, и Щукина, и Третьякова, рекомендуются «беззащитным существом». Обе в коротких пределах разительно меняются, переходя от мнимого неумения постоять за себя — к чрезвычайной энергии и агрессивности. Сходство приёмов в создании таких комических характеров проявляется и в конкретных деталях: обе объявляют себя беззащитными сиротами («...пожалейте меня, сироту», — плачет Щукина); обеим приходится печься о непрактичных родственниках: Третьяковой — о племянниках, Щукиной — «и за мужа хлопочи, и по хозяйству бегай <...> и зять без места» (VI, 88); обе угрожают своим обидчикам не просто судом, а близким знакомством с судейскими лицами: с прокурором-роднёй и уже «засудившим» троих жильцов Щукиной адвокатом Дмитрием Карлычем.
Детали в ещё большей степени убеждают, что Гнедич и здесь шёл вслед за Чеховым, независимо от того, как при этом сам расценивал их позиции. Отметим другое совпадение: заглавие пьесы Гнедича повторяет заглавие чеховского рассказа, опубликованного в «Новом времени» в июле 1887 года. Даты имеют в этом случае особое значение: комедия «Перекати-поле», впервые опубликованная в «Артисте» в 1889 году, при публикации в отдельном собрании комедий Гнедича датирована 1887 годом30. Выходит, Гнедич двигался по самым свежим чеховским следам, что, разумеется, не могло быть скрыто от их современников. В то же время нельзя не считаться и с тем, что Чехову никогда не приходило на ум обвинить Гнедича в подражании или тем более заимствовании. Чехов всегда отделял его от тех беспринципных сочинителей, которых именовал пренебрежительно «драмоделами», наподобие Виктора Крылова, чья способность к заимствованиям родила в театральных кругах особое понятие — «окрылить» пьесу31. Между прочим, сам Гнедич оставил в воспоминаниях характерный штрих из общения с драматургом А.Н. Островским: «Он всегда поправлял собеседника, если говорили:
— Слышали, А<лександр> Н<иколаевич>, Крылов опять написал пьесу?
Он сердито замечал:
— Не говорите — «написал», — «стяжал»»32.
Подобных авторов Чехов именовал «закройщиками модной мастерской» (IV, 277), скрывающимися под оболочкой драматургов. Но Гнедич всегда воспринимался им как «литературный» писатель, а не «закройщик» и не «стяжатель». Скорей всего, к сюжету о «беззащитном существе» Гнедич отнёсся как к расхожему юмористическому сюжету того времени. Такое предположение подтверждается некоторыми сопоставлениями. Немного позже, когда пьеса «Перекати-поле» будет поставлена на Александринской сцене, там же одновременно с ней будет идти одноактная комедия В. Крылова с близким названием «Угнетённая невинность»33. Её героиня, также именующая себя «беззащитной сиротой», незаслуженно угнетаемой судьбой34, в действительности весьма предприимчива и очень скоро добивается всего, что поставила своей целью. В другой комедии В. Крылова «Надо разводиться» (1884) по ходу действия возникал такой же сопутствующий мотив: молодая вдова Брусницкая, обращаясь к закоренелому холостяку Покорскому, говорила: «Мы, может быть, разделили бы наше одиночество <...> я хочу законного супруга», — на что Покорский немедленно отзывался: «С клятвами охранять беспомощное существо?.. знаю, знаю... нет, это слишком страшно»35. Аналогичным образом в начале 1890-х годов Гнедич использует в своей одноактной пьесе «Встреча» ситуацию комического спора о том, кто более верен и постоянен в любви — мужчина или женщина, — весьма отчётливо воспроизводящую комическое столкновение героев чеховского «Медведя» и вместе с тем пересекающуюся с более широкой водевильной традицией своего времени.
Видимо, потому Гнедич не испытал никакой неловкости и от новой встречи с чеховским «беззащитным существом» — в одноактной шутке Чехова «Юбилей», написанной на основе рассказа «Беззащитное существо» в декабре 1891 года. В 1903 году «Юбилей» был поставлен на Александринской сцене, и, сообщая Чехову о большом успехе у зрителей, Гнедич с удовлетворением отмечал: «Это была не пьеса, а сплошное щекотанье под мышками» (XII, 398).
Можно даже предположить, что именно знакомство с комедией «Перекати-поле» дало Чехову новый творческий стимул — переделать свой старый рассказ в водевиль. Пьесу Гнедича играли в Москве в драматическом театре Е.Н. Горевой начиная с 30 октября 1889 года36, и 7 ноября Чехов писал В.А. Тихонову: «Говорят, что «Перекати-поле» милая вещь. Надо бы пойти посмотреть» (П III, 282). Вскоре Чехов мог познакомиться с текстом пьесы и в декабрьской книжке журнала «Артист». Он также имел возможность увидеть петербургскую постановку в январе 1891 года. Премьера «Перекати-поле» состоялась в Александринском театре в октябре 1890 года, Чехов с 7 по 30 января 1891 года жил в Петербурге, в этот период спектакль давали 13 января37. Во время своего предыдущего пребывания в Петербурге Чехов смотрел в Александринском театре «Бедную невесту» А.Н. Островского и «Холостяка» И.С. Тургенева, в новый приезд мог пойти на давно занимавшую его «милую вещь» Гнедича. Осенью 1891 года Чехов вновь собирался в Петербург, но болезнь, начавшаяся в первых числах ноября и длившаяся больше месяца, не позволила ему совершить поездку. Если Чехов действительно видел «Перекати-поле» в январе 1891 года, то в декабре того же года мысли о Петербурге и последние петербургские впечатления как раз и могли дать тот творческий импульс, который побудил заново обратиться к сюжету о «беззащитном существе», обработать его для сцены.
«Перекати-поле» содержит ещё одну точку пересечения творческих замыслов Гнедича и Чехова. В пьесе Гнедича в одном из эпизодов заходит речь о берёзовой роще: подрядчик Простомолотов, набирающий силу деревенский кулак, просит помещика Чагадаева продать эту рощу на сруб.
Простомолотов. Рощица-то уж очень увлекательная: берёзки-то как на подбор. <...> место чудесное. Красоты такой поискать! На сруб надо.
Чагадаев. Красиво будет!
Простомолотов. У меня другая такая была — у Митюхина-вражка. Всю вырубил. Пеньки до сих пор стоят — налюбоваться нельзя на место. Все в два обхвата — один к одному — на целую версту. Красота, сердце радуется! Этакий лес был!
Чагадаев. Да, немало ты у нас в уезде такой красоты завел. Едешь ровно по кладбищу. И реки от того мелеть стали38.
Здесь затронута тема, которая станет одной из главных в комедии Чехова «Леший»: «Лесов всё меньше и меньше, реки сохнут, дичь перевелась, климат испорчен, и с каждым днём земля становится всё беднее и безобразнее» (XII, 140). Эта тема будет важна и в «Дяде Ване». Но Гнедич касается вопроса о сокращении лесов и обмелении рек в узком комедийном аспекте: у него очевиден конкретный виновник бедствий — наживающийся делец с «говорящей» фамилией, «запросто молотящий» всё, что в итоге обогащает его. Чехов подойдёт к вопросу об уничтожении лесов, обмелении рек и других неблагополучных последствиях взаимодействия человека и природы с других позиций. В его пьесах забрезжит призрак грядущих экологических катастроф, обусловленных не только собственно природными проблемами, но и проблемами морального свойства. В «Лешем», а затем и в «Дяде Ване» будет провидчески сказано о неразделимости всех этих аспектов человеческой жизни, и герои Чехова будут отстаивать как право на жизнь русских лесов, падающих под топорами, так и право на человечность: «...все вы безрассудно губите леса, и скоро на земле ничего не останется, точно так же вы безрассудно губите человека» (XII, 144). Поэтому там, где герой Гнедича считает возможным иронизировать или отшучиваться, персонажи Чехова негодуют, скорбят, призывают к действенным мерам.
Разность масштабов идейно-тематических аспектов здесь налицо. И всё же Чехов и Гнедич всегда расценивали друг друга как единомышленников и соратников. «Писатель нашей же генерации»39, — отзовётся в 1930-е годы о Гнедиче Вл.И. Немирович-Данченко, вкладывая в это понятие несколько больший смысл, чем подразумевает конкретная хронологическая привязанность.
4
Современники обычно и воспринимали их в одном литературном ряду, уравнивая не только по тематической направленности творчества, но и по степени таланта. Так было в начале чеховского пути, когда авторитетный критик А.М. Скабичевский не находил между ними «ни малейшей разницы» и утверждал, что «по талантливости ни один другому ни на йоту не уступит»40. Так было и в конце 1890-х годов, когда даже такой искушённый театральный деятель, как К.С. Станиславский, Чехова «как драматурга не выделял из группы знакомых ему имён Шпажинского, Сумбатова, Невежина, Гнедича»41.
Едва ли не единственный случай их неравной оценки (в пользу Чехова) находится в Дневниках В.А. Теляковского, да и то сравнение сделано по косвенному поводу. В 1900 году Театрально-литературный комитет забраковал пьесу Дж. Джакозы «Опавшие листья», которую Теляковский считал «выдающейся во всех отношениях» и полезной репертуару. После этого Теляковский припомнил, как в минувшем году Комитет забраковал «Дядю Ваню», и разразился в своём Дневнике следующим пассажем: «...театр не может оставаться без пьес из-за того, что Комитет не хочет вдумываться в нешаблонные пьесы и в пьесы, которые написаны не так, как пишут Невежины, Александров, Потехины, Гнедичи и др. <...> Кажется, суждено повториться истории с «Дядей Ваней» Чехова. Комитет пропускает всякую дрянь на сцену, но стоит появиться какой-нибудь выдающейся пьесе, чтобы она была забракована...»42 Правда и то, что увидев представление «Дяди Вани» в Художественном театре, Теляковский отметил в своём Дневнике, что «появление таких пьес — большое зло для театра. Если их можно ещё писать, то не дай Бог ставить в наш и без того нервный и беспочвенный век»43. Однако от этого его мнение о «Гнедичах», недвусмысленно отнесённых ко «всякой дряни на сцене», конечно, не стало лучше.
В.А. Теляковскому принадлежит и любопытная характеристика современного репертуарного потока, в котором Гнедич предстаёт одним из многих, не названных, но подразумеваемых. Поводом послужило посещение генеральной репетиции новой пьесы Гнедича «Завещание» в Малом театре 8 декабря 1899 года. Постановка, где были заняты ведущие артисты театра, не вызвала у Теляковского особых нареканий: «Пьеса разыграна, в общем, недурно. Хороши Правдин, Южин, Ермолова. Удовлетворительны Рыжов, Музиль, Макшеев. Остальные сносны <...> Срепетована пьеса удовлетворительно. В монтировочном отношении, при быстроте особенно постановки, пьеса поставлена и обставлена очень хорошо». Но при этом само произведение было оценено как типичный продукт современной драматургии, авторы которой напоминают не слишком умелых «изобретателей игр»:
«Присутствовал на генеральной репетиции «Завещания» Гнедича. Пьеса сама по себе довольно бесцветная, была бы или не была бы написана — безразлично. Нет общей руководящей нити, не видно, к чему дело клонит, какую идею автор развивает на 80-ти страницах. Много фактов, много мелочей, обдуманных, верно схваченных, иногда даже тонко задуманных, но когда настаёт конец пьесы, когда публике надо раскрыть карты и объявить козыри — оказывается, что объявлять нечего, всё уже объявлено и никто не выиграл, даже в бескозырную не играли, потому что для этой игры не было условия. Через несколько дней появляется опять новая пьеса, и опять не поймёшь игры. Даже изобретатели игр, то есть авторы — и те не выигрывают. Все они много придумывают, много конфет на ёлку, и часто красивых конфет, навешивают, и когда наконец всё навесили и нагрузили, оказывается, не заметили, что ёлка без ствола и корня, и опять ёлка падает <...> Вообще, авторы много придумывают, но мало думают и уже ничего положительно не задумывают. Такова и пьеса «Завещание»»44.
Сам же Гнедич оценивал себя как литератора и драматурга с новаторскими устремлениями и потому видел своё место рядом с Чеховым, причём не только в положительных, но даже и в негативных проявлениях творческой судьбы. В феврале 1899 года, после неудачной премьеры одной из своих пьес в Москве, он сравнивал этот провал с провалом «Чайки» на Александринской сцене и так писал об этом Чехову: «Я <...> был поставлен московским Малым театром в положение, отчасти сходное с Вашим: мой «Разгром», имевший большой успех в театре Суворина, жестоко был провален в Москве» (П VIII, 411).
Своеобразным итогом их отношений стало последнее письмо Чехова к Гнедичу, где были следующие слова: «Я давний Ваш почитатель и всегда любил Ваш талант» (П XI, 151). Оно было послано из Ялты в феврале 1903 года, тогда же Чехов выслал и свой фотопортрет с автографом: «Петру Петровичу Гнедичу от преданного дружески А. Чехова» (П XII, 206).
В последующие годы Гнедич поддерживал небольшую переписку с сестрой писателя М.П. Чеховой. В сентябре 1905 года он послал ей на согласование условия дирекции Александринского театра в связи с предстоящей постановкой «Вишнёвого сада», задуманной ещё при жизни Чехова, но ранее не осуществлённой45. Несколько лет спустя, узнав о готовящемся издании писем А.П. Чехова, он предоставил ей 12 чеховских писем, сделал нужные пояснения и разрешил после публикации передать их в Румянцевский музей. «У меня есть портрет Антона Павловича с его автографом, висит он рядом с таким же портретом Льва Толстого, — и с меня довольно его»46, — объяснял он своё решение в письме от 22 января 1913 года. То же письмо завершалось его признанием: «Я сердечно любил Антона Павловича. Виделись мы редко, после его смерти я не писал о нём ничего. Но ранняя его кончина мне была больнее многих невзгод и страданий. Доверю Вам об этом к слову, потому что знаю, как Вы любили его»47. В марте 1916 года он получил от М.П. Чеховой последний том 6-томного собрания чеховских писем и «просидел за ним весь вечер». Осуществление подобного издания он оценил как «огромный вклад в нашу литературу»48 и после этого наконец-то решился коснуться фигуры Чехова в собственных мемуарах «Книга жизни». Но Чехов в его воспоминаниях изображён достаточно сдержанно и выглядит силуэтом на общем культурном фоне 1890-х годов.
Время отвело каждому из них своё место. П.П. Гнедич теперь для нас — один из тех, кого называют спутниками Чехова, чьё творчество составляет литературный фон и массовый драматургический контекст конца XIX — начала XX веков. Он нашёл своих читателей и зрителей, ответивших ему взаимностью, но это произошло ровно в пределах отмеренного ему творческого пути. Что касается Чехова, то его путь пролёг гораздо дальше, через весь XX и теперь уже длящийся XXI век. Отсюда, с расстоянья в столетие, особенно ясно видно: именно степень соизмеримости Чехова с таким литературным фоном и делает его писателем-классиком.
Первая страница журнальной публикации «Встречи» П.П. Гнедича
Примечания
1. Гнедич П.П. Купальные огни. СПб., 1901. С. 19.
2. Арс Г. (Гурлянд И.Я.) Из воспоминаний об А.П. Чехове // Театр и искусство. 1904. № 28. С. 521.
3. Теляковский В.А. Дневники Директора Императорских театров. 1898—1901. М.: Артист. Режиссёр. Театр, 1998. С. 176.
4. Ольга Леонардовна Книппер-Чехова: Воспоминания и переписка: В 2 ч. М.: Искусство, 1972. Ч. 1. С. 102—103.
5. М. Горький и А. Чехов: Сб. мат-лов. М.: ГИХЛ, 1951. С. 25.
6. Крылов (Александров) В.А. Для сцены: В 9 т. СПб., 1878. Т. 3. С. 53—54.
7. М. Горький и А. Чехов: Сб. мат-лов. С. 25, 28.
8. Гнедич П.П. Купальные огни. С. 270—271.
9. Беллетрист (Боборыкин П.Д.). Литературный театр: Письмо второе // Артист. 1891. № 13. С. 56.
10. Заграничная хроника // Артист. 1891. № 13. С. 219.
11. Немирович-Данченко Вл.И. Из прошлого. М.: Худож. лит., 1938. С. 28.
12. Гнедич П.П. Книга жизни. Воспоминания. 1855—1918. Л.: Прибой, 1929. С. 236.
13. Там же. С. 180.
14. Литературное наследство. Т. 68. М.: АН СССР, 1960. С. 874.
15. Архив А.П. Чехова: Аннотированное описание писем к А.П. Чехову / Сост. Е.Э. Лейтнеккер. Общ. редакция Н.Л. Мещерякова. М., 1939. Вып. 1. С. 46.
16. Там же.
17. Гнедич П. «Чайка» г. Антона Чехова // Кузичева А.П. А.П. Чехов в русской театральной критике: Комментированная антология. 1887—1917. М.: ЧПК, 1999. С. 175.
18. Гнедич П.П. Книга жизни. С. 236.
19. Архив А.П. Чехова: Аннотированное описание писем к А.П. Чехову. Вып. 1. С. 46.
20. Гнедич П.П. Книга жизни. С. 195.
21. ОР РГБ. Ф. 331. К. 88. Ед. хр. 70. Л. 2.
22. Немирович-Данченко Вл.И. Из прошлого. С. 30.
23. Виноградская И.Н. Жизнь и творчество К.С. Станиславского. Летопись: В 4 т. Изд. 2-е. Т. 1. М.: МХТ, 2003. С. 126.
24. Станиславский К.С. Моя жизнь в искусстве. М.: Искусство, 1962. С. 539, 538.
25. Альбом Ф.К. Татариновой. Л. 62. Дом-музей А.П. Чехова в Ялте. См. также: Виноградская И.Н. Жизнь и творчество К.С. Станиславского. Летопись. Т. 1. С. 187.
26. Альбом Ф.К. Татариновой. Л. 137.
27. Л.Н. Толстой о литературе. Статьи, письма, дневники. М.: ГИХЛ, 1955. С. 487.
28. Гнедич П.П. Книга жизни. С. 200.
29. Артист. 1889. № 4. Приложения. С. 14.
30. См.: Гнедич П.П. Второй том комедий. СПб., 1894.
31. См.: Боцяновский В.Ф. Примечания // Гнедич П.П. Книга жизни. С. 337.
32. Гнедич П.П. Книга жизни. С. 210.
33. См.: История русского драматического театра: В 7 т. Т. 6. М.: Искусство, 1982. С. 503.
34. Крылов (Александров) В.А. Для сцены. Т. 3. С. 202, 203.
35. Крылов (Александров) В.А. Для сцены. Т. 7. С. 16—17.
36. История русского драматического театра. Т. 6. С. 547.
37. Там же. С. 483.
38. Артист. 1889. № 4. Приложения. С. 10.
39. Немирович-Данченко Вл.И. Из прошлого. С. 30.
40. Литературное наследство. Т. 68. С. 329.
41. Немирович-Данченко Вл.И. Из прошлого. С. 93.
42. Теляковский В.А. Дневники Директора Императорских театров. С. 357—358.
43. Там же. С. 177.
44. Там же. С. 188.
45. ОР РГБ. Ф. 331. К. 88. Ед. хр. 70. Л. 1.
46. Там же. Л. 2.
47. Там же.
48. Там же. Л. 4.
| Предыдущая страница | К оглавлению | Следующая страница |