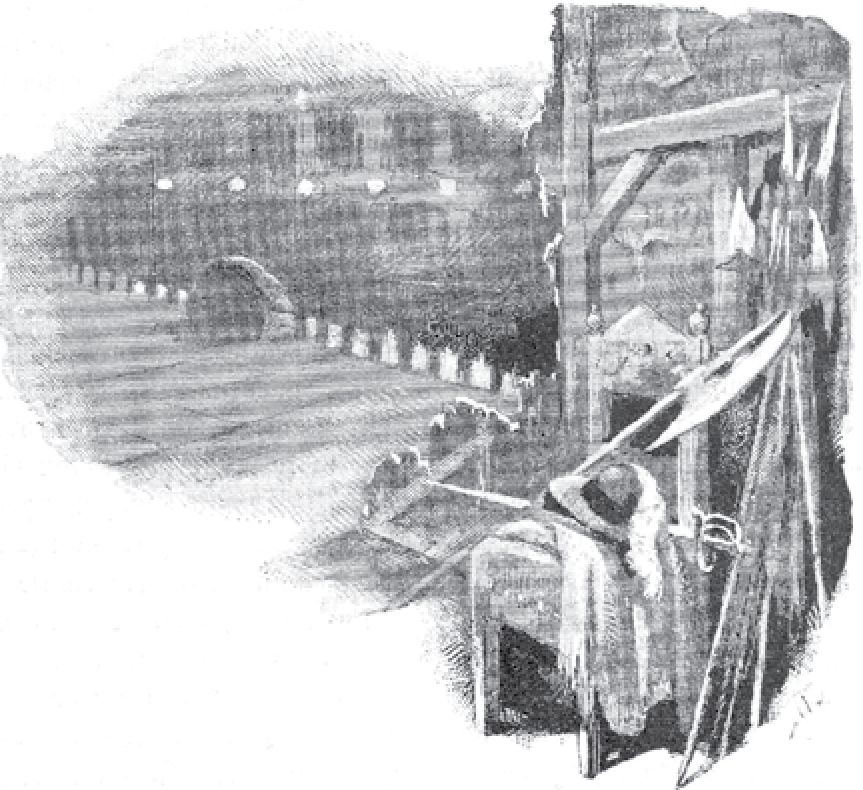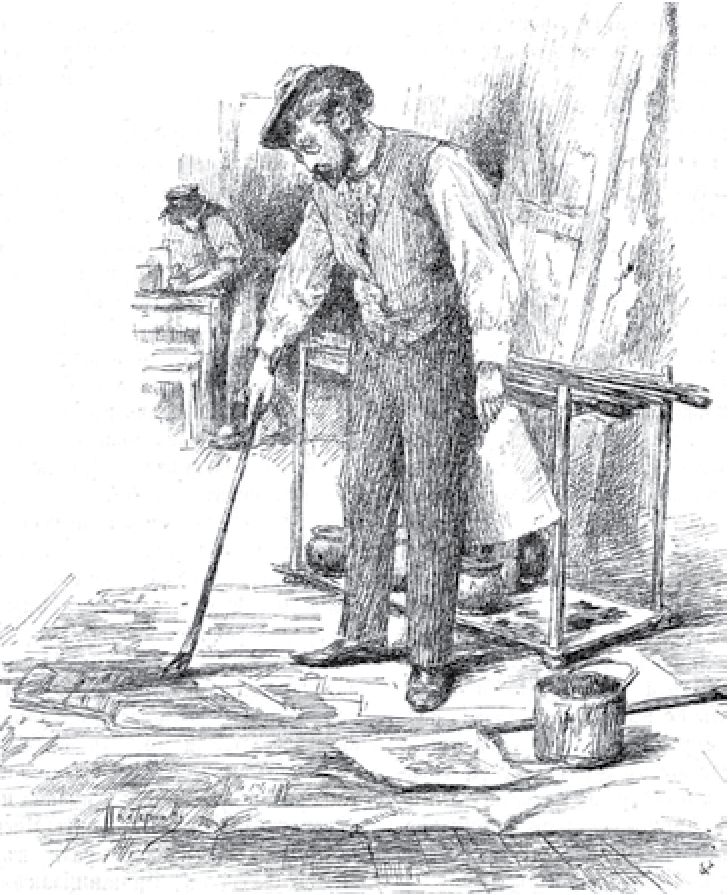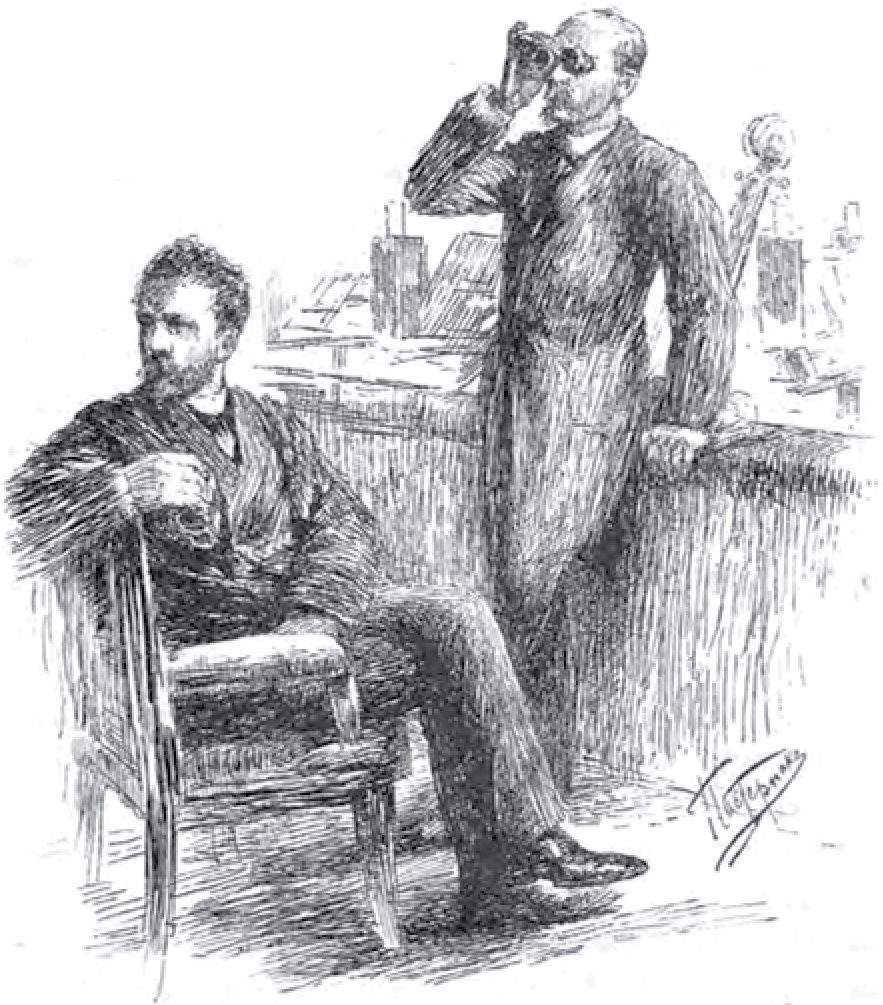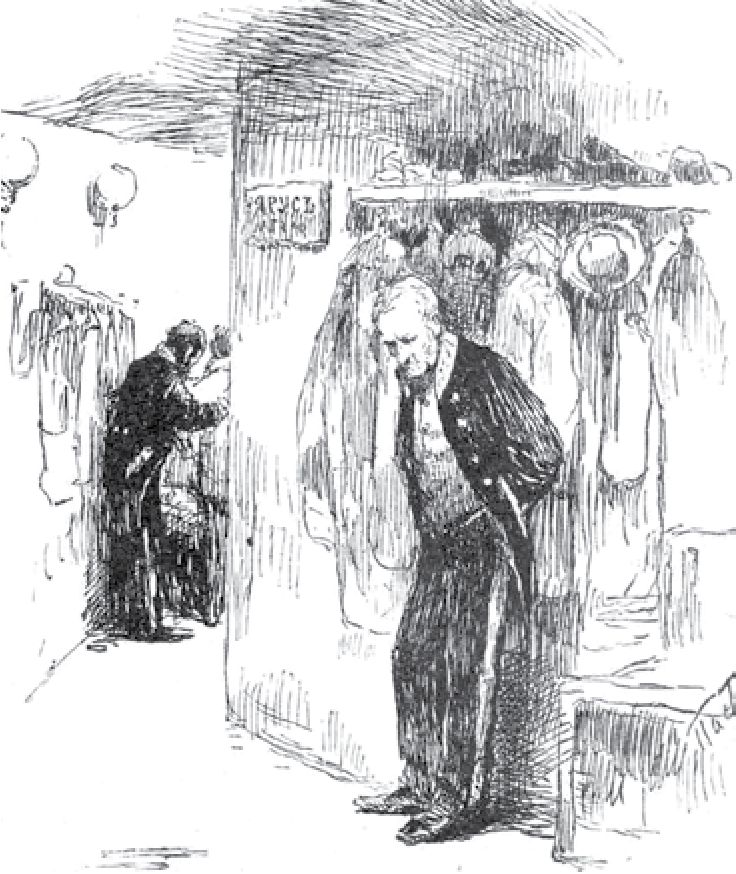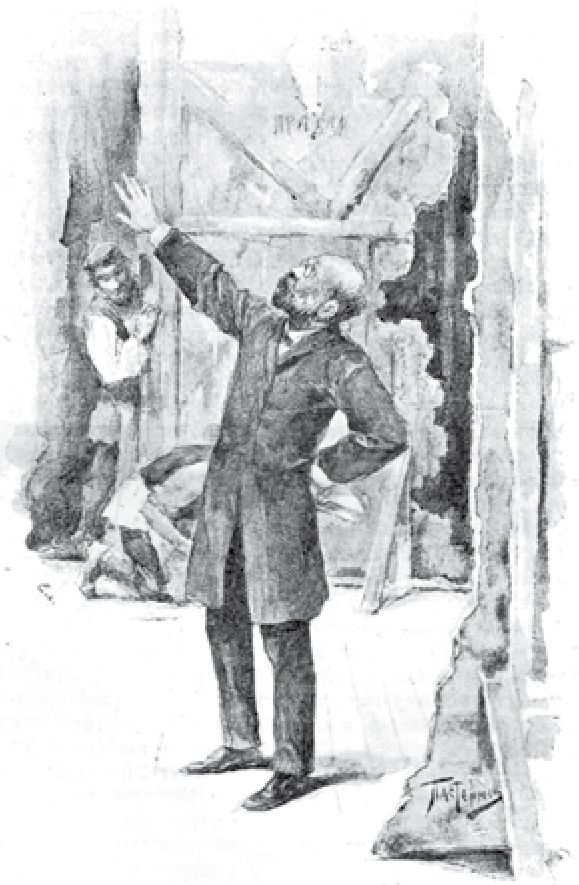Лидия. Я в актрисы пойду.
Телятев. Талант нужен, Лидия Юрьевна.
Лидия. Я в провинцию.
Телятев. Что за расчёт! Увлечёте какого-нибудь мушника Тулумбасова или уж много-много средней руки помещика. Что за карьера!
А.Н. Островский. «Бешеные деньги»
У актрисы Аркадиной позади успешная летняя гастроль в Харькове, у актрисы Заречной впереди зимний ангажемент на другую, не столь привлекательную провинциальную сцену:
Нина. Завтра рано утром ехать в Елец в третьем классе... с мужиками, а в Ельце образованные купцы будут приставать с любезностями. Груба жизнь!
Треплев. Зачем в Елец?
Нина. Взяла ангажемент на всю зиму. Пора ехать (XIII, 57).
То, что «Чайка» относится к произведениям с так называемым открытым финалом, проницательно отметил и оценил ещё один из первых её зрителей, юрист А.Ф. Кони: «...то, что пьеса прерывается внезапно, оставляя зрителя самого дорисовывать себе будущее, <...> — мне очень нравится»1.
Из всех судеб героев «Чайки» наибольший интерес и желание дорисовать будущее вызывает судьба Нины Заречной, её дальнейший путь в жизни и на сцене. Существует множество трактовок этого образа, иногда настолько контрастных, что кажется, будто речь идёт о разных лицах. «Одни убеждены, что в финале Нина — победительница, чайка, готовая высоко взлететь, другие видят в ней больную раненую птицу; она мечется, стонет, мучительно бьёт крылом»2. При этом далеко не всегда придаётся значение тому, что Нине выпала судьба провинциальной актрисы3: «Дебютировала она под Москвой в дачном театре, потом уехала в провинцию». В четвёртом, последнем действии пьесы, Нина появляется после недолгого служения на безымянной провинциальной сцене и накануне отъезда в Елец, где у неё «ангажемент на всю зиму».
Характерно, что современникам судьба героини представлялась глубоко драматичной, а версия о «победительнице» возникла несколько десятилетий спустя в советском литературоведении. Не потому ли, что современники лучше потомков представляли себе состояние театрального дела в провинции и незавидное положение актёрства?
Хроника провинциальных театров чеховской поры оставила неоспоримые свидетельства того, «как тернист, как труден жизненный путь актёра»4. В первой же книжке журнала «Артист» отмечалось по-настоящему бедственное положение: «Отовсюду слышатся жалобы на неуплату антрепренёрами жалованья артистам, которые <...> не только впадают вследствие этого в крайнюю нищету, притом ещё в чужом городе, но и лишаются возможности выехать к новому месту служения в будущем сезоне...»5 И далее из номера в номер, из года в год провинциальная хроника с печальным постоянством регистрировала «бедность» в буквальном смысле, т. е. отсутствие сборов, чуть не повсеместные «равнодушие публики к театру или склонность её видеть в театре только забаву, действующую на инстинкты и на нервы»6. Подобные сообщения, превратившись в общее место любого обозрения театральной провинции, подтверждались многими фактами. «И если вообще русского человека нельзя упрекнуть в недостатке терпения и выносливости, — говорилось в одном из обозрений, — то русский актёр наделён этими качествами, кажется, через меру <...> Ужасно подумать, какое огромное большинство русских актёров умирает чуть не без крова, и фраза: «Оставил семью без всяких средств к существованию» — стала стереотипною чуть не для всех артистических некрологов»7.
В контексте таких свидетельств особым смыслом наполняются реплики Нины в четвёртом действии об «уменье терпеть», «нести свой крест», цитирование тургеневского «Рудина»: «И да поможет господь всем бесприютным скитальцам». В финальном её монологе, написанном словно по следам журнальной статьи, личная судьба героини словно растворяется в общей картине жизни провинциальных «служителей искусства».
Вместе с тем у провинции, поглощающей Нину Заречную, есть точный адрес: Елец. Для чеховских современников этот адрес был наполнен конкретным смыслом: благодаря ему обобщённый образ русской театральной провинции не просто представал в своей характерной особенности, но приобретал вполне узнаваемые черты. В начале 1890-х годов тот, кто имел отношение к театральному делу, мог знать о елецком театре по корреспонденциям в специальных изданиях, в том числе в журнале «Артист». В частности, театральная хроника Ельца может восприниматься как ненаписанный, но возможный эпилог «Чайки», позволяющий представить себе обстоятельства пребывания героини в этом городе.
Елецкий театр чеховской поры почти неизвестен; даже в многотомной «Истории русского драматического театра» в главе о провинциальных театрах периода 1882—1897 годов о нём не упоминается8. Между тем на протяжении своего издания «Артист» помещал информацию о трёх елецких труппах: антрепризе Маринкович в сезон 1890/91 гг., сменившем её товариществе драматических артистов под управлением Бравича (сезоны 1891/92 и 1892/93 гг.) и товариществе Сахаровой (с сентября 1893 г.). Взятые в целом, местные корреспонденции рисуют картину жизни елецкого театра с момента его возникновения и первоначального интереса к нему ельчан до их несомненного и стойкого охлаждения. Наиболее интересны публикации первого года: хроника труппы Маринкович, где был поставлен чеховский водевиль «Предложение», и сообщение о постановке, напечатанное в одной из елецких хроник.
Итак, что же представляли собой город и театр, куда отправлялась в финале «Чайки» Нина Заречная?
«Елец город большой и торговый, но в нём давно уже не было постоянного театра. <...> Городская Дума бесплатно отдала городской манеж. В один месяц из грязного, заброшенного манежа появился на свет чистенький и вполне изящный театр со сбором в 380 руб. <...> В нынешнем году сняла театр г-жа Маринкович на три года с платою аренды по 1500 р. за каждый год. Г-жа Маринкович внесла вперёд за год арендную плату, а остальные необходимые на отделку театра деньги были собраны по подписке. После отделки театр принял такой чистенький, изящный и блестящий вид, что ему может позавидовать любой из губернских театров»9.
Однако в положении набранной труппы, как отмечалось в это же время, завидного было мало.
«Вот факт. Обыкновенно перед открытием сезона в провинции в здании театра служится молебен, к которому приглашаются власти и высокопоставленные лица города. Антрепренёрша театра в Ельце, пожелавшая исполнить обычай перед началом нынешнего сезона, не могла <...> найти в городе священника, который бы согласился отслужить молебен в театре. Это нам напоминает случай, который мы наблюдали в одном южном городке. Мимо окна квартиры, в которой живут актрисы, проходят две девочки. «Смотри, здесь живут актрисы», — сообщает одна из них другой. «Ну, вот, вовсе нет, — отвечает другая, — разве ты не видишь — тут на стенах образа висят». Как видно, своеобразный взгляд на актёров как на отщепенцев всасывается вместе с молоком матери»10.
Это — о нравах. Далее — о сезоне.
«Сезон открылся 16 сентября ком<едией> Островского «Лес». Затем были даны: «На жизненном пиру»11, «Дядюшкина квартира»12, «В забытой усадьбе»13, «Мария Стюарт»14, «Соколы и вороны»15 и др. Первый спектакль дал очень хороший сбор, а затем сборы упали. Но каковы бы ни были сборы, нельзя отнестись даже снисходительно к тому рыночному зазыванию публики, которое позволила себе администрация елецкой труппы <...> Как ни обидно за искусство и его представителей, но приходится поведать и перл елецкой рекламы. 23 сентября давался фарс г. Мясницкого «Дядюшкина квартира и афиши, читаем в «Орловском Вестнике», гласили, что комедия эта — «чистейший французский фарс и публика должна во весь спектакль безостановочно хохотать». Как это похоже на воззвания провинциальных клоунов, приглашающих почтеннейшую публику с чадами и домочадцами на свои бенефисы, обещая всякими штуками уморить всех со смеху. Заносим и этот факт грубой рекламы в число явлений, объясняющих упадок сценического искусства, полагая, что люди, таким образом ведущие театральное дело, ничего общего с искусством не имеют и только помогают его падению»16.
Хроника уведомляла и о составе елецкой труппы.
«Первое место в женском персонале труппы принадлежит г-же Виноградской. Это симпатичная, опытная и с недурным гардеробом актриса. Игра её проста, естественна, выразительна; публике она нравится и пользуется хорошим приёмом...
<...> Во главе всей труппы стоит сама антрепренёрша Маринкович, выступившая в роли Марии Стюарт, проведённой ею крикливо и неестественно. Г-жа Маринкович женщина довольно почтенных лет и обладает не сценичной фигурой. В последующие спектакли г-жа Маринкович стала появляться в ролях молодых женщин и девушек, что сильно повлияло на охлаждение публики к театру.
Была у нас и дебютантка, дочь известной провинциальной актрисы, давно сошедшей со сцены, г-жа Шеренина. Свою роль Тани в «Забытой усадьбе» она сыграла просто, мило и естественно, но она не была принята в труппу»17.
Небольшого наличного состава труппы не всегда хватало для полноты ансамбля. «К сожалению, антрепренерша не позаботилась о приглашении актёров и актрис на маленькие роли и для обстановочных пьес. Обстановка пьес очень жалкая, даже и для уездного города»18. Спектакли поэтому шли неровно, и даже в наиболее удачных из них труппа настоящего успеха не имела: «Было даже несколько спектаклей, проведённых хорошо и с полным ансамблем, но по какой-то случайности они прошли при самых незначительных сборах»19.
Впрочем, образованная купеческая публика поначалу была снисходительна. Так, признавая не без сочувствия, что нынешняя антреприза «не может дать совсем хорошую труппу, стоящую обыкновенно очень дорого», корреспондент отмечал, что публика хорошо понимает это обстоятельство. «Наша публика вообще снисходительна...» — утверждалось на четвёртый месяц с начала сезона. Как считал обозреватель, «труппа нынешнего сезона не имеет права жаловаться на равнодушие и невнимание к ней ельчан; приём, оказываемый ей публикою, можно назвать хорошим»20.
Однако ближе к концу сезона елецкая труппа уже откровенно оценивалась как плохая. О «местной плохой труппе» говорилось в той самой корреспонденции, где сообщалось о постановке «Предложения» Чехова. Чеховский водевиль был разыгран одновременно актёрами и городскими любителями — и впечатления зрителей оказались не в пользу профессионалов. Вот как писал об этом «Артист» в феврале 1891 года:
«Елец. <...> говоря по правде, спектакли наших любителей иногда интереснее даже и по исполнению, чем спектакли местной плохой труппы, о которой уже было говорено в «Артисте». Случайно мы смотрели одну и ту же пьесу у любителей и у актёров и должны признать любительское исполнение выше. Мы говорим о милой, литературно написанной вещице — «Предложение" г. Чехова. Гг. актёры сделали из неё плохой фарс <...> совсем не поняли, что так обращаться с хорошими пьесами нельзя, хотя бы они были озаглавлены автором «шуткой»»21.
Вот причины того, что антреприза Маринкович вместо предполагавшихся вначале трёх сезонов продержалась всего один. Её итоги были не лучше общих неутешительных итогов, подведённых «Артистом» по всей провинции: «Сборы в большинстве городов были слабы <...> антрепренёры потерпели убытки и некоторые из них не уплатили служащим сполна жалованья»22.
Пришедшее ей на смену товарищество под управлением К.В. Бравича вело дела успешнее: окончив первый свой сезон «довольно благополучно»23, оно осталось и на второй. В корреспонденциях о нём не встретить примеров рыночного зазывания публики и недавних перлов рекламы, но отмечаются «неровность игры артистов и неряшливость декораций, недостаток которых бросается в глаза», малые сборы: «Сбору было 28 р., что тоже не могло не отразиться на игре актёров»24. Репертуар был пёстрым, на разные вкусы: «пьесы современные, идущие на Императорских сценах, водевили с пением, небольшие оперетки и мало-русские пьесы»25. Сменившее его товарищество под управлением Сахаровой, открывшее сезон 1893/94 гг. «Женитьбой Белугина», предлагало такой же смешанный репертуар: «драмы, комедии и (в начале сезона) водевили с пением»26; в числе драм были «Горькая судьбина» Писемского, «Гроза» Островского.
Во время пребывания в Ельце товарищества Сахаровой сложилось окончательное мнение о равнодушии горожан к театру. В провинциальной хронике «Театральной библиотеки» было замечено: «Чему приписать сравнительно малое посещение публикой театра: равнодушию ли вообще ельчан к театру или скупостью наиболее многочисленного контингента жителей — купечества, или несоответствию репертуара вкусам елецкой публики — не знаем, но вернее первому»27.
Факты елецкой хроники: несомненная бедность актёров и профанация театрального дела, ставящая его подчас вне искусства; снисходительность какой-то части просвещённого купечества, а с другой стороны — его явная холодность и недружелюбие к театру; сложная обстановка внутри труппы, где пожилая бездарная антрепренёрша на правах хозяйки захватывает молодые роли, а одарённая молодая дебютантка лишена возможности сделать свою сценическую карьеру; смешанный репертуар, способный утомить и разочаровать в искусстве, — всё это факты и ближайшего будущего Нины Заречной.
Не удивительно, что первый постановщик «Чайки» на Александринской сцене Е.П. Карпов счёл судьбу чеховской героини безусловно пропащей. Карпов одним из первых познакомился с «Чайкой» и высоко оценил её. «Помню, как сейчас, то впечатление, какое произвела на меня пьеса в чтении, — вспоминал он в 1910 году. — Написанная в мягких, акварельных тонах, проникнутая задумчивой грустью, жизненная до мельчайших подробностей, правдивая и тонкая по психологии действующих лиц, «Чайка» напоминала мне, по своему колориту, пьесы И.С. Тургенева...»28 Но путь Нины виделся ему только как путь страданий:
«Будничность содержания, отсутствие сильных драматических моментов, обывательская серенькая, деревенская жизнь, серенькие русские, расплывчатые характеры, безвольные, засосанные средой люди... И среди них чудная, даровитая девушка — Нина Заречная, с мятущейся душой, жаждущая света, простора, любви, ищущая идеала, выхода, шири для своего таланта...
Вместо любви Нина Заречная нашла пошлость, вместо служения высокому искусству — грязную сцену провинциального театра с полупьяными актёрами, с грубой, неразвитой публикой, видящей в актрисе доступную женщину...
«Я Чайка!» — страдальческим голосом говорит Нина в последнем акте Треплеву, придя к нему в непогожую ночь, и с разбитым сердцем, с отчаянием в душе, уходит в темноту осиротелого осеннего сада, с голыми, лишёнными листьев деревьями...
Да, это правдивая, глубокая, сильная и так просто, так необыкновенно просто, без всяких фальшивых выкриков и театральных эффектов, написанная рукой большого таланта, драма...»29
Карпов имел основания для таких суждений, продиктованных личным опытом, но при этом не учёл особенностей чеховской поэтики, противящейся жёсткой однозначности выводов.
Четвёртое действие «Чайки» построено на многочисленных «но»... Два года скитаний по провинции открыли Нине, что жизнь «груба», но в то же время научили не бояться жизни. Во время последней встречи с Треплевым Нина предельно утомлена, еле стоит на ногах, но ей уже «не так больно». Треплев хотя и чувствует, что Нина «глубоко несчастна», но понимает, что она нашла «свою дорогу». Дорога же эта такова, что нужны особое мужество, долготерпение и вера в своё призвание, чтобы выстоять на ней.
Отсутствие однозначной развязки судьбы Нины Заречной ещё более заметно на фоне судьбы героини одной из комедий самого Е.П. Карпова, посвящённой актёрам и актрисам. В истории русского театра Карпов известен не только как режиссёр, но и как драматург, чьи пьесы шли на известных столичных сценах и в провинции. Одна из них — «Жрица искусства (Свободная художница)» — рисует совсем иную будущность молодой драматической актрисы, столкнувшейся с нравами сцены и закулисья.
В уборной. Рис. Л.О. Пастернака. Фототипия К.А. Фишера в Москве
Ламповщик. Рис. Л.О. Пастернака
Сцена. Рис. Л.О. Пастернака
Декоратор. Рис. Л.О. Пастернака
В партере. Рис. Л.О. Пастернака
Афишёр. Рис. Л.О. Пастернака
У кассы. Рис. Л.О. Пастернака
Швейцар. Рис. Л.О. Пастернака
Капельдинер. Рис. Л.О. Пастернака
Режиссёр. Рис. Л.О. Пастернака
Примечания
1. Кони А.Ф. Собр. соч.: В 8 т. Т. 8. М.: Юридич. лит., 1969. С. 136.
2. Зингерман Б.И. Театр Чехова и его мировое значение. М.: Наука, 1988. С. 249.
3. См. на эту тему: Вилькин Александр. «Отчего стрелялся Константин?» // Совр. драматургия. 1988. № 3. С. 207—216; Волчкевич Майя. «Чайка». Комедия заблуждений. М.: Музей человека, 2005. С. 93—97.
4. Артист. 1894. № 43. С. 201.
5. Артист. 1889. № 1. С. 138.
6. Артист. 1891. № 12. С. 227.
7. Артист. 1894. № 43. С. 201.
8. История русского драматического театра: В 7 т. Т. 6. М.: Искусство, 1982. С. 291—416.
9. Артист. 1890. № 11. С. 216.
10. Артист. 1890. № 10. С. 173.
11. Драма в 4-х д. Вл. А. Александрова.
12. Шутка в 3 д. И.И. Мясницкого (И.И. Барышева).
13. Драма в 5 д. И.В. Шпажинского.
14. Трагедия в 5 д. Ф. Шиллера.
15. Драма в 5 д. А.И. Сумбатова (Южина).
16. Артист. 1890. № 10. С. 174.
17. Артист. 1890. № 11. С. 216.
18. Артист. 1890. № 11. С. 217.
19. Там же.
20. Там же.
21. Артист. 1891. № 13. С. 209.
22. Артист. 1891. № 14. С. 161.
23. Дневник Артиста. 1892. № 3. С. 48.
24. Артист. 1891. № 12. С. 193.
25. Артист. 1891. № 16. С. 145.
26. Театральная библиотека. 1894. № 34. С. 98.
27. Там же.
28. Карпов Евтихий. История первого представления «Чайки» на сцене Александринского театра 17 октября 1896 г. // О Чехове. Воспоминания и статьи. М.: Т-во «Печатня С.П. Яковлева», 1910. С. 63.
29. Там же. С. 63—64.
| Предыдущая страница | К оглавлению | Следующая страница |