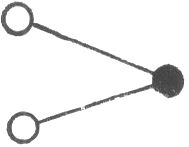Сложный путь, которым шла мысль Чехова от жизненных впечатлений к рассказу «Ариадна», завершился психологическим открытием — созданием нового типа в литературе. До чеховской Ариадны в русской литературе уже были образы женщин-хищниц (самая выдающаяся из них — Элен Курагина в «Войне и мире»), тем не менее даже первые читатели рассказа, как мы видели, ощутили оригинальность новой героини. Традиционное сочетание внешней красоты и совершенства с душевной холодностью у героини Чехова приобрело новые оттенки, составившие колорит этого неповторимого женского образа. Главный из оттенков — обаяние простодушия и наивности1, каким-то образом уживающееся с лукавством и лживостью.
Не имея высокого положения в обществе, как Элен Курагина, не обладая ее материальным достатком, чеховская Ариадна во всеоружии своего обаяния с не меньшей силой властвует над близкими, подчиняя их судьбы своим эгоистическим интересам. Объективно продолжая одно из художественных достижений автора «Войны и мира» и опираясь на психологические явления, подсказанные жизнью, Чехов открыл совершенно новые возможности в изображении женщины-вампира.
* * *
Теперь посмотрим, к чему пришел художник, опираясь на действительность, когда он работал над рассказом «Убийство».
Этот рассказ, мало известный широкому читателю, долгое время не привлекал внимания наших специалистов и стоял как-то особняком, вне исследований идейной и художественной проблематики чеховского творчества. Вместе с рассказами «Гусев» (1890), «Бабы» (1891) и «В ссылке» (1892) он значился в «сахалинском цикле» Чехова, но внутрь его сахалинского содержания никто не входил. Лишь в нескольких работах последних лет это произведение наконец введено в общий контекст идейных и творческих исканий Чехова2. Осуществлена, в частности, попытка объяснить появление этого рассказа давнишним интересом Чехова к проблеме убийства. Так, Л.М. Долотова связала проблему, давшую название рассказу, с кругом размышлений Чехова, отразившихся в произведениях второй половины 80-х годов (убийство ужа «озорником» Дымовым в повести «Степь» и маленького ребенка — нянькой Варей в рассказе «Спать хочется»).
С этой важной связи, нуждающейся, однако, в уточнении как раз с точки зрения нашей проблемы (от жизни — к сюжетам), мы и начнем рассказ о творческой атмосфере, в которой создавалось «Убийство», и об особенностях художественного мышления его автора.
Учитывая прежние творческие мотивы в числе других источников замысла, следует помнить, что старый художественный опыт не может не пройти через горнило новейшего жизненного опыта, особенно такого значительного, каким была для Чехова короткая сахалинская страница его биографии. Цепь прежних раздумий об убийстве не возникла впервые в произведениях, написанных после Сахалина, она действительно продолжалась, но — на новом уровне. Есть, очевидно, определенная закономерность в том, что эпизоды убийства беззащитного ребенка (беззащитным же ребенком) в рассказе «Спать хочется» или убийства «безвинной твари» не находящим себе места от избытка жизненных сил «озорником» Дымовым в «Степи» были созданы до Сахалина, а убийство брата братом (пусть двоюродным) из-за несходства взглядов на жизнь и на религиозные обряды в рассказе «Убийство» или зверская расправа над младенцем, совершенная из-за наследства его теткой в повести «В овраге», — эти сцены пришли к художнику после Сахалина.
Заметим также, что мотив убийства в «Степи» не ограничивался эпизодом с ужом: Дымов убивает ужа в главе четвертой, а в шестой главе он же рассказывает страшную быль о косарях и купцах, после чего старик Пантелей вспоминает, как шайка разбойников промышляла убийством богатых проезжих. Но как сказочно-легендарны эти рассказы у костра, как далеко в прошлое своим фактическим содержанием они повернуты от действительности! Кресты погибших у дороги, множество человеческих костей, зарытых в подвале, — все это детали, восходящие к романтической поэтике так называемого разбойничьего фольклора. Источник этого мотива принадлежит сфере чужих знаний о жизни (рассказов, услышанных Чеховым еще в детстве, хотя воспоминания о них и были оживлены поездкой по южной степи в 1887 году).
Утверждая в сцене у костра, что сказка «сливалась с жизнью», Чехов имел в виду не реальное содержание «сказки», а именно этот сказочный дух, соответствовавший настроению степных людей и степному простору — в сущности поэтическому моменту. Недаром повествователь замечает здесь, что, слушая страшные рассказы, «человек, сильно искусившийся на грамоте, недоверчиво покосится» («да и то смолчит», — добавлено для характеристики общего поэтического настроения).
В эпизодах, рассказанных у костра, убийство — акт сознательный, имеющий корыстную цель, — страшное преступление. Но художественная трактовка его еще ничем не предвещает того мрачного драматизма, которым проникнуты соответствующие сцены в произведениях «постсахалинских» («Убийство», «В овраге»).
Еще дальше от настроения этих сцен отстоит литературный фон таинственного убийства «девушки в красном» в ранней повести «Драма на охоте». Может быть, только в наивном изображении гибели крестьянки Марьи от руки пьяного мужа, исстрадавшегося и измученного людьми («Барыня»), молодому Чехову удалось предугадать сахалинские «семейные» преступления, о которых ему пришлось позже услышать от самих каторжников.
Далее. Идейное наполнение рассказа, о котором пойдет речь ниже, не ограничивается мотивом убийства, преступления. После обнаружения убийства, составляющего кульминацию событий, описанных в рассказе, уже на заключительном, весьма коротком повествовательном отрезке возникает мотив, звучащий в произведении с не меньшей силой, — мотив наказания.
«Наказанных» Чехов изображал и раньше, задолго до непосредственного знакомства с арестантами и ссыльными, — в таких рассказах, как «В суде», «Мечты». Впечатлительной душой он почувствовал участь отторгнутых от общества людей, пережил про себя все то, чего еще не видел так близко, как потом на Сахалине3. Чтобы написать эти рассказы, нужен был талант. Но только знание «сахалинского ада» могло сообщить таланту силу для создания произведений такого масштаба, как «Бабы», «Палата № 6», «В овраге». Без этого знания не появилась бы и такая картина физических и нравственных страданий наказанного, какая поражает нас в последней главе «Убийства».
И как ни подготовлен был внутренне интерес Чехова к проблеме: преступление и наказание, только после Сахалина он сумел заняться ею специально и дать ей более глубокое художественное решение — в «Рассказе старшего садовника». Если в конце 80-х годов вопрос о том, что лучше для преступника — смертная казнь или пожизненное заключение, возник в рассказе «Пари» в результате абстрактного кабинетного спора, то «старинная шведская легенда» поднимала этот вопрос на более высокий уровень. Словно учитывая опыт многих тысяч жизней, погубленных на каторге, и охраняя жизнь осужденного, который убил необыкновенно доброго человека, рассказчик протестует против смертного приговора — ведь это было бы узаконенное новое преступление. «Рассказ старшего садовника» и «Пари» разделяет не только большая зрелость таланта, но и факт сахалинского путешествия в биографии автора. Следующей ступенью в художественном решении проблемы преступления и наказания, ступенью, непосредственно выросшей из реального образа сахалинской каторги, был рассказ «Убийство».
«Убийство» — последний из четырех рассказов, связанных непосредственно с сахалинскими впечатлениями Чехова, и единственный, в котором события, хотя и ненадолго, под самый конец, переносятся на сахалинскую каторгу. Одним словом, это «самый сахалинский» рассказ.
Но мы знаем уже, что жизненный материал в художественном произведении никогда не бывает однородным; разновременные пласты жизни, попав под творческий пресс, образуют новое качество и вливаются в единое и неделимое целое — отчужденный от реальной действительности художественный мир произведения. Нити, ведущие от объективной действительности к рассказам зрелого Чехова, и разновременны, и разнохарактерны. Мы могли в этом убедиться на истории создания «Ариадны», подтверждает это и работа Чехова над «Убийством».
Художественная действительность в рассказе «Убийство» имеет два четко различимых пласта: пласт глухой провинции, занимающий большую часть повествования, и пласт сахалинской каторги — седьмая глава, заключающая рассказ. Первый отражает в основном ранние жизненные впечатления Чехова, второй — впечатления 1890 года.
* * *
В провинциальном пласте жизни, изображенной в «Убийстве», главное место занимает спор братьев по поводу религиозных обрядов.
Как можно из-за религиозных споров дойти до ненависти, до убийства человека? Рассказ построен как своеобразное исследование этого вопроса, с редким для Чехова углублением в родословную героев4, с обращением к форме «исповеди», характеризующей внутренний мир человека (воспоминания Матвея Терехова о своем прошлом), с тщательным описанием религиозных обрядов, с обилием церковных изречений и терминов.
Чехов, как известно, получил религиозное воспитание. И.А. Бунин заметил верно, что без «тонкого знания церковных служб и простых верующих душ» не было бы, может быть, рассказа «Убийство»5. О церковном пении в детстве, о непременном «исправном» посещении служб Чехов вспоминал в письме И.Л. Щеглову (Леонтьеву) 9 марта 1892 года, когда — кто знает? — может быть, уже забрезжила где-то в сознании мысль об использовании в рассказе этих воспоминаний6. Во всяком случае, воспоминания эти для Чехова в то время, по его собственным словам, были «довольно мрачными», и уже в них могли быть заложены основы общего решения религиозной темы в «Убийстве»: фетишизация частных религиозных вопросов приводит к невосполнимым духовным потерям, она может привести и к человеческим жертвам.
Главная роль в религиозном воспитании детей Чеховых принадлежала отцу — Павлу Егоровичу, строго следившему за соблюдением религиозных обрядов в семье и руководившему церковным хором, в котором пели его сыновья.
Павел Егорович очень любил церковное пение. Урывая время от торговых дел, он стал регентом церковного хора в Таганроге. Старший сын его Александр Павлович вспоминал:
«Будучи человеком религиозным, он не пропускал ни одной всенощной, ни одной утрени и ни одной обедни. В большие праздники он неукоснительно выстаивал две обедни — раннюю и позднюю — и после обеда уходил еще к вечерне.
Идеалом церковной службы была для него служба в монастырях на Афоне (о чем ему рассказывали заезжие афонские монахи), где все читалось и пелось «продлиновенно, вразумительно и без пропусков» и где, например, всенощная начинается в шесть часов вечера, а кончается в шесть часов утра»7. Управляя хором, он так затягивал пение, что прихожане роптали и не раз тут же, в церкви, обращались к Евгении Яковлевне с просьбой, чтобы она повлияла на него. «Во всех церквах обедня давно уже отошла, — говорили они, — а у нас еще только «Верую» поют...» Но, ссылаясь на продлиновенность афонской службы, Павел Егорович не поддавался на увещевания и говорил: «Зато — благолепие!»
Этот рассказ брата писателя связывает обстоятельства жизни героев «Убийства» с достоверными фактами. Матвей Терехов в первой главе вспоминает свое прошлое, когда он пел тенором в церковном хоре изразцового завода. «Только в городе жаловались, что мы долго поем: заводские, говорили, тянут. Оно правда, мы Андреево стояние и Похвалу начинали в седьмом, а кончали после одиннадцати, так что, бывало, придешь домой на завод, а уже первый час. Хорошо было!» («Благолепие» Павла Егоровича — по такому же поводу.)
С Павлом Егоровичем в религиозности мог состязаться в Таганроге лишь его брат Митрофан Егорович, бессменный староста Архангело-Михайловской церкви и корреспондент Афонского монастыря8.
Кажется, никто еще до нас не обращал внимания на такую деталь, затерявшуюся в старых мемуарах: «В Таганроге его (М.Е. Чехова. — Э.П.) прозвали Богомоловым за его религиозность»9. Сравним в рассказе: «Тереховы вообще всегда отличались религиозностью, так что им даже дали прозвище — Богомоловы». В своих воспоминаниях Иван Павлович далее говорил о дяде: «В великом посту он всегда говел по два раза и в день исповеди ничего не ел, так что, когда он шел к причастию, мы его поддерживали под руки, боясь, чтобы он не упал от слабости. А в день святой пасхи он объезжал все тюрьмы, сумасшедшие дома, развозил арестантам куличи, яйца, пасхи и христосовался со всеми арестантами и сумасшедшими». Этому чрезмерному, до исступления, соблюдению церковных обрядов, которому был свидетелем юный Чехов, соответствует в рассказе желанье братьев Тереховых (Матвея — в прошлом, Якова — к началу действия в рассказе): верить «не как все», а неистово, с рвением, подчеркивающим особую угодность богу своих молитв, постов и т. д.
И хотя Чехову для воссоздания религиозной атмосферы в рассказе не надо было напрягать память и расспрашивать близких — это знание было у него с детства, а в Мелихове во время работы над рассказом под одной крышей с ним по-прежнему усердно молился Павел Егорович, — тем не менее дух религиозного фанатизма в рассказе создавался не без обращения памяти вспять, к таганрогским годам. Свидание Чехова с дядей в Таганроге перед самой смертью Митрофана Егоровича (во второй половине августа 1894 года Чехов был в Таганроге, а 9 сентября получил телеграмму о смерти дяди) должно было оживить воспоминания детства. «Дядя мой умер от истощения. Он стал жертвою своего необыкновенного трудолюбия», — писал Чехов под впечатлением смерти Митрофана Егоровича (Письма, т. V, стр. 318). Этот печальный исход необыкновенного усердия относится к тому же психологическому состоянию, что и добровольное удлинение церковной службы и постов, ночные вставания для поклонов, ходьба босиком по снегу, таскание тяжелых камней и т. д. — все те излишества в соблюдении религиозных обрядов, которые доводили Матвея Терехова в годы жизни на заводе до «онемения» и истощили его организм.
Как это чаще всего бывает у Чехова, герои рассказа не связаны с действительными лицами (отцом и дядей писателя) прототипическим родством, но отдельные психологические мотивы, да и сама расстановка главных действующих лиц в рассказе — двух братьев, в жизни которых религия занимает большое место (а один из них занимается торговлей), — генетически могли восходить к впечатлениям детства.
Едва уловимый отзвук тех же впечатлений есть и в контрастном противопоставлении крутого нрава Якова слабохарактерности Матвея: Павел Егорович был человек властный и суровый, Митрофан Егорович славился своей мягкостью и сентиментальностью. И то, что именно Яков, похожий на Павла Егоровича, торгует в рассказе бакалейными товарами и водкой, в этом контексте начинает казаться не случайным совпадением. В памяти художника «натура» закрепилась как неделимое целое, как неразрывное сочетание определенных черт характера с конкретными обстоятельствами. Когда явилась потребность в создании социально-психологического типа, чем-то близкого к реальному характеру, сама жизнь пришла на помощь, услужливо и, быть может, совсем незаметно для автора предлагая это устоявшееся единство.
Мотивы церковные и религиозные в этом рассказе еще более, чем мотив убийства, родственны содержанию рассказов второй половины 80-х годов («Святой ночью», «Перекати-поле»). Но как непохожи светлые, живописные картины монастырского быта в этих ранних произведениях на изображение церковных обрядов в рассказе 1895 года, от которого исходит мрачный отсвет сахалинских впечатлений.
Церковные описания (от имени повествователя) в «Убийстве» почти лишены светлых интонаций. Во время всенощной блеску огней на станции в начале рассказа сопутствует вой ветра. А радостное сияние на лице будущей жертвы — Матвея, поющего вместе с псаломщиком, вспыхивает ненадолго вместе с огнями и гаснет вместе с ними же. Огни всенощной сменяются темнотой, подвыванием ветра, «тоской медленно текущей жизни» — экспозиция, не предвещающая ничего доброго и впоследствии оправдавшаяся в картине убийства, возникшего тоже стихийно, как вой ветра, и в заключительном эпизоде, когда Яков Терехов с сахалинского берега сквозь тысячи верст ночной тьмы силится увидеть родину, а в это время дует пронзительный ветер и надвигается шторм.
Столь же ненадежными оказываются другие светлые нотки в авторских описаниях, имеющих отношение к религии. Выражение чистоты и умиления, которое нисходит на лицо Аглаи, входящей в молельню, — лишь мимолетный штрих, подчеркивающий ханжество этой злой и сварливой женщины, подлинной виновницы происшедшего семейного скандала, к тому же собственноручно убившей Матвея. Белоснежен платок Аглаи — деталь, оставшаяся от времен ее сектантства, и признак ее особого религиозного рвения, — но тем мрачнее свет «благости», излучаемый ее лицом.
Темный фон всего бытописания в рассказе, в том числе и религиозного, вместе с угрюмостью пейзажа, создает впечатление той тягостной атмосферы, в которой только и мог родиться страшный грех братоубийства. Обязан этот фон еще свежим воспоминаниям о каторге, над изображением которой Чехов трудился тогда же, заново переживая все виденное на Сахалине.
Характер религиозного бытописания в рассказе «Убийство» не был исключением для этих лет. Вспомним повесть «Три года», с давящей атмосферой торжественной официальности богослужений в купеческом доме (недаром Лаптев их не любил — как еще одну форму духовного гнета). Религиозно-поэтическими интонациями в этой повести окрашен только интимный мир Юлии времен ее девичества, но и они заглушаются этой официальностью, да и сама Юлия вскоре теряет свою веру.
Насколько светлее фон (и бытовой, и религиозный, и пейзажный) в более отдаленной от «сахалинского» года повести «В овраге», хотя в ней прямо сказано об атмосфере греха в Уклееве и описано еще более страшное преступление, чем в «Убийстве».
С мрачностью жизни, описанной в рассказе «Убийство», может сравниться лишь та, которая изображена в «Палате № 6» и тоже своими корнями связана с Сахалином. «Когда я читаю, как больничный сторож Никита бьет доктора Рагина, которого он еще недавно именовал «высокоблагородием» и который для него теперь рядовой сумасшедший, я всякий раз думаю о поездке Чехова на Сахалин», — писал И.Г. Эренбург, высказавший справедливое предположение, что пережитое Чеховым на Сахалине помогло ему создать эту повесть10. Но конечно, дело не только в этом эпизоде. Сложный образ действительности — как подобия тюрьмы и психиатрической больницы — вызывает и более общие ассоциации с Сахалином. Роковое сцепление событий, при которых человек оказывается в капкане и помощи ждать ему неоткуда, — положение, в которое попал Рагин, — отражает судьбу тысяч людей, попавших в сети, расставленные административно-судебной властью — слепой, тупой, бесчеловечной силой.
Как и в «Палате № 6», в рассказе «Убийство» все сферы изображаемой жизни пропитаны Сахалином как особым строем существования — в неволе и беззаконии. Ибо «сахалинский цикл» в творчестве Чехова — не тематическое подразделение, но аспект изображения. «Кажется, все просахалинено» — не ради красного словечка сказал Чехов так о своем творчестве в последние годы жизни.
Итак, к провинциальному пласту действительности, на который опирается сюжет «Убийства», восходит несколько ситуаций: религиозный фанатизм двух братьев, контрастное противопоставление их характеров и жизненных позиций. Явной печати таганрогского происхождения, однако, на этих ситуациях нет. Лишь фамилия Богомолов вошла в рассказ нетронутой, как дань памяти уже далеким дням (тем более что московской читающей публике она ничего не говорила и, следовательно, не могла «выдать» своего происхождения).
То же, вспомним, произошло с именем героини рассказа «Ариадна», которое у читателей «Русской мысли» 1895 года не могло вызвать никаких ассоциаций с бывшей женой таганрогского учителя*, и Чехов воспользовался им, не ожидая нареканий с этой стороны (вызвав даже упрек в литературном подражательстве!).
В «Убийстве» есть еще две не названные нами подробности, перенесенные из жизни. Они относятся не к таганрогскому, а к более позднему периоду жизни Чехова, точнее, ко времени, когда замысел «Убийства» только рождался. В контексте рассказа эти детали заняли небольшое место, но то, как это произошло, характерно для чеховского способа извлекать из явлений действительности нужный ему в данном случае литературный эффект.
Младший брат Чехова, Михаил Павлович, привез писателю из Углича Ярославской губернии, куда поступил на службу, две колоритные фразы, которые тогда же и попали в записную книжку писателя:
«Сию книгу читал я, Углицкий мещанин, Иван Дмитриевич Моховой, и нахожу ее из всех читанных мною книг самою наилудшею, в чем и приношу мою признательность Михаилу Иванычу [Незнаеву] Жукову, как владельцу оной бесценной книги. Января дня 18» (Записная книжка I, стр. 45).
«Бывший городской голова: город лишился во мне тружденника: вот Покровскую улицу я покрыл гравилием; выкрасил собор и колонны расписал под малафтит» (там же, стр. 46).
В рассказе первая фраза превратилась в надпись, сделанную Матвеем Тереховым на книжке, которую дал ему почитать станционный жандарм по фамилии Жуков (этой фамилией, как видно из записной книжки, тут же была заменена подлинная фамилия подлинного обладателя угличской книги). Вторая фраза вошла в рассказ со всеми частностями (хозяин завода, на котором работал Матвей Терехов, был в прошлом городским головой), но название угличской улицы (Покровская) здесь также заменено: Ново-Московская.
«Углицкий мещанин» Иван Моховой, вместе с бывшим городским головой Углича (как и та неведомая женщина на пароходе, в присутствии Чехова сказавшая однажды фразу: «Jean, твою птичку укачало») оказали, сами не ведая того, неоценимую услугу художнику. Слова, которые в жизни прозвучали случайно и, может быть, скоро были забыты теми, кто их произнес или записал, вошли в плоть и кровь вымышленных персонажей. И, отделившись от породившей их конкретной атмосферы (в «Убийстве» — от угличских примет, в «Ариадне» — от судьбы женщины, встретившейся Чехову), получили бессмертие.
В «Убийстве» атмосфера действительных ситуаций (главной для фабулы — таганрогской, восходящей к детству писателя, и периферийной — более поздней, угличской) была если не заменена, то дополнена сахалинской, «вымышленной» для этих ситуаций. Это оказалось возможно только потому, что художник дорожил лишь самым общим — психологическим — смыслом реальных явлений, вдохновивших его. Проявилась та же закономерность, которую мы наблюдали на досахалинском изображении «преступления и наказания». Чехов и до Сахалина изображал глухую провинцию — и как изображал! Короткие острые зарисовки обывательского быта и мещанской психологии, изображение тупости провинциального общества, убивающей человека в человеке, — все это было. Чехов — юморист и сатирик вырос на изображении провинции, и как психолог рано возмужал на этой тематике (вспомним хотя бы только рассказ конца 80-х годов «Огни», в котором невеселая судьба героини так явственно связана с мрачным и косным укладом провинциального существования).
Но провинциальный дух жизни, изображенной в «Убийстве», так же как и в «Дуэли», «Палате № 6», «Моей жизни», — еще мрачнее. Бескомпромиссное сахалинское начало (ощущение «ада») вносит в эту провинцию нечто новое, невиданное доселе у Чехова. Неназванный и незримый, этот символ политического гнета проникает в несахалинскую топографию, и в изображении провинции звучит обвинение обществу, породившему эту беспросветную жизнь.
Какова, однако, судьба собственно сахалинского материала в рассказе «Убийство»? Не логично ли допустить, что автор, придавший действительным впечатлениям, не имеющим отношения к сахалинской каторге, собственно сахалинские факты использовал без особых изменений? Уж они-то наверняка должны были производить тяжелое впечатление. Но логика творческого процесса не столь прямолинейна, как бывает иногда логика наших научных изысканий. Обращаясь к сахалинским источникам рассказа, мы увидим, как не просто откладывались они в художественном сознании Чехова и как неоднородны их связи с содержанием рассказа.
Сахалинская часть фабулы «Убийства» начинается уже в шестой главе, с убийства Матвея, за которым следует судебный процесс, со всеми его этапами, тщательно и точно отмеченными (от предварительного следствия до приговора). Заканчивается эта «уголовная» тема в седьмой главе, где, как уже говорилось, действие происходит непосредственно на каторге. Ее отбывают все четверо приговоренных: Яков Иваныч, его сестра Аглая, племянница Дашутка и буфетчик Сергей Никанорыч. В центре — судьба Якова Иваныча.
Тщетно было бы искать в действительной жизни стечения обстоятельств, подобного тому, на которых построена фабула чеховского рассказа.
Фактический материал, почерпнутый из сахалинской поездки, в рассказе «Убийство» слабо связан с непосредственными событиями, описанными в нем, и, следовательно, имеет внефабульный характер. Тем не менее касается он существенных сторон содержания рассказа.
На Сахалине Чехов вел дневниковые записи, но они не сохранились, за исключением одного отрывка (см. ПССП, т. XII, стр. 331). Очевидно, все записи он использовал, работая над книгой «Остров Сахалин», поэтому и не сберег их. К этой книге мы и обратимся в поисках действительных фактов, которые стоят за вымышленными в рассказе «Убийство».
В книге «Остров Сахалин» Чехов рассказывает о том, как он вел перепись ссыльного населения, как заполнил собственноручно около 10 тысяч переписных карточек. 10 тысяч разговоров — 10 тысяч судеб... Но характерно, что в вопроснике, составленном самим Чеховым (звание, главное занятие, возраст, состояние здоровья, помощь от казны и т. д.), нет графы: «за что сослан?». Характер преступления, за которое человек уже понес наказание и продолжает его нести, Чехова не интересовал.
Когда-то один из героев молодого Чехова произнес фразу: «Спрашивать у арестанта, за что он сидит в тюрьме, а у самоубийцы, зачем он стрелялся, невеликодушно и... неделикатно» («Рассказ без конца»). Тогда это была дань нормам воспитанности — одно из установившихся представлений о том, как нужно вести себя в обществе. Теперь это обернулось требованием гуманности по отношению к тем, кто был отвергнут обществом: «...когда человек, которого еще так недавно звали отцом Иоанном и батюшкой и которому целовали руку, стоит перед вами навытяжку, в жалком поношенном пиджаке, то думаешь не о преступлении» («Остров Сахалин», глава седьмая). В этих мыслях автора книги — совпадение тех высоких целей, ради которых он ездил на Сахалин, с идейным направлением его творчества: недаром они перекликаются с словами Эренбурга о «Палате № 6».
Зато характер наказания человека, особенно тяжелого, делающего его существование невыносимым, Чехова очень интересовал. Тем более, если страдал человек, не совершавший преступления — жертва судебной ошибки. Поэтому Чехов так подробно записал рассказ крестьянина Егора, осужденного за убийство, которого он не совершал, и выделил его в особую главу книги.
Во внимании к искалеченной жизни приговоренных к каторге у Чехова были предшественники. Кроме Ф. Достоевского или Дж. Кеннана, писавших о сибирской каторге с гуманных позиций, следует вспомнить человека, имя которого никогда не называли исследователи книги «Остров Сахалин», — Федора Петровича Гааза, главного врача московских тюремных больниц с 1829 по 1853 год. Чехову несомненно было близко и доброе отношение Гааза к каторжникам, и трактовка им жестокого наказания как нового и бессмысленного преступления. Если принять во внимание, что в начале 90-х годов слух об этом «утрированном филантропе» благодаря публичным выступлениям А.Ф. Кони (в 1890 и 1892 годах) пронесся довольно широко по России и за границей, то трудно отказаться от искушения связать разговоры о докторе Гаазе с появлением вскоре в творчестве Чехова героя, тоже прославившегося своей душевной чистотой и безгранично добрым отношением к людям, и тоже доктора («Рассказ старшего садовника»)11.
Но и когда каторжный расплачивался за действительно совершенное преступление, жизнь расходилась с судебным приговором, однозначно оценивавшим всякое рассматриваемое дело: она была сложнее.
Гораздо сложнее, чем история убийства «в корыстных целях» («Все четверо были признаны виновными в убийстве с корыстною целью»), и то, что случилось в кухне Тереховых. Такое обвинение суд вынес не мудрствуя, исходя из того, что секретари записали в протоколах. Ведь жандарм, общавшийся с Матвеем, «показал прямо», что его убили Яков и Аглая, «чтобы не делиться с ним, и что у Матвея были свои деньги, и если их не оказалось при обыске, то, очевидно, ими воспользовались Яков и Аглая». И Дашутка, дочь Аглаи, выступила с своим немудреным умозаключением, «что <...> дядя был богатый, так как он даже какой-то своей душеньке подарил девятьсот рублей». Судебным чиновникам ничего не стоило проверить все эти догадки и установить, как беден был фактически Матвей, отдавший последние деньги «душеньке». Но подобно сотням случаев (вспомним Егора), суд обвинял лишь на основе выслушанных показаний, не утруждая себя лишними раздумьями.
Правда, Яков Иваныч Терехов был осужден не безвинно. Он действительно убийца, хотя и не убивал брата своими руками. Это он поднял семейную ссору, которая кончилась так страшно. Уже после того как Аглая бросила в ненавистного брата бутылку с маслом и лицо Матвея вдруг стало «спокойным, равнодушным», Яков «несколько раз (это он помнил хорошо) указал Аглае пальцем на утюг...». Лаконичное пояснение, взятое в скобки, заставляет думать, что роковой жест в сторону утюга лег тяжелым грузом на совести Якова. И это он, Яков, почувствовал облегчение, когда по его рукам полилась кровь Матвея и тот упал замертво.
Но все-таки Яков Терехов — не злодей по натуре. Его преступление, выражаясь юридически, было непреднамеренным.
Катастрофе — этого часто не замечают — предшествовало длительное вмешательство Матвея не только в религиозный быт брата, но и его душевный мир вообще. После увещеваний Матвея Яков начинал тяготиться давно заведенным и привычным распорядком торговых дел — их греховностью, противоречащей вере. Присутствие Матвея тревожило, мучило совесть, и прежней жизни уже не могло быть. Внутренняя правота Матвея, с одной стороны, и бесцеремонный тон его речей, их раздражающая назойливость — с другой, были причиной дикой злобы, вспыхнувшей у Якова к брату. (Девять раз в разных вариантах Чехов вводит в речь Матвея настойчивое требование, выводившее Якова из равновесия: «Образумьтесь, братец! Покайтесь, братец!», «Братец, опомнитесь!» и т. п.)
И не надо забывать, какую провоцирующую роль в столкновении братьев сыграли третьи лица: со стороны Якова — скупая и жадная Аглая, со стороны Матвея — жандарм Жуков и буфетчик Сергей Никанорыч, внушавшие ему, что брат присвоил себе его часть наследства.
Корыстная же цель и «тупая жадность» самого Якова еще более далеки от истинных мотивов преступления (в литературоведческих работах нет-нет и проскользнет неожиданная солидарность с этой судебной оценкой убийства12), чем желание его отстоять во что бы то ни стало свои способы выражения веры в бога. Материальный конфликт между братьями сложнее и коренится в сфере не «чистой», а социальной психологии: «Ему очень хотелось развязаться с Матвеем, но дать ему денег он не мог, так как все деньги были при деле; да и во всем роду Тереховых не было еще примера, чтобы братья делились; делиться — разориться». Точно так же рассуждает в повести «В овраге» старый кулак Цыбукин: «Пока <...> я жив, нельзя врозь, надо всем вместе».
Пробуждение зверя в Якове — процесс длительный и не однолинейный: у него не одна причина, а совокупность их — клубок несогласий, разрешившихся кровью. Разрешившихся, однако, только в споре Якова с Матвеем; несогласие Якова с самим собой возобновится в финале рассказа.
Только прожив ряд лет на каторге плечом к плечу с людьми разных наций и вероисповеданий, Яков Терехов понял до конца, что был неправ, когда хотел быть в своей вере ближе других к богу. Последние строки рассказа овеяны страстным желанием героя — «вернуться домой, рассказать там про свою новую веру и спасти от погибели хотя бы одного человека и прожить без страданий хотя бы один день». Мотивом выстраданного духовного очищения героя завершается чеховская трактовка проблемы преступления и наказания. Путь Якова Терехова от ожесточения и братоубийства — через годы сахалинской каторги — к переосмыслению всей своей жизни ставит этот «необыкновенно замечательный рассказ»13 в один ряд с другими произведениями Чехова об этических исканиях личности и о ценности человеческой жизни.
Но вернемся к фактическим истокам преступления Якова Терехова.
Изображение убийства в рассказе — не как осознанного и заранее подготовленного акта, а как стихийного взрыва, не как преступления, а скорее как несчастья, внутренне связано с воспоминаниями Чехова о сахалинских каторжниках.
«Обыкновенно присылаются за убийство в драке лет на 5—10, потом бегут, — писал Чехов в книге по поводу рецидивистов из дуйских карцеров, — их ловят, они опять бегут, и так, пока не попадут в бессрочные и неисправимые» (глава восьмая). Приблизительно так в общих чертах и сложилась судьба Якова Терехова в рассказе. Соответствие здесь не фактическое (не конкретный случай, который стал известен Чехову), а типическое: такие случаи были массовым явлением.
В семье Тереховых произошел скандал, который из-за тщедушия Матвея чуть не перешел в драку (силясь высвободиться из рук схватившего его Якова, он нечаянно порвал ему воротник), а из-за агрессивности Аглаи превратился в убийство.
Бессрочная каторга, часто присуждаемая на Сахалине за попытки бежать, о которых пишет Чехов в книге, оказалась уделом и Якова Терехова, приговоренного судом сначала на 20 лет: «...месяца через три по прибытии на каторгу, чувствуя сильную, непобедимую тоску по родине, он поддался искушению и бежал, а его скоро поймали, присудили к бессрочной каторге и дали ему сорок плетей...» В двадцать второй главе книги «Остров Сахалин» Чехов специально останавливается на частых побегах и случаях ностальгии среди заключенных, на жестокости наказания за попытки к бегству (арест, сечение плетьми, увеличение срока каторги). Считая стремление каторжника к свободе естественным, Чехов пишет в этой главе: «Если он не философ, которому везде при всех обстоятельствах живется одинаково хорошо, то не хотеть бежать он не может и не должен» (ПССП, т. X, стр. 307). Из причин, вызывавших неодолимое желание бежать, он отмечает две главные — страстную любовь к родине и «стремление к свободе, присущее человеку и составляющее, при нормальных условиях, одно из его благороднейших свойств» (ПССП, т. X, стр. 308). «Философа» из ссыльных, которому безразлично, при каких обстоятельствах он живет, Чехов изобразил в сибирском перевозчике Толковом («В ссылке»). Яков Терехов — человек иного склада, он возненавидел неволю уже по дороге на Сахалин: «Тоска по родине началась у него с тех самых пор, как его везли в Одессу и арестантский поезд остановился ночью на Прогонной, и Яков, припав к окну, старался увидеть родной двор и ничего не увидел впотьмах».
Одесса была последним городом, связывавшим арестантов с вольной родиной. Вот почему Чехов, выслушав рассказ сахалинского каторжника Егора, спросил его: «Скажи, Егор, о чем ты думал, когда тебя в Одессе на пароход вели?» Егор, покорно встретивший несправедливый приговор, не обнаруживал как будто особой тоски по родине и родной семье, но любовь к ней выразил ясно в ответе Чехову: он сказал, что в Одессе молил бога за детей и что не взял семью с собой на Сахалин, потому что ей «и дома хорошо» (там же, стр. 70).
Работая над рассказом, Чехов опирался, как видим, на «среднюю» судьбу сахалинца: каторжника, но не преступника по своей натуре. Настоящих убийц, с человеконенавистнической психологией, Чехов, конечно, видел. Он с отвращением, например, писал в книге «Остров Сахалин» о двух палачах в Александровском округе: «Говорят, что если двух ядовитых пауков посадить в одну банку, то они заедят друг друга до смерти» (ПССП, т. X, стр. 82). Но лаконизм этой оценки, как и «недетективный» характер описания встреч с «знаменитыми» убийцами и авантюристами14, не обнаруживает пристрастия Чехова к уголовным сюжетам. Только в шутку он мог говорить П.Д. Боборыкину, что его интересовали на Сахалине больше всего «экземпляры уголовных преступников, махровые продукты нравственного извращения...»15. И то, как обернулась в рассказе «Убийство» одна из подобных встреч, в высшей степени показательно для творческого процесса Чехова.
В главе восьмой книги Чехов рассказывает о своем посещении дуйских карцеров, в которых содержались тяжкие преступники. Заметив, что почти у всех обитателей карцеров преступления «ужасно неинтересны, ординарны, по крайней мере, со стороны внешней занимательности», Чехов обратил особое внимание на каторжного по фамилии Терехов, который отличался от других. Кроме фамилии, у этого Терехова с чеховским Яковом Иванычем есть и еще сходство — в возрасте (настоящему Терехову было 60—65 лет, Якову Иванычу — приблизительно 55 лет), отчасти и во внешности (у обоих седина, у Якова Иваныча — «суровое, даже злое выражение» лица, у сахалинского Терехова — внешность «настоящего злодея»). Но больше ничего общего у Якова Иваныча с этим кровожадным каторжником, зверски убивавшим арестантов, «какие побогаче», и разрезавшим их трупы на части, нет16.
Не исключительное явление, каким был действительный Терехов, а более распространенный и типичный случай оказался в центре рассказа. Личность, изображенная в художественном произведении, совершенно свободна от печати сознательного злодейства, которое было в натуре его действительного однофамильца, внушавшего ужас окружающим. Словно Яков Иваныч был реальным лицом, а сахалинский преступник — порождением фантазии романтического писателя с дурным вкусом или, в лучшем случае, героем «разбойничьего» фольклора.
Любопытно, что как раз на каторге от героя словно отступает его «злодейская» по происхождению фамилия. Арестанты дают ему прозвище Веник (за длинную бороду) — в духе тех курьезных фамилий и прозвищ, которые Чехов записал в своих карточках (Желудок, Зевака и др. — ПССП, т. X, стр. 34). Веник, Яшка — все, что остается от вольного имени Якова Иваныча Терехова, разделившего судьбу большинства «обыкновенных» преступников. Отражение сахалинских встреч с разными типами убийц (в том числе и с дуйский Тереховым) в этом рассказе характерно для чеховской художественной «обработки» жизненного материала: он останавливает свой взгляд на обыкновенных явлениях, а исключительные переводит в план обыкновенных.
Таков главный вывод из сопоставлений литературного героя с людьми, которых Чехов наблюдал на острове и о которых рассказал в научно-документальной книге.
В описательной части рассказа есть и другие соответствия наблюдениям Чехова, зафиксированным на страницах книги «Остров Сахалин». Но как различна жанровая природа этих произведений, так различны и эти соответствия. В каждом случае они характеризуют способ мышления Чехова-художника и Чехова — автора научно-документальной книги.
Книга имеет подзаголовок: «Из путевых записок». В «записках», содержанием которых было недавнее путешествие автора, четко различаются два повествовательных слоя — мемуарный, в котором речь идет только о том, чему свидетелем был сам Чехов на Сахалине, и научно-документальный, в котором собственные наблюдения повествователя-путешественника обобщаются и подтверждаются результатами научных данных о Сахалине как об острове и как о месте каторги (или подтверждают эти данные). Оба потока фактического материала — мемуарный и научно-документальный — принципиально могут иметь аналогии в художественном произведении, но для Чехова-художника больше характерны аналогии с жизненным, «мемуарным» материалом. Таковы его личные встречи с разными типами убийц в Дуйской и Воеводской тюрьмах, о которых говорилось выше.
Те описания сахалинской природы, в которых Чехов не опирается на книжные источники, имеют также мемуарное происхождение. Сравним их с пейзажем в рассказе.
Подъезжая в первый раз к Татарскому проливу, Чехов, уже наслышавшийся о его «бурях и льдах», опасных для моряков, отметил, что погода была «совсем тихой и теплой», во второй раз — тоже: «Погода и в этот раз была тихая, ясная, какая здесь бывает очень редко» (глава I).
Столь же скупо, как об известном факте, о дурной погоде в Татарском проливе сказано в рассказе: «В Татарском проливе погода может измениться в какие-нибудь полчаса, и тогда сахалинские берега становятся опасны». Написано просто, с документальной точностью, и все-таки это — текст художественного произведения, а не публицистического. Почему? Потому что принадлежность описания художественной литературе не всегда определяется собственным его значением: важна его функциональная роль в произведении. В книге «Остров Сахалин» упоминание погоды — это самоценная этнографическая деталь, в рассказе — единица художественного целого. Ненадежность погоды в VII главе «Убийства» служит оправданием того, что командир иностранного парохода поздно вечером потребовал угля: за ночь погода могла испортиться. Его нежеланием ждать утра, в свою очередь, мотивируется появление сонных арестантов на руднике. Связь идет и далее — к ночным думам одного из каторжников, главного героя рассказа, а думы эти составляют основное содержание финала всего произведения. Простое упоминание о погоде оказывается втянутым в цепь содержательных единиц, образующих художественное целое.
В книге «Остров Сахалин» есть и поэтические образы, и юмористические штрихи, даже (иногда) эмоциональные строки, — а все-таки это не художественное произведение. «Там берег совсем отвесный, с темными ущельями и с угольными пластами <...> мрачный берег» (ПССП, т. X, стр. 21) — так в I главе, когда Чехов только подплывал на пароходе к Северному Сахалину, ему говорят об одном из самых ужасных сахалинских районов — Дуэ. В VIII главе, уже по собственным впечатлениям, Чехов пишет об этом «страшном, безобразном и во всех отношениях дрянном» месте и воспроизводит мрачный колорит местности в следующих выразительных словах: «С самого основания Дуэ здешняя жизнь вылилась в форму, какую можно передать только в неумолимо-жестоких, безнадежных звуках, и свирепый холодный ветер, который в зимние ночи дует с моря в расщелину, только один поет именно то, что нужно» (там же).
Ветер — поет... Поэтично?
Но вот характеристика того же места в рассказе: «Налево был едва виден высокий крутой берег, чрезвычайно мрачный, а направо была сплошная, беспросветная тьма, в которой стонало море, издавая протяжный однообразный звук: «а...а...а...а». Кроме конкретизации ярких образов, зрительного и особенно звукового, в этом куске есть то, что только и делает его частью рассказа: связь с общим настроением рассказа и с его отдельными мотивами (с темнотой и воем ветра в начале, с душевным состоянием главного героя в конце). И, что также важно, в рассказе нет интереса к Дуэ «вообще» — например к его истории, который выражен в начале процитированной нами фразы из VIII главы книги: «С самого основания Дуэ здешняя жизнь вылилась в форму...»
Упоминания в рассказе сахалинских мест, обычаев, фактов принадлежат сфере реалий, а не вымысла. Но звучат они совсем иначе, чем в книге, — даже при близости формулировок.
О Воеводской тюрьме, где отбывал наказание Яков Терехов, в книге сказано: «В настоящее время из всех сахалинских тюрем это самая безобразная, которая уцелела от реформ вполне, так что может служить точною иллюстрацией к описаниям старых порядков и старых тюрем, возбуждавших когда-то в очевидцах омерзение и ужас» (ПССП, т. X, стр. 105). В рассказе сохранена та же общая оценка тюрьмы: «Из Воеводской тюрьмы, самой неприглядной и суровой из всех сахалинских тюрем, погнали в рудник партию арестантов», но опущена социологическая деталь — о живучести дореформенных порядков. Опущена, потому что прямо называет проявление социального зла и ставит от лица автора общую проблему о нереализованности реформ 60-х годов, а это несвойственно художественному мышлению Чехова.
Дуйский рудник, куда погнали арестантов, находился по соседству с Воеводской тюрьмой. Каторжные работы упоминаются в книге неоднократно: разгрузка и погрузка пароходов (в главах I и III), добыча каменного угля в Дуйских копях (в главе VIII) и др. Чехов сам наблюдал, как еще сонных поселенцев поднимали в 5 часов утра для работы в руднике (ПССП, т. X, стр. 104).
В рассказе — те же факты: партии арестантов «предстояло нагружать углем баржи, затем тащить их на буксире парового катера к борту парохода <...>. Каторжные, только что поднятые с постелей, сонные, шли по берегу, спотыкаясь в потемках и звеня кандалами». Здесь имеется в виду, однако, тяжесть каторжного труда не «вообще» — как дурное социальное явление, а конкретно — как картина из жизни именно той партии арестантов, среди которых находится герой.
Социальное зло, которое Чехов наблюдал на Сахалине и о котором прямо писал в книге, в рассказе чувствуется в сильной мере, но оно не является ни разу непосредственной темой повествования. Его можно уподобить «невидимому» изображению самой атмосферы, в которой развиваются события частной жизни героев. Это тот же «воздух», о котором в повести «В овраге» говорится, что в нем грех как будто стоял «туманом». К этому ряду обобщений относятся и самый образ «оврага», и образ «палаты № 6», и «тюрьмы» (социальное зло отождествляется во всех этих случаях с атмосферой, обстановкой, где проходит описываемая жизнь).
Слов о том, что сахалинским каторжникам живется тяжело, в рассказе нет. Но читателю это ясно и так. Вот перечисляются работы, которые предстояло исполнить арестантам, и Якову Терехову в том числе: нагружать углем баржи, тащить их на буксире катера к пароходу на протяжении полуверсты от берега, после чего должна была начаться перегрузка — «мучительная работа, когда баржу бьет о пароход и рабочие едва держатся на ногах от морской болезни». Как невыносима должна была быть эта работа, если Чехов позволил себе определить ее как «мучительную» — и не от имени героя, а от имени самого повествователя.
Нет в рассказе специальной характеристики условий, в которых приходится жить Якову Терехову на Сахалине. Но и несколько прозвищ вместо настоящего имени, и жестокое наказание за попытку бежать, и розги за украденное у него же казенное платье, и одиночество («не с кем было поговорить о родной стороне»), и короткий рваный полушубок, не спасавший от осенней дрожи, и туманящиеся от слез глаза, трясущиеся, как у пьяницы, руки — все эти детали, рассыпанные в разных местах седьмой главы, создают живую картину страданий одного человека. Страданий, в которых отражены бедствия тысяч людей.
Нет в рассказе ни слова и о том, что чиновники нарушают законы, установленные для сахалинского режима. Если в V главе книги «Остров Сахалин» говорится о массовом нарушении закона, запрещающего «отдачу каторжных в услужение частным лицам» (ПССП, т. X, стр. 62—64), и это подтверждается упоминанием поваров, кучеров, кухарок и нянек из каторжных, которых Чехов часто встречал на Сахалине17, то в рассказе просто сообщается: «Сергей Никанорыч служил лакеем у чиновника...» В этом случае в книге темой является закон и его нарушение, в рассказе — судьба одного из героев, на которой сказалось это нарушение. Так на одно явление действительности Чехов по-разному откликается в книге, имеющей документальный характер, и в художественном произведении.
И еще пример. На Сахалине установился неписаный обычай — распределять каторжных женщин между поселенцами и крестьянами в качестве их сожительниц. Рассказав об этом обычае в шестнадцатой главе книги, Чехов отмечает особо высокую рождаемость детей на Сахалине. А вот как эти факты освещены в рассказе — в конкретной судьбе племянницы Якова Терехова: «Дашутка была на Сахалине, но ее отдали какому-то поселенцу в сожительницы, в дальнее селение <...> один поселенец, попавший в Воеводскую тюрьму, рассказывал Якову, будто Дашутка имела уже троих детей». Последняя деталь (трое детей) позволяет, между прочим, определить количество лет, которые Яков Иваныч успел провести на каторге к финалу рассказа: не менее четырех-пяти лет.
* * *
На нашей схеме связи рассказа и книги с действительностью можно изобразить так:
|
Психологический контраст между двумя братьями; фамилия Богомоловы. Детали, относящиеся к Матвею: запись в книге, воспоминания о городском голове. (Таганрог, 70-е годы; Мелихово, начало 90-х годов; Углич, начало 90-х годов) «Типовая» судьба героя; фамилия Терехов. Сахалинская природа, положение каторжников: их труд, ностальгия, отношение к женщинам, незаконное использование рабочей силы. Атмосфера всего бытописания. (Сахалин, 1890 год) |
«Убийство» «Остров Сахалин» |
Сахалинский материал вошел в художественное произведение, слившись с таганрогским и мелиховским, и, как было сказано, потерял при этом свое непосредственное этнографическое и социальное значение — он превратился в предмет искусства. В книгу сахалинский материал пришел прямо из жизни, имея на себе печать лишь индивидуального поэтического слога автора, но не его художественного мышления.
Итак, перед нами два полюса мышления Чехова — «нехудожественного» (документального) и художественного.
В.В. Виноградов как-то заметил, что в «Дневнике писателя» Достоевского «много поэтического, но налицо существенный отход от, так сказать, художественной системы Достоевского в собственном смысле, которую он воплощает в своих романах»18. В отличие от Достоевского, Горький и иногда Толстой («Воскресение») — это писатели, не способные создавать «чистые» художественные произведения. Относительно же Чехова, считал В.В. Виноградов, «могут быть разные точки зрения — у нас нет еще пока полного и хорошего анализа произведений Чехова, относящихся к разным периодам его творчества». Нам представляется, что недостаточная изученность раннего Чехова, обилие у него рассказов, не имеющих ярко выраженной жанровой определенности, действительно являются препятствием для однозначного решения этого вопроса («документальное» начало остро ощущается в бытовых сценках, очерках, в пристрастии к «нелитературным» формам вроде «каникулярных работ», «задач», «исповедей», «дневников» и т. д.), но у зрелого Чехова художественная и «нехудожественная» системы мышления различаются четко. Чехов гордился «Островом Сахалином», этим «арестантским халатом», который он повесил в своем гардеробе рядом с художественными произведениями, и вряд ли есть необходимость «поднимать» значение этой уникальной книги выискиванием в ней элементов художественного мышления. Неоднородность чеховского мышления в художественных произведениях и в книге «Остров Сахалин» прекрасно чувствуется, если отказаться от этой ложной задачи — «улучшить» наше впечатление от книги. Сергею Залыгину удалось провести водораздел между этими двумя областями чеховского творчества. В его книге «Мой поэт» рассуждения о сдержанности Чехова-художника, обычно скрывающего свое авторское «я», сменяются мыслью о том, что в этом отношении иначе написана книга «Остров Сахалин». Залыгин различает эти чеховские «я», которые чувствуются в тексте книги: «я» статистика, публициста, врача-гигиениста, даже собственное «я» Антона Павловича, с его личными переживаниями и ощущениями.
Обратив внимание на то, что Чехов противопоставлял «Остров Сахалин» своему художественному творчеству19, С. Залыгин оказался на более верном пути, чем те из нас, литературоведов, кто пытается, опираясь на слова самого Чехова, уничтожить вообще границу между художественным и научным мышлением. Часто ссылаются на слова Чехова о том, что «в Гёте рядом с поэтом прекрасно уживался естественник» (письмо к А.С. Суворину от 15 мая 1889 года), но забывают, что этот естественник открыл у человека межчелюстную кость и написал трактат о растениях, опровергавший идеи Карла Линнея о неизменяемости видов, а «Фауста» создал поэт, бывший в курсе научных и философских взглядов своего времени. Откуда нам известно, что не это разделение имел в виду Чехов, когда говорил, что в Гёте уживаются два начала (ведь уживаться могут только разные, даже противоположные явления).
Или цитируют известные строки Чехова из черновика его письма к Д.В. Григоровичу — о том, что «чутье художника» и «мозги ученого» имеют одни цели и природу и что «со временем при совершенстве методов [они сольются] им суждено слиться вместе в гигантскую чудовищную силу, которую теперь трудно и представить себе...» (Письма, т. II, стр. 360) — и на этом основании всячески сближают научное и художественное мышление Чехова20. Но ведь из всех рассуждений Чехова на эту тему так ясно, что он исходит из реального соотношения вещей, то есть из того, что наука и искусство действуют разными методами (у художника — «чутье», у ученого — «мозги»), что весь пафос Чехова — в утверждении силы искусства, которое в познании жизни может померяться силами с наукой (чутье художника стоит иногда мозгов ученого). Именно этой мыслью Чехов закончил свои слова о слиянии в далеком будущем мозгов ученого и чутья художника: «...сегодня я охотно верю Боклю, который в рассуждениях Гамлета о прахе Александра Македонского и глине видел знакомство Шекспира с законом обмена веществ [тогда еще неизвестным], т. е. способность художников опережать людей науки...» (там же).
Чехов сам старался сообразовать свои писания, как он говорил, с данными науки; влияние естественно-научного образования на его художественное творчество было несомненно благотворным, и к этому влиянию обращается каждый, кто интересуется истоками чеховской эстетической системы. Но именно эстетической системы. Потому что это — вопрос, касающийся его художественного метода и его взглядов на искусство. От влияния научных знаний художественный метод не перестает быть художественным. И хотя «Остров Сахалин» писал автор многих художественных произведений, способ изображения жизни в этой книге, как мы видели, не перестает быть научно-документальным.
Ценный человеческий документ, труд, имеющий научно-познавательное значение и поучительный в нравственном отношении, книга «Остров Сахалин» вовсе не безразлична для биографии Чехова-художника. Она дает возможность лучше понять направление творческой мысли писателя в поисках художественных аналогий действительности. Само отличие научно-документального повествования от художественного может пролить свет на способы художественной типизации, которые предпочитает автор.
* * *
На творческой истории двух произведений Чехова-прозаика мы проследили, как отталкивалась его художественная мысль от действительности, как претворяла она реальность жизненных явлений в реальность искусства.
В рассказе «Убийство» художественные достижения Чехова носили иной характер, чем в «Ариадне», и литературоведческие проблемы при изучении процесса его создания вставали перед нами тоже иные.
Процесс художественного осмысления действительных фактов, как видно из всего сказанного, имеет многоступенчатый характер: в нем участвуют впечатления разных периодов жизни писателя, образуя нерасчлененность автобиографической «изнанки» художественных образов, ситуаций, мотивов, даже отдельных частей фабулы. Чехову было несвойственно такое открытое изображение в произведении близких ему лично фактов, как, например, это было присуще автору «Евгения Онегина». Пушкин прямо признавался, что в четвертой главе романа «изобразил свою жизнь»21 — и всем, кто окунется в воспоминания современников Пушкина и в его переписку, кто посетит Михайловское и Тригорское наших дней, станет ясной чистота и прозрачность автобиографического аспекта этой главы. (Это относится только к «Евгению Онегину», не считая, конечно, лирики, которая всегда рождается в непосредственной зависимости от реальных источников; пушкинская же проза — быть может, наименее автобиографическое явление во всей русской литературе.)
Чехов использует биографический материал в большей степени, чем прежде считалось, но делает он это так незаметно, что обнаружить реальную подкладку его сюжетов можно только путем специальных усилий — отделяя факты от художественной ткани произведения и соотнося их с обстоятельствами жизни писателя.
Пути, которыми жизненный материал входил в каждый из рассмотренных здесь сюжетов, как и сам этот материал, различны. В «Ариадне» действительные факты образовали основу центральных событий фабулы; в сюжете «Убийства» — более дробные связи с реальностью. Сюжет «Ариадны» вырос преимущественно на почве событий, близких Чехову лично, сюжет «Убийства» создавался в большой степени под впечатлением событий общезначимых, имеющих важный социальный смысл.
Тем не менее мы имели дело с двумя родственными подходами к действительному материалу — подходами одного художника. В обоих случаях в сильной мере ощущается опосредованность связи между материалом жизни и материалом художественного произведения. Не только частные, но и общезначимые факты, как это было в «Убийстве», прошли через личное восприятие автора — через опыт Сахалина и воспоминания детства.
Мы видели также, как менялся «первоисточник» в руках художника. Нагляднее всего метаморфоза жизненного факта была видна тогда, когда он осваивался двумя разными системами мышления — художественной и документальной. Смягчение виденных в жизни исключительных случаев, внимание к более рядовым фактам, с одной стороны, и отказ от непосредственного называния социальных явлений — вот главный итог в нашем изучении жизненной основы «Убийства». Однако это не приводило, как видно из повести, к ослаблению драматизма описываемых событий, а, наоборот, способствовало заострению их внутреннего смысла. И мрачность социальной среды, и тяжесть человеческих страданий лишь подчеркивались в своей типичности — как зло, которое может случиться в любое время с каждым.
В опоре писателя на «обыкновенные» явления ценители его творчества верно чувствовали соответствие эстетическим требованиям конца века. В качестве характерного отклика на это свойство чеховского таланта приведем отрывок из воспоминаний Б. Варнеке о том, как был встречен в 1899 году в литературных кругах рассказ «Новая дача». Один из участвовавших в обсуждении рассказа, К.И. Арабажин, рассказывает Б. Варнеке, пожалел, что Чехов «ослабил правдоподобие рассказа тем, что заставил владельцев дачи бежать из деревни от мужиков, во главе которых стоит благодушный дурак Родион:
— Покажи Чехов вместо него злодея-громилу, впечатление было бы куда сильнее, — уверял Арабажин**.
Ему решительно возражал П.П. Гнедич:
— Наоборот. Как раз в этом-то он и показал себя и мудрым художником, и тончайшим знатоком нашей жизни. Это ведь только византийские богомазы не скупились на черную краску для изображенья дьявола и его слуг. Наша, а может быть, и не одна наша жизнь, тем и страшна и ужасна, что самые жуткие преступления совершают не «эфиопы видом черные», а самые на вид благодушные люди, и чаще всего не со злобы, а только по темноте и глупости»22.
Эти слова могли быть сказаны и по поводу Якова Иваныча из рассказа «Убийство», по натуре не злобного человека, но безусловно темного, с косными взглядами на жизнь.
Образ социального зла в художественном произведении Чехов создавал средствами иными, чем в документальной книге. Для него как писателя это были средства более привычные, органически близкие его восприятию жизни. Не желая решать в искусстве социальных вопросов (об этом речь еще пойдет в последней главе настоящей книги), он, в сущности, решал их на языке художественной прозы с не меньшей эффективностью, чем на документальном языке своего сахалинского труда.
В работе над «Ариадной» у Чехова не было такого документального «соседа», каким была книга «Остров Сахалин» в работе над «Убийством»: женского вопроса, как и многих других проблем, имеющих общественное значение, Чехов касался только в художественных произведениях. Но мы видели, как в рассказе эта проблема, имеющая общественное значение, переводилась в иную плоскость — общечеловеческих проблем. Это переключение — «по дороге» в художественное произведение — социальных вопросов (и даже политических, как в «Палате № 6») в плоскость общечеловеческую, или психологическую, — отличительная черта творческого процесса Чехова. Она соответствует характеру его реализма, обращенного к сущности явлений через систему косвенных способов изображения.
Яркую локальную характерность реального факта Чехов заменял неяркой внешне типичностью факта художественного, прямое выражение их социального смысла — косвенным. Самое замечательное в этих заменах и отходах — то, что в созданных художественных «параллелях» к действительным явлениям важность их первоначальных смыслов не терялась. Она просто получала иное выражение. Так, «Ариадна» своим главным художественным достижением — центральным образом — вносила долю здорового скепсиса в разговоры об эмансипации, которого явно не хватало ее ярым защитникам и оппонентам, словно забывшим, что женщина в первую очередь — человек. Рассказ «Убийство» трагической судьбой главных героев напоминал о несущественности споров о религиозных обрядах и взывал к справедливости и гуманности в отношениях между людьми. Процесс преображения действительности завершался художественными итогами, синтезирующими психологическую достоверность и глубокий социальный смысл жизненных явлений.
По стимулирующему творческое настроение влиянию предметных образов мы ставили Чехова рядом с мастерами малых форм — Андерсеном, Мопассаном, О'Генри. По характеру художественного преображения жизненных впечатлений, то есть по одному из самых существенных моментов творческого процесса, Чехов был близок к великим романистам. Сложность путей, которыми развивался образ Ариадны, начиная с первого зерна, брошенного в сознание впечатлительного таганрогского гимназиста, напоминает, как уже было сказано, опыт создания образов в «Анне Карениной», «Братьях Карамазовых» и других классических романах. Вместе с тем наше обращение к автохарактеристике Гёте (в связи с его работой над драмой «Торквато Тассо») подтверждает, насколько могут быть близки пути превращения биографических фактов в факты художественного вымысла у писателей самых разных эпох и направлений. Это хорошо должен был понимать сам Чехов, писавший, что у великих художников мира всегда есть «общее, что делает их похожими друг на друга» и что является «законом» (Письма, т. III, стр. 54). Эти слова можно смело отнести и к творческому процессу разных писателей. Примеров, конечно, можно было бы привести еще немало.
Но в заключение хотелось бы не умножать количество подобных примеров, а обратиться к признанию великого европейского художника Томаса Манна, хорошо понимавшего Чехова, быть может, и потому, что он был ему в чем-то близок по способу художественного обобщения реальных впечатлений.
В 1902 году немецкие газеты сообщили об убийстве молодого музыканта светской дамой, много лет любившей его безнадежно. Узнав об этом, Т. Манн писал певице Хильде Дистель, умоляя ее сообщить ему подробности происшедшей трагедии: «Вы уже поняли, что я имею в виду, тем более что Вы знали обоих лично и принимали тогда живое участие в этом деле. На меня оно, по причинам отчасти технического, отчасти психологического свойства, произвело необычайно сильное впечатление, и вполне возможно, что я воспользуюсь им как сюжетно-фактическим костяком для одной на редкость меланхолической любовной истории. («Сюжет» ведь бесконечно безразличен, но какой-то все-таки нужен, правда?)». И далее подчеркнув важность для него деталей этой истории, Т. Манн засыпал корреспондентку множеством вопросов: «Какова была «ее», какова «его» предыстория? Какова была «ее» внешность? Кто был «ее» муж и при каких обстоятельствах она за него вышла?..» и т. д. (всего таких вопросов — 16). «Все это я мог бы, конечно, и сам прекрасно придумать, — писал он далее, словно оправдываясь, — и возможно, что, располагая действительностью, я вопреки ей придумаю это иначею Я рассчитываю только на стимулирующее действие фактов и на применимость некоторых живых деталей. Если я в самом деле сделаю что-либо из этой истории, то ее, может быть, потом и узнать нельзя будет...»23.
Как известно, более чем через сорок лет Томас Манн вернулся к этому происшествию, работая над романом «Доктор Фаустус». Не располагая фактическими сведениями о происшедшей трагедии, мы не можем определить меру отхода Томаса Манна от реальных событий, когда он вплетал в сюжет своего романа историю любви и ненависти Инесы Родде к скрипачу Рудольфу Швердтфегеру. Но и невооруженным (этими фактами) глазом видно, что в страсти замужней женщины к молодому человеку, который стал тяготиться долгим адюльтером, в безмерности ее страданий, которые она не смогла вынести, наконец, в цитировании рассказчиком знаменитого эпиграфа к «Анне Карениной» — во всем этом нельзя не почувствовать следов иного, не «жизненного» происхождения... Очевидно, Томас Манн, как он и писал Хильде Дистель, взял действительные события лишь для «сюжетно-фактического костяка» будущего произведения (то, что мы называли фабулой или фабульными событиями) и подчинил их собственным художественным задачам. В этом смысле «сюжет» (как фабула) для него мог быть действительно «безразличен».
Это не мешало Томасу Манну быть скрупулезно точным по отношению к действительности, когда дело касалось описаний места действия или бытовых деталей, которые в его цепкой памяти оставались неизменными и не поддавались вымыслу. В дни 100-летия со дня рождения Томаса Манна старый архитектор города Любека, в котором родился и жил писатель, показывал приезжим здание, за которым сохранилась слава «дома Будденброков» и говорил при этом о предельной точности автора знаменитого романа в описаниях: «Если уж он описывает здание, то никаких отклонений от истины. Даже в деталях. Если увидите не тот оттенок краски, то снимите верхний слой и обнаружите то, что упоминается в романе»24. Но это скрупулезное следование немецкого писателя правде действительности в воспроизведении подробностей, отличающее его от нашего соотечественника, не мешало ему уже в годы, близкие к эпохе «Будденброков», стремиться писать вопреки правде жизни, когда дело касалось сюжета и характеров будущего произведения, — создавать правду искусства.
И хотя у Чехова не было обыкновения просить у своих корреспондентов пересказа действительных событий для будущих своих произведений25, под признанием Томаса Манна о том, что для него «сюжет» (фабула) безразличен, он мог бы смело подписаться. «Сюжет должен быть нов, а фабула может отсутствовать», — писал он брату Александру Павловичу, различая термины сюжет и фабула, но сходясь в их понимании с Томасом Манном.
Как и Т. Манн, Чехов не придавал большого значения выдумыванию событий в произведении, но требовал новизны художественной задачи в нем, новизны сюжета. И, сказав о фабуле, что она «может отсутствовать», он мог бы добавить: «она ведь бесконечно безразлична», и если нужна, то лишь «какая-то». (К «отсутствию» фабулы у Чехова мы еще вернемся в следующей главе, пока важно отметить особый тип отношения художника к материалу действительности как источнику фабулы в узком смысле этого слова.) Располагая материалом действительности, Чехов тоже поступал вопреки ему, писал о событиях иначе, чем они происходили в жизни. Факты и для него были важны в первую очередь как стимуляторы творчества; лишь некоторые из них он без изменений вводил в свои сюжеты, верно оценив «применимость» этих «живых деталей». И наконец, когда позже (не через сорок лет, конечно: у Чехова, увы, были иные временные масштабы и жизни и творчества) произведение выходило в свет, то истинные его «первоисточники» оставались большей частью неузнанными, иногда вплоть до нашего времени...
В основе образования чеховских сюжетов из жизненного материала лежит единый тип творческого процесса, имеющего всегда прочный фундамент из действительных явлений, но с таким же постоянством стремящегося оторваться от него — к высотам, где царствуют законы уже завершенного художественного произведения.
Примечания
*. Возможно, что к этому времени она уже была известна как одесская опереточная антрепренерша под фамилией Дагмарова.
**. Поверхностность суждений этого историка литературы и критика хорошо чувствовал Чехов (см. ПССП, т. XIX, стр. 189).
1. Эта черта у Чехова часто бывает показателем эгоистической натуры (см. нашу статью «Человек в художественном мире Достоевского и Чехова» в кн.: «Достоевский и русские писатели». М., «Советский писатель», 1971, стр. 238).
2. См.: Г.П. Бердников. А.П. Чехов. Идейные и творческие искания. Л., Гослитиздат, 1971; Г.И. Принцева. Сахалинские произведения А.П. Чехова начала и середины 90-х годов (Идеи и стиль). Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук. М., 1974; Л.М. Долотова. Мотив и произведение («Рассказ старшего садовника», «Убийство»). В кн.: «В творческой лаборатории Чехова». М., «Наука», 1974.
3. Об этом верно пишет Н.М. Фортунатов в кн.: «Архитектоника чеховской новеллы». Горький, 1975, стр. 20.
4. Эта необычная для Чехова особенность композиции рассказа «Убийство» отмечена впервые А.А. Измайловым в его книгах «Литературный Олимп» (М., 1911) и «А.П. Чехов» (М., 1916).
5. «Литературное наследство», т. 68, 1960, стр. 641.
6. Начальные следы этого замысла до нас дошли лишь в заметках, сделанных в записной книжке осенью 1893 г. или несколько позднее. Подробнее см.: Сочинения, т. IX, стр. 479.
7. Ал.П. Чехов [Из детских лет А.П. Чехова]. «А.П. Чехов в воспоминаниях современников», 1960, стр. 64.
8. См.: М.П. Чехов. Вокруг Чехова. Встречи и впечатления. М., 1964, стр. 298.
9. «Шиповник», кн. 23. СПб., 1914, стр. 150 (воспоминания И.П. Чехова в записи Л.А. Сулержицкого).
10. Статья «Сахалинская страница». В сб.: «Антон Павлович Чехов». Южно-Сахалинск, 1959, стр. 171.
11. Возможная связь этого героя с реальным лицом также свидетельствует о верности Чехова своему таланту в жанре, близком к «притче» (см. стр. 57).
12. См.: А.Б. Дерман. О мастерстве Чехова. М., «Советский писатель», 1959, стр. 111.
13. И.А. Бунин. Собрание сочинений в девяти томах, т. 9. М., «Художественная литература», 1967, стр. 170.
14. См.: М.Л. Семанова. Работа над очерковой книгой. В кн.: «В творческой лаборатории Чехова». М., «Наука». 1974, стр. 127.
15. Вл. Брендер. П.Д. Боборыкин о Чехове. «Вечерние известия», 1914, № 506, 1 июля.
16. М.Л. Семанова, обследовавшая сахалинские фонды Дальневосточного архива (Томск), установила, что в начале 90-х годов на Сахалине бегло несколько Тереховых. Но конкретными сведениями мы располагаем благодаря Чехову лишь о том Терехове, который, как и Яков Иваныч, жил в районе Воеводской тюрьмы.
17. Столкнувшись с этим явлением сразу же по прибытии на Сахалин, Чехов был поначалу смущен. Об этом в книге «Остров Сахалин» есть прекрасные, с чисто чеховским юмором, строки: «Идешь мимо какой-нибудь постройки, тут каторжные с топорами, пилами и молотками. А ну, думаешь, размахнется и трахнет! Или придешь к знакомому и, не заставши дома, сядешь писать ему записку, а сзади в это время стоит и ждет его слуга каторжный с ножом, которым он только что чистил в кухне картофель. Или бывало, рано утром, часа в четыре, просыпаешься от какого-то шороха, смотришь — к постели на цыпочках, чуть дыша, крадется каторжный. Что такое? Зачем? «Сапожки почистить, ваше высокоблагородие». Скоро я пригляделся и привык» (ПССП, т. X, стр. 28).
18. В.В. Виноградов. Из истории изучения поэтики (20-е годы). «Известия отделения литературы и языка АН СССР», 1975, вып. 3, стр. 268—269.
19. Правда, при этом С. Залыгин не совсем точен, когда говорит, что от Сахалина в художественном творчестве Чехова остались только «Гусев» и упоминание острова в «Убийстве». Как показывает творческая история «Убийства», в этом рассказе сахалинские места не только упомянуты.
20. Например: Б.С. Мейлах. Талант писателя и процессы творчества, стр. 330—332.
21. Письмо к П.А. Вяземскому, 27 мая 1826 г.
22. Б. Варнеке. Воспоминания о П.А. Стрепетовой. В кн.: «П.А. Стрепетова. Воспоминания и письма». М.—Л., Academia, 1934, стр. 465.
23. Томас Манн. Письма. М., «Наука», 1975, стр. 8.
24. См.: В. Михайлов. У дома Будденброков. «Правда», 1975, № 158, 7 июня.
25. Прямых просьб дать сведения, нужные для его литературной работы, всего несколько, да и те связаны либо с литературными или фольклорными источниками (просьбы прислать текст стихотворения Пушкина «Воспоминание» и записать легенду о горах Машук и Бештау — обе в связи с замыслом «Дуэли») либо с желанием уточнить мелкие житейские детали, мало ему известные: просьба к Н.А. Лейкину в рукописи рассказа «Ворона» поставить названия петербургских увеселительных мест, к И.Л. Щеглову (Леонтьеву), бывшему прежде военным, — прочитать описание артиллерийской бригады в написанном уже рассказе «Поцелуй», к В.Л. Книпперу, брату Ольги Леонардовны, — записать нужные для роли Гаева «бильярдные словечки».
| Предыдущая страница | К оглавлению | Следующая страница |