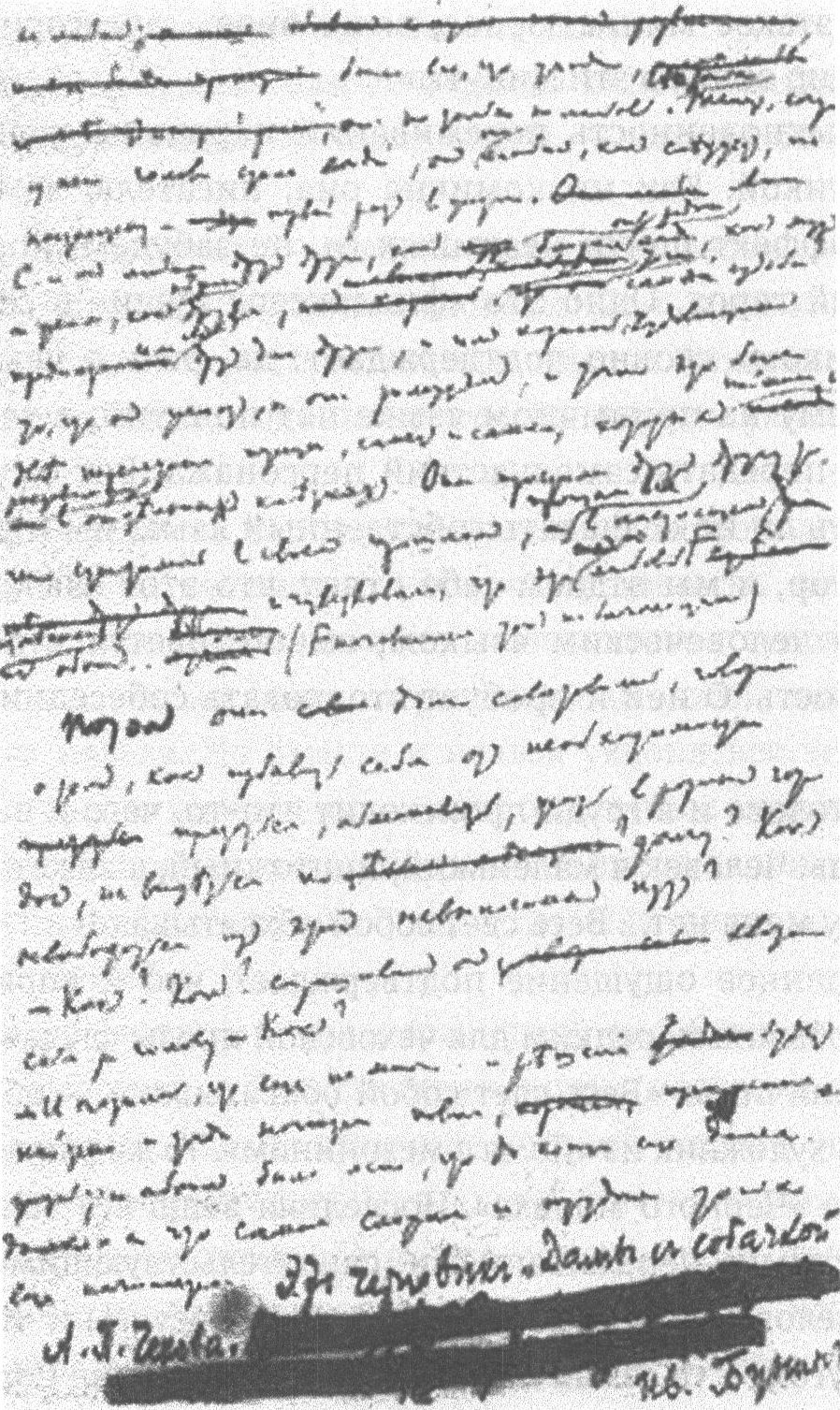Однотипность настроений, остающихся у самых разных действующих лиц под влиянием красоты, дает повод спросить: что же такое вообще человек у Чехова?
Повторю восклицание Лопахина:
«Господи, ты дал нам громадные леса, необъятные поля, глубочайшие горизонты, и живя тут, мы сами должны бы по-настоящему быть великанами...»
«Великан» близко первоначальному ощущению, охватившему штабс-капитана Рябовича после нечаянного поцелуя впотьмах:
«...Весь он от головы до пят был полон нового, странного чувства, которое все росло и росло... (...) Он совсем забыл, что он сутуловат и бесцветен...» («Поцелуй»).
Если продолжить чеховский образ, выйдет, что герой почти в буквальном смысле изменился: исчезла сутулость, выпрямился стан, плечи развернулись, и грудь стала вмещать чувства, для которых прежде была тесна; персонаж словно физически вырос, подтянулся к «великанам» Лопахина.
Однако вспомним окончание рассказа — какие уж тут великаны. Прибавив то, что известно обо всех историях с красивыми женщинами, и вовсе должны отчаяться: до великанов ли, когда обычная человеческая жизнь еще в диковинку, и до нее далеко, как до неба.
Подобное представление господствует в художественной антропологии Чехова и объясняет многие чеховские метафоры.
«Я каждый день видел, как эта дама, очень полная, пухлая, важная, похожая на откормленную гусыню, гуляла в саду (...) Она часто рыдала мужским голосом» («Дом с мезонином»).
У женщины не только нет женских черт («мужской голос»), но и человеческие не отчетливы (похожа на гусыню), и это не самое «бесчеловеческое» сравнение:
«...Его бритый, круглый, резко очерченный подбородок походил на пятку. Самое характерное в его лице было отсутствие усов» («Анна на шее»).
«Он привел ее... к пожилой даме, у которой нижняя часть лица была несоразмерно велика, так что казалось, будто она во рту держала большой камень» (Там же).
«Она была молода, еще девочка, с едва заметной грудью, но венчать было уже можно, так как года вышли. В самом деле она была красива, и одно только могло в ней не нравиться — это ее большие, мужские руки, которые теперь праздно висели, как две большие клешни» («В овраге»).
Подбородок похож на пятку, во рту камень — черты лица сравниваются не только с малопривлекательными или малозначащими объектами, но с теми, которые несут явные признаки во всех смыслах низшей материальности. Руки молодой красивой девушки напоминают клешни. К тому же облик одного из действующих лиц определен не какими-то особыми чертами, придающими своеобразие, а с помощью того, чего нет, — по отсутствию усов. Внешность запоминается не тем, что она есть, а тем, чего в ней нет, что она не есть, не по чему-то, а по ничему. Внешность в персонаже есть то, что есть ничто, — прием, генетически восходящий к поэтике Гоголя. Описывая в «Мертвых душах» прокурора, автор подчеркнул в его лице густые брови; потом Чичиков признал их единственной памятной чертой прокурорской внешности.
Чехов идет дальше (а точнее сказать, дальше идут процессы, замеченные некогда Гоголем и отразившиеся в его стилистике) и определяет лицо героя по отсутствующему признаку — прогрессирующая, сравнительно с Гоголем, деградация человеческих черт.
Совсем в гоголевском духе Чехов пользуется метафорой:
«Петр Петрович Стрижин, племянник полковницы Ивановой, тот самый, у которого в прошлом году украли калоши...» («Неосторожность»).
Но и тут, сравнивая со строками Гоголя, без труда наблюдаем ослабление антропологических черт в узком значении понятия:
«Вы знаете Агафью Федосеевну? та самая, что откусила ухо у заседателя» («Повесть о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем»).
Рассказ «В овраге» начинается:
«Село Уклеево лежало в овраге, так что с шоссе и со станции железной дороги видны были только колокольня и трубы ситценабивных фабрик. Когда прохожие спрашивали, какое это село, то им говорили:
— Это то самое, где дьячок на похоронах всю икру съел.
Как-то на поминках у фабриканта Костюкова старик-дьячок увидел среди закусок зернистую икру и стал есть ее с жадностью; его толкали, дергали за рукав, но он словно окоченел от наслаждения: ничего не чувствовал и только ел. Съел всю икру, а в банке было фунта четыре. И прошло уж много времени с тех пор, дьячок давно умер, а про икру всё помнили».
В «Записных книжках» попадается наблюдение, целиком не вошедшее в окончательный текст рассказа:
«X., бывший подрядчик, на всё смотрит с точки зрения ремонта и жену себе ищет здоровую, чтобы не потребовалось ремонта; N. прельщает его тем, что при всей своей громаде идет тихо, плавно, не громыхает; всё, значит, в ней на месте, весь механизм в исправности, всё привинчено».
Что бы ни говорить по поводу гоголевской метафоры, она, как-никак, антропологична. Метафора Чехова «эйдологична»: человек определяется не по человеческим свойствам, частям, а, во-первых, по некоему внешнему предметному миру, причем и в этом мире он характеризуется по совершенно ничего не значащим деталям; во-вторых, даже эти детали упомянуты как отсутствующие, так что не только человека нет, но и от его пребывания в мире сохраняются уже не предметы, но лишь названия.
На таком фоне использование Чеховым гоголевского приема — перечисление живых и неодушевленных объектов как одинаковых, однородных — в контексте поэтики Чехова производит впечатление не остановившегося на неопределенный срок развития, но быстро движущегося регресса всего, относящегося к человеку.
«Все окна обывательские настежь. Сквозь них виднеются самовары, чайники с отбитыми носиками и обывательские физии с красными носами» («Ярмарка»).
Заметим, с чего начал автор: сначала описаны предметы, а потом, словно предметное перечисление продолжается, детали человеческого лица; при этом красный нос и чайник с отбитым носиком упомянуты вместе с явным образным умыслом.
В другом рассказе, хотя прием тот же самый, картина еще более мрачная:
«Большой стол; на нем блюдечко с ореховой скорлупой, ножницы, баночка с зеленой мазью, картузы, пустые штофы. За столом восседают: сам Кузьма Егоров, староста, фельдшер Иванов, дьячок Феофон Манафуилов...» («Суд»).
В первом случае названы детали, совпадающие у человеческого и предметного миров. На сей раз человек целиком, и физически и по характеру своей деятельности (староста, фельдшер), появляется наряду с незначительнейшими предметами и потому воспринимается как столь же незначительная деталь окружающего. Мудрено ли после этого встретить у одного из героев такое признание:
«...До правды еще далеко. И человек по-прежнему остается самым хищным и самым нечистоплотным животным, и все клонится к тому, чтобы человечество в своем большинстве выродилось и утеряло навсегда всякую жизнеспособность» («Дом с мезонином»).
Эта потеря жизнеспособности и выражена «предметной» метафорой.
Названную «предметность» бытия людей писатель воочию наблюдал на Сахалине. Следя в Александровске за работой литейной мастерской, Чехов отмечает:
«Здесь слишком заметно увлечение вещью; гремят колеса и молот и свистят локомобили только во имя качества вещи и сбыта ее; коммерческие и художественные соображения не имеют здесь никакого отношения к наказанию, а между тем на Сахалине, как и везде на каторге, всякое предприятие должно иметь своею ближайшею и отдаленною целью только одно — исправление преступника, и здешние мастерские должны стремиться к тому, чтобы сбывать на материк прежде всего не печные дверцы и не краны, а полезных людей и хорошо подготовленных мастеров» («Остров Сахалин»).
Автор пишет, что на каторге озабочены не человеком, а дверцами и кранами, но таково положение, следует из его художественных произведений, по всей России: она в этом отношении вся — «каторга». Никому не приходит в голову, что человек не просто главный, а единственный «объект» внимания. Однако взаимоотношения людей с людьми и государством таковы, что человек всегда оказывается каким-то не очень дорогостоящим средством для самых разных целей, которые по существу своему все ничто рядом с бесценной сутью человека. Эта-то суть не рассматривается никем, не берется в счет, а если и учитывается, то в самую последнюю очередь, наряду (да и то в конце ряда) с предметами и продуктами. Как раз сахалинский опыт писателя служит самым полным комментарием суждения: в России человеческая жизнь еще и не начиналась.
Когда «Остров Сахалин» вышел из печати, один из критиков писал:
«...Как ни странно на первый взгляд, Сахалин играл для творчества Чехова роль своего рода Италии, где он стремился довершить свое понимание русской жизни. ...Это объясняется тем, что русское общество пробуждало в нашем авторе творческие настроения именно своими болезненными, извращенными сторонами, своим безобразием (...) Не удивительно, что Чехова тянуло туда, где он предчувствовал наглядное и яркое воплощение русской грусти во всей ее полноте»1.
И еще:
«Мучение лежит не в людях и не в их доброй или злой воле, а в стремлении данного общественного порядка выливаться, помимо воли людей или даже прямо против их воли, в такую... форму, откуда заранее исключена всякая мысль о возможности свободы действий для человека»2.
Иными словами, Сахалин в творчестве писателя стал образом того, что такое русская жизнь. Образ этот тем содержательнее, что написан с натуры в гораздо большей степени, нежели беллетристические произведения автора.
Итак, люди должны быть великанами, а на деле теряют последние человеческие черты. В «Доме с мезонином» один из персонажей произносит слова, почти повторенные Лопахиным и Петей Трофимовым — такая повторность получает значение устойчивого образа: если тоскуют по одному и тому же разные герои, выходит, это одно всегда одно, а потому бессмысленно надеяться либо избежать этого (если оно дурно), либо со временем достичь (если это благо). Повторяемые слова таковы:
«Мы высшие существа, и если бы в самом деле мы сознали всю силу человеческого гения и жили бы только для высших целей, то в конце концов мы стали бы как боги. Но этого никогда не будет, человечество выродится, и от гения не останется и следа».
Цитированную фразу можно отнести на счет личной веры действующих лиц, и, скорее всего, так оно и есть, однако и в этом случае ее содержание может рассматриваться в качестве элемента художественной идеологии Чехова, причем, как не редко бывает с художественными образами, автор невольно прогнозировал. В 1930 г. советский литературный критик И. Гроссман-Рощин говорил: «Моцарт исторический уже мертвец. История уже вынесла смертный приговор... Поэтому здесь гений и убийство — вещи совместимые ибо убить Моцарта — значит только помочь истории»3.
«Помощники» истории своего добились. Тем более следует внимательно отнестись к словам чеховского героя из небольшого рассказа. «Счастливчик», написанном в манере благодушно-сочувственной насмешки над героем. Не исключено, этим объясняется, почему читатель может не заметить его глубоких, прямо-таки архетипических ощущений, например: «Человек я маленький, ничтожный, а кажется мне, что и границ у меня нет... Весь свет собой обхватываю!»
Герой испытывает переживания, которые, можно допустить, свойственны «богочеловеку» («мы стали бы как боги»), антропологически высшему существу, о котором с таким воодушевлением толкует художник из «Дома с мезонином».
Коль скоро появился «богочеловек», нужно упомянуть «Чтения о богочеловечестве» В.С. Соловьева, проходившие в Москве с 1878 по 1881 гг. Небезынтересную хронологическую близость «Чтений» и рассказов Чехова (первый вышел в 1880 г.), как и вообще жизней писателя и философа, оставляю в стороне и задержусь на вероятных смысловых совпадениях.
«Богочеловек, т. е. Бог, воспринявший человеческую натуру», — писал (говорил) В.С. Соловьев4. В этом причина антиномичной двойственности человека: божествен (человек) и человечен (природен). Божественное в нем норма, и в этом смысле человечность есть норма (должны бы по-настоящему, т. е. по заложенной норме, быть великанами-божествами).
Выражением человеческой натуры является душа, которая, в силу божественности человека, больше своего данного состояния и есть мировая душа. Но мир двояк, природен и божествен, и человек одновременно божествен и ничтожен.
Божественное в людях — норма, здоровье; ничтожное, непросветленное, природно-материальное — болезнь, ненормальность. Следовательно, задача человека выздороветь, чтобы стать человеком. Чехов изображает хронически больных: такая среда делает актуально-понятной мысль Соловьева о божественности в качестве нормы. На фоне общей ненормальности и должно воспринимать настроения рассказа «Счастливчик».
Иван Алексеевич, чистосердечно посмеиваясь над собой, сообщает, что он, не молодой человек, женился:
«Да-с... Для полной иллюзии даже духами попрыскался. По уши ушел в суету! Ни забот, ни мыслей, а одно только ощущение чего-то этакого... черт его знает, как его и назвать... благодушия, что ли? Отродясь еще так себя великолепно не чувствовал!».
Подчеркнул последние слова, чтобы читатель отнесся внимательнее: редкое переживание для героев Чехова. В подавляющем большинстве они чувствуют себя худо, им часто неможется, и столь же часто они не знают причин этого, а когда знают, бессильны что-либо исправить. Им и так плохо, и этак — неистощимо разнообразен автор, запечатлевая всевозможные грани, степени, переходные состояния одного и того же дурного жизнеощущения персонажей. Все не впрок чеховским героям, они словно с умыслом не замечают реально существующих и вполне доступных радостей жизни или, замечая, умудряются превратить их в новый источник неудовольствия, как будто в нем находя последнее, извращенное оправдание своему бытию. Порой возникает мысль, что эти персонажи привыкли, притерпелись и могут жить, только ощущая себя несчастными, жалуясь, возбуждая сочувствие, от которого им не легче.
И среди таких-то фигур вдруг появляется один, кто и чувствует себя великолепно, и рад этому, вдобавок ему хочется и хочется радости, и он ее получает, а несчастья, неудовольствия считает ненормальными и недостойными человека — почти богочеловек из «Чтений» Соловьева.
Впрочем, герой не делает тайны из причин своего «богочеловеческого» состояния — влюбленность в молодую жену. Однако вспомним, скольких мужей молодых женщин описал Чехов — что, были они счастливы, великолепно себя чувствовали, их распирала радость? Назову несколько вещей: «Анну на шее», «Три года», «Учителя словесности», «Даму с собачкой». Так ли счастливы мужья молодых и, сплошь и рядом у писателя, красивых женщин? Посему описанное в «Счастливчике» состояние души редко для прозы Чехова, но тем примечательнее.
«Возмутительно счастлив! — говорит он. Да вы сами посудите. Пойду я сейчас в свой вагон, на диванчике, около окошка сидит существо, которое, так сказать, всем своим существом предано вам. Этакая блондиночка с носиком... с пальчиками... Душечка моя! Ангел ты мой! Пупырчик ты этакий! Филоксера души моей! А ножка! Господи! Ножка ведь не то что вот наши ножищи, а что-то этакое миниатюрное, волшебное... аллегорическое (...) Весь бы мир обнял в эти минуты».
Необыкновенность переживаний переданы необыкновенною лексикой. Как ни комична она, писателю замечательно удается эффект почти неземных (и, не забудем, нормальных) ощущений героя. Одно это «филлоксера души» в сочетании с «пупырчиком» словно подтверждает: да, речь о чем-то небывалом, чему на привычном языке нет понятий, а те, что есть, не могут передать самочувствий персонажа. Вот ему и приходится чуть ли не создавать собственный язык, им и воспользовался автор, и мы отдаем себе отчет, что этот язык, оставаясь обычным человеческим языком, вместе рвется куда-то в запредельность. О ней и пробует втолковать собеседникам герой рассказа:
«...В голове и в груди происходит что-то, чего и в сказках не вычитаешь. Человек я маленький, ничтожный, а кажется мне, что и границ у меня нет... Весь свет собой обхватываю!»
Переданное ощущение подтверждает, что и впрямь имеем дело с необычным, редким для чеховской прозы случаем. Редким, но не единичным. «Весь свет собой обхватываю» — об этом ведь говорил и художник из «Дома с мезонином». То же разумел Андрей Коврин из «Черного монаха». Последняя вещь вся занята «богочеловеческими» переживаниями, свидетельствующими, что нынешний человек исчерпал свои душевные ресурсы и что поэтому нужен другой — та самая идея, которую обдумывал Соловьев, называл этого другого «вторым Адамом»:
«Как под первым Адамом, натуральным, разумеется не отдельное только лицо... а всеединая личность, заключающая в себе все природное человечество, так и второй Адам не есть только это индивидуальное существо, а вместе с тем и универсальное, обнимающее собой («весь свет собой обхватываю». — В.М.) все возрожденное, духовное человечество»5.
В упомянутом рассказе Чехова есть эпизод:
«В наше время даже как-то странно видеть счастливого человека, — говорит один из пассажиров. — Скорее белого слона увидишь.
— Да, а кто виноват? — говорит Иван Алексеевич... — Если вы не бываете счастливы, то сами виноваты! Да-с, а вы как думали? Человек есть сам творец собственного счастья. Захотите, и вы будете счастливы, но вы ведь не хотите. Вы упрямо уклоняетесь от счастья».
Выражена одна из черт художественной антропологии Чехова: обстоятельства несчастны, условия хронически неблагоприятны, жить в них нельзя, вообще человеческое существование окружено сплошными «не», отрицающими даже возможность блага, — все нельзя. Но вместе и нельзя уклоняться человеку от исполнения своего назначения — сопротивляться нечеловеческой среде. Только сопротивляясь ей, он становится человеком — вот художественная философия, художественная антропология цитированных вещей.
Однако громадное число персонажей не обладает подобной сопротивляемостью, и божественную норму человека мы постигаем в его ничтожестве, по величине которой судим о степени его падения с высоты божественного. Очень быстро герои принимают правила окружающих обстоятельств, приводят свои души в соответствие с ними — непоправимо губительный шаг туда, откуда не возвращаются, после этого нельзя стать человеком. Можно стать, еще не сделавшись человеком, как мы все от рождения, нельзя вернуться в человеческий мир из нечеловеческого, каков мир героев Чехова.
В коротком рассказе «Муж» дана типология подобных переживаний. Кавалерийский полк остановился в уездном городе. Всеобщее возбуждение, подъем, радостное смятение среди женщин. Разумеется, бал. Местный чиновник, раздраженный нарушением долгопривычного порядка жизни, с неудовольствием смотрит на свою танцующую жену:
«Глядеть противно! — бормотал он. — Скоро уже сорок лет, ни кожи, ни рожи, а тоже, поди ты, напудрилась, завилась, корсет надела! Кокетничает, жеманничает и воображает, что это у нее хорошо выходит... Ах, скажите, как вы прекрасны!».
Чиновник глубокомысленно проговаривается и, не подозревая угаданной им истины, называет то, что происходит в душе его жены, в душах женщин города и всего мира. Они хотят быть прекрасны — единственное женское средство вырваться из мира, непригодного для людей. «Анна Павловна, бледная, трепещущая, согнув томно стан и закатывая глаза, старалась сделать вид, что она едва касается земли, и, по-видимому, ей самой казалось, что она не на земле, не в уездном клубе, а где-то далеко-далеко — на облаках! Не одно только лицо, но уже все тело выражало блаженство...».
«Казалось, что она не на земле» — это и есть чувство, которым человек сопротивляется ужасам жизни, обступившим его. Они тем ужаснее, что существуют в самом что ни на есть затрапезном облике привычной каждодневности. Чехов был мастер воссоздавать удушающую людей обыденность, которая, попав на страницы его книг, только оттуда по-настоящему ужасала нас, не столь внимательных к ней в нашем текущем существовании.
Страшная обыденность с такой глубиной взята Чеховым-художником, что приобретает характер какого-то мифологического образа. Бытовая детализация этого мифа уходит столь глубоко, что, кажется, будто наша собственная, современная жизнь есть попросту осуществление той программы, какую набросал Чехов, воссоздав наиобыденнейший мир с таким запасом, что человечеству расти и расти, жить и жить, а его текущий обиход все будет соответствовать чеховским картинам.
От этой «мифологической» предназначенности, от неумолимой и неведомой судьбы, напророченной мифом, и бежит супруга акцизного чиновника, спасаясь танцем с безымянным кавалерийским офицером. Ей нужно было почувствовать себя живущей, и только.
«Акцизному стало невыносимо, ему захотелось насмеяться над этим блаженством, дать почувствовать Анне Павловне, что она забылась, что жизнь вовсе не так прекрасна, как ей теперь кажется в упоении...
— Погоди, я покажу тебе, как блаженно улыбаться! — бормотал он. — Ты не институтка, не девочка. Старая рожа должна понимать, что она рожа!».
Вот чего хочет чиновник: показать, что жизнь дурна. Что же за страшный обычай, что за чудовищное поведение — у писателя тьма тьмущая похожих персонажей. Стоит перечитать «Мою жизнь», чтобы видеть: подобное поведение — правило, люди одержимы неосознаваемой (тем и ужаснее) страстью испакостить жизнь — им привычнее, удобнее, милее жить в такой безжизненной среде. Если вдруг в ней появляется живой человек, да что человек — искра живого, они, исполненные садического наслаждения, душат ее.
Чеховский персонаж всего-то и хочет, чтобы его жена не выходила на свет жизни из тьмы обыденности. Нарушение правил этого общего существования неоспоримо обнаруживает фатальную никчемность каждодневного, и герой, не имея душевных сил выйти из тьмы никчемного, хочет, чтобы весь мир остался там.
Это особый антропологический тип, и Чехов — русский писатель, как никто, воспроизвел его особенности в мельчайших изгибах, в тонкостях нечеловеческой психологии, имеющей универсальный характер.
Он был непревзойденным в отечественной литературе мастером изображать подобную психологию — примерами кишела и продолжает кишеть наша жизнь. В рассказе «Горе» ничего не происходит: пожилой токарь Григорий везет в больницу жену, и та дорогой умирает. Но какой глубины разочарование жизнью описано автором, какие страшные, зияющие бездны открывает внезапно в себе персонаж. Который уже раз национальная проза воссоздает ситуацию, когда смысл, содержание прожитого открывается герою смертью, и читатель, потрясенный, спрашивает у себя: «Да что это за существование, если в его бессмысленности убеждает лишь смерть, иначе стали бы люди терпеть? Что это за жизнь, о которой догадываешься на краю могилы, в могиле?».
«Жил доселе безмятежно, ровно в пьяном полузабытьи, не зная ни горя, ни радостей, и вдруг чувствует теперь в душе ужасную боль. Беспечный лежебока и пьянчужка очутился ни с того ни с сего в положении человека занятого, озабоченного, спешащего и даже борющегося с природой».
Из вечного полузабытья герой выведен несчастьем — вот закон жизни: или не живешь, или несчастен, и в несчастье осознаешь себя живущим. «Счастливая жизнь» — это ошибочная логика, contradictio in adjecto российского бытия. «Не успел он пожить со старухой, высказать ей, пожалеть ее, как она уже умерла. Жил он с нею сорок лет, но ведь эти сорок лет прошли, словно в тумане. За пьянством, драками и нуждою не чувствовалась жизнь» (...)
«Жить бы сызнова...» — думает токарь». А мог бы сказать словами старого Фирса из «Вишневого сада»: «Жизнь-то прошла, словно и не жил».
Невыносимой тяжести заключение, и тяжесть усиливается (впрочем, какое усиление и без того непереносимого бремени возможно?) тем, что читатель сознает: вновь начатая жизнь неизбежно покатится по старой колее и приедет к тому же итогу, к знакомому многим и многим неисполнимому пожеланию: «Жить бы сызнова». В жизни жизнь не чувствуется, но понимаешь это, когда жизнь кончилась и ничего нельзя поправить.
«Вспоминает он, что Матрена лет сорок тому назад была молодой, красивой (возвращаю читателя к теме красавиц у Чехова. — В.М.), веселой, из богатого двора... Все данные были для хорошего житья, но беда в том, что он как напился после свадьбы, завалился на печку, так словно и до сих пор и не просыпался. Свадьбу он помнит, а что было после свадьбы — хоть убей... Так и пропали сорок лет».
Таков, оказывается, смысл бытия человека: он рождается для пропащей жизни, брошен в нее, чтобы убедиться, что это нестоящее занятие, пустая трата времени, которое, впрочем, ни на что не годно, и потому какая разница, на что оно уходит.
Все же что-то в человеке противится подобному взгляду, хотя и сопротивление этой бессмыслице тоже носит бессмысленный характер действий, которые ничего не могут изменить.
Сей страшный, вековечно-неизбежный опыт — понимаешь, что не жил, когда пришла смерть, и только в сознании не-жизни тебе вдруг брезжит, какою могла бы твоя жизнь быть, — этот опыт составляет одну из доминант художественной мысли Чехова. Иной формой этой доминанты является тема смерти. Задавшись целью пересчитать, сколько его рассказов оканчиваются смертельным исходом, обнаружим, что их не мало, при самом поверхностном счете несколько десятков, не включая в их число вещей, где говорится об умерших.
Попробуй после этого я сказать, что Чехов — писатель смерти, это вряд ли вызовет резкое несогласие, тем более, такое утверждение держится отнюдь не на количественных показателях.
В коротком рассказе «Зеркало» молодая и, как обычно у писателя, хорошенькая дочь помещика-генерала мечтает перед зеркалом о своей будущности, разумеется, о суженом. Финал этой мечты не свадьба, не семейные радости: заграничное путешествие, свой дом, дети и пр. «Нелли видит, как умирает ее муж. Это страшное несчастье представляется ей во всех подробностях. Она видит гроб, свечи, дьячка и даже следы, которые оставил в передней гробовщик.
К чему это? Для чего это? — спрашивает она, тупо глядя в лицо мертвого мужа.
И вся предыдущая жизнь с мужем кажется ей только глупым, ненужным предисловием к этой смерти».
Другой персонаж, иной социальный слой, все возможности устроить жизнь по своему желанию, да и жизнь героини еще не началась, а та же мысль, то же ощущение, что у шестидесятилетнего Григория. В конце жизни, в начале — все одно. Не потому ли, что автор ведет речь не о неких индивидуальных переживаниях, а о правиле, о законе, которого никому не миновать?
При подготовке текста ко второму изданию для сборника «Пестрые рассказы» Чехов вычеркнул около двадцати строк и среди них следующие:
«Для личного счастья недостаточно согласного дуэта. Тут нужно согласное трио, где третьим лицом была бы сама жизнь. Его жизнь никогда не вступит в союз. Она всегда идет особняком».
Жизнь особняком, отдельно, как бы помимо людей — один из отчетливых смыслов художественной логики Чехова. В чем тут дело, почему люди и жизнь никак не могут совпасть, какая загадка спрятана в невозможности гармонизировать человека и бытие, в которое он брошен?
Как бы ни было, ответ, согласно авторской художественной мысли, следует искать не в переустройстве жизни, но, скорее всего, в изменении самого человеческого типа. Н.А. Бердяев близко Чехову определил бытийную задачу человека:
«Философы постоянно возвращались к тому сознанию, что разгадать тайну о человеке и значит разгадать тайну бытия». «В человеке открывается абсолютное бытие, вне человека — лишь относительное»6.
Когда герои писателя, подойдя к смерти, догадываются, что не жили, они запоздало открывают, возможно, спасительное сознание абсолютности человека и относительности жизни. Они потому и не жили, что свое абсолютное измеряли относительной мерой, не важно, что мера их была неосознанной.
При таком отношении никакой физической жизни не хватит, и естественно ощущение: прожить бы снова. Но не хватит второй, и третьей, и сотой жизни, ибо, по художественной мысли автора, само основание ложно. Бытие человека измеряется не человеком, а жизнью, как, например, у героини «Зеркала», а тут люди всегда проигрывают: их век короток, жизнь же бесконечна, и при сопоставлении этих двух мер всегда выходит, что не жил. Нужна иная мера, и философ назвал ее, подытожив опыт бытия, задолго до него выраженный художественной мыслью.
Не следует заключать, будто таково мышление и поведение только русского. Это, согласно чеховскому творчеству, одна из антропологических черт, в России всего-навсего острее, болезненнее, нагляднее, хотя нельзя исключить, что именно в России черта, свойственная биотипу, является преобладающей. Этим обстоятельством разъясняется, отчего в творчестве Чехова прочтен вывод о необходимости другого человека: этот, нынешний, обречен.
Возвращаюсь к рассказу «Муж». Акцизный чиновник подходит к жене и требует, чтобы она шла домой, иначе он устроит скандал. Ладно бы это была ревность — как-никак, человеческое чувство, пусть и не самое возвышенное. Но дело в иных переживаниях, и писатель несколькими строками воссоздает поистине вечную глубину мотивов, определяющих поведение чиновника:
«Выйдя из клуба, супруги до самого дома шли молча. Акцизный шел сзади жены и, глядя на ее согнувшуюся, убитую горем и униженную фигурку, припомнил блаженство, которое так раздражало его в клубе, и сознание, что блаженства уже нет, наполняло его душу победным чувством. Он был рад и доволен, и в то же время ему недоставало чего-то и хотелось вернуться в клуб и сделать так, чтобы всем стало скучно и горько и чтобы все почувствовали, как ничтожна, плоска эта жизнь (...), когда знаешь, что проснешься завтра утром, — и опять ничего, кроме водки и кроме карт! О, как это ужасно!»
Тут надо подчеркивать каждое слово, ибо все они значат. Во-первых, желание сделать скучно всем. Подобное авторское наблюдение, которое, наверное, каждый читатель мог бы поддержать сходными примерами личного опыта, свидетельствует, что имеем дело с национальной чертой (если же взять шире, то, вероятно, с чертой любого архаического общества), на сей раз взятой в отрицательном смысле. Ибо есть положительный: пусть всем будет хорошо. Обращаю внимание на обязательность всем, хотя очевидно, что некий принцип, хорош он или дурен, не может иметь всеобщего распространения. Давно сказано: что русскому здорово, то немцу смерть. Хотеть, чтобы всем было здорово, — это хотеть смерти тем, кто не желает «здорово» по чужому образцу.
Художественный анализ Чехова неуклонно движется в глубину. Отчего акцизный хотел, чтобы всем было скучно? Оттого, пишет автор, что отчаялся в жизни, от ужаса: проснешься завтра, и опять ничего, кроме водки. Пусть же все пропадет, не так страшно тебе одному жить в безнадежном мире, когда знаешь, что все так.
Чувство чиновника оказывается искаженным чувством человечности, продолжением (вот где глубина Чехова!) настроений его жены, «отрицательными» восторгом и упоением. Ему тоже хотелось прочь, вон с земли, на облака, да он не знал как, не умел, в нем жил только порыв, но не было ни сил, ни страсти осуществить. Чиновник знал, что несчастен, что это его жребий, отбивался, но чувствовал, что обречен, и тогда бессознательно схватился за «смерть на миру»: пусть все будут обречены — легче перенести собственную обреченность. Кратчайший восторг жены вдруг приоткрыл чиновнику, что жизнь, с невозможностью которой он помирился, возможна, и тогда он сам поспешил уничтожить эту вожделенную жизнь, не чувствуя себя способным к ней. Он согласился с тем, что перестал быть человеком, и ему больно, когда рядом появляется человеческое переживание, — память о погибшей мечте. Он уничтожает человеческое, потому что ему больно от бесчеловечности — такова искаженная логика этой жизни.
У Чехова не мало образцов искажения.
В рассказе «Воры» фельдшер, случайно очутившись в избе вместе с ворами и конокрадами, наблюдает их, и на сердце ему падает тоска. «И он жалел: зачем он фельдшер, а не простой мужик? Зачем на нем пиджак и цепочка с позолоченным ключиком, а не синяя рубаха с веревочным поясом? Тогда б он мог смело петь, плясать, пить, обхватывать обеими руками Любку, как это делал Мерик (...) К чему на этом свете доктора, фельдшера, купцы, писаря, мужики, а не просто вольные люди? Есть же вольные птицы, вольные звери, вольный Мерик, и никого они не боятся, и никто им не нужен! (...) Ах, вскочить бы на лошадь, не спрашивая, чья она, носиться бы чертом вперегонку с ветром по полям, лесам и оврагам, любить бы девушек, смеяться над всеми людьми... (...) Кто говорит, что гулять грех? — спрашивал он себя с досадой. — А вот, которые говорят это, те никогда не жили на воле, как Мерик или Калашников, и не любили Любки; они всю свою жизнь побирались, жили без всякого удовольствия».
Вот оно: надо жить с удовольствием. Вор, нарушитель гнусного порядка, кажется свободным только потому, что ненавидит условия жизни, в которой живешь без удовольствия, безрадостно влачишь и так недолгое существование. С вором этот порядок ничего не может поделать, пронеслось в душе фельдшера, и это напоминает настроения рассказа «Счастливчик», объясняющие тоску, охватившую невольного наблюдателя воров.
Из таких настроений кристаллизуются представления, содержащие неудовлетворенность не только, не столько порядком социальных отношений, сколько самим антропологическим типом. Может быть, в связи с таким суждением, выводимым из художественной мысли писателя, находится одна из преобладающих черт его литературной манеры.
Он часто подчеркивает физические дефекты своих персонажей. Такого количества телесных уродств (довольно однообразных, кочующих из рассказа в рассказ: горбатый, сутулый, тощий или непомерной толщины, хромой, кривой), пожалуй, нет в отечественной литературе. Соперником Чехову только Гоголь, с которым у Чехова много общего, впрочем, отдельная тема.
И без дальних объяснений понятно, что уродства в художественном тексте не являются антропологической характеристикой национального типа, но имеют художественный смысл, значат нечто помимо (и главным образом помимо) того, что они есть по своей материальной природе.
«По тротуару, громко стуча калошами и перебраниваясь, проходят трое молодых людей: двое из них высоки и тонки, третий мал и горбат» («Тоска»).
«Около строящейся купальни, под зелеными ветвями ивняка, барахтается в воде плотник Герасим, высокий, тощий мужик (...) На сажень от Герасима, по горло в воде, стоит плотник Любим, молодой горбатый мужик с треугольным лицом...» («Налим»).
Естественно спросить: что такое эти горбатые в художественном тексте? Первый ответ: знак физического уродства, оставляющего впечатление всеобщего физического неблагополучия, особенно если присоединить бесконечное число прочих уродств. Все же заметим одну деталь: горбатые в цитированных примерах сочетаются с высокими. Может быть, «горбатый», кроме уродства, значит «низкий, невысокий» (и тогда особый смысл приобретает тоска Лопахина: мы должны бы быть великанами). В этом случае чеховским контрастом будет высокий (худой, тощий) — низкий (толстый, горбатый). Сейчас же идет на память рассказ «Толстый и тонкий». Под стать им «Контрабас и флейта», «Шило в мешке» — поэтологическая архетипика писателя опредмечена уже названиями. А вот она же в двух примерах:
«Ночью, часов в двенадцать, по Тверскому бульвару шли два приятеля. Один — высокий.., другой маленький...»
«Тонкая, как голландская сельдь, мамаша вошла в кабинет к толстому и круглому, как жук, папаше...» («Папаша»).
Примеры бессчетны, любой читатель легко проверит. С особенной наглядностью правило действует в ранних вещах, приблизительно 1880—1886 гг., когда Чехов, по его собственному признанию, «писал свои рассказы машинально, полубессознательно, нимало не заботясь ни о читателе, ни о себе самом...» (Письмо Д.В. Григоровичу от 26 марта 1886 г.).
«Машинально» и придает особое содержание контрасту толстый (низкий) — тонкий (высокий). Автор пользуется им не по расчету, а по бессознательному помыслу, над которым не задумывается. В том же письме Григоровичу он прибавляет:
«Писал я и всячески старался не потратить на рассказ образов и картин, которые мне дороги и которые я, бог знает почему, берег и тщательно прятал».
Без особых преувеличений допустимо, что «толстый и тонкий» не относятся к таковым образам и картинам именно вследствие своей архетипичности.
Что означает в поэтике Чехова этот архетип? Для понимания ответа следует вспомнить некоторые фамилии чеховских персонажей: Зрачков, Желвакова, Глоткин, Хромой, Однощекин, Синерылов. Только что говорилось, что у героев Чехова не редки телесные дефекты. Названные фамилии подтверждают, оставляя впечатление гипертрофированных органов, утерявших нормальный вид частей и функций, привлекших внимание именно своей ненормальностью. Она-то и стала поводом к фамилии, определяющей не индивидуальный, а родовой характер. Все эти Зрачковы-Желваковы — потомки, из поколения в поколение передающие названный фамилией дефект, который — в авторской художественной системе — становится неким антропологически наследуемым признаком.
Что же за люди живут в недрах такого народа? У писателя есть ответ в виде другой группы фамилий: Помоин, Червяков, Ваксин, Кнопка, Курошеев, Лимонадов, Окуркин, Болдырев, Механизмов, Очумелов, Лошадиных; названий населенных мест: станция Дребезги, деревня Битые Холуи, село Блины Съедены. Не одна страница испишется подобными фамилиями и названиями.
Литературоведы давно и убедительно обосновали связь многих имен и фамилий чеховских персонажей с именами персонажей его литературных предшественников и современников, в частности, Н.А. Лейкина. Мало того, найдены прямые совпадения в их рассказах7, но эти сходства обнаруживают, насколько различно содержание одних и тех же метафорических элементов, оказавшихся в разных художественных системах.
Там, где уродства наследуемы и отклонения от нормы — правило, там люди теряют человеческие признаки и приобретают черты окружающего предметного мира, опредмечиваются. В «предметных» и «животных» фамилиях автор выразил (машинально и бессознательно, напоминаю — как раз в таких случаях нужен расчет и анализ критики) расчеловечивание мира людей. Один только рассказ «Лошадиная фамилия» изобилием животности дает необходимый материал подобному заключению.
Вырождается человечество или нет, но Чехов сообщает столько художественных подробностей вырождения, что первоначальный вопрос меняет свое содержание: не вырождается или нет, а к чему приведет этот процесс, что будет со страной, ее людьми, прекрасными далями, необъятными горизонтами — с великой и прекрасной страной, которую населяют не только великаны, но даже и не люди:
«Иду к дому, а навстречу мне рыжая собака, толстая, похожая на свинью (...) Вышла из кухни кухарка, голоногая, толстая, тоже похожая на свинью (...) Вхожу к брату, он сидит в постели, колени покрыты одеялом, постарел, располнел, обрюзг; щеки, нос и губы тянутся вперед — того и гляди хрюкнет в одеяло» («Крыжовник»).
Вспоминаются слова Пети Трофимова о неважном устройстве физиологии человека. В этом рассказе как будто разъяснено, в чем это неподходящая физиология. Она неустойчива к влияниям окружающей косности, почти не сопротивляясь, уступает внешним давлениям, почти с пандемической массовостью низводящим все разнообразие жизненных форм до «свиньи», а там и вообще до какого-нибудь примитивного органического вида, с которого началась живая жизнь, и теперь, «сделав круг», им и заканчивается.
Расчеловечивание в качестве господствующего процесса, законам которого подчинено бытие, и объясним авторский архетип «толстый-тонкий». Люди различаются не личными, индивидуальными качествами; особой у каждого душой, поучительной или просто не похожей на остальные жизнью; какой-нибудь всепоглощающей страстью, редким талантом. Нет, всего-навсего испокон века существующим внешним различием толстого и тонкого, высокого и низкого, уродливого на фоне той нормы, которая сама вот-вот сделается уродством, а то, что прежде считалось таковым, будет восприниматься нормой.
Так и происходит в рассказе Чехова. Стоит ему сказать «высокий», сейчас же читатель машинально думает: сейчас появится «низкий», а если не появится физически, то легко подразумеваем, и эта пара всегда у нас перед внутренним взором.
Неожиданный отклик этим настроениям встречается в «Письмах о русской культуре» Г. Федотова, писавшего в 1938 г. о России: «Страна, всерьез сделавшая марксизм единственной основой воспитания, превращается в «собачью пещеру», где могут выжить только низкие ростом»8.
Не из среды ли таковых бегут персонажи Чехова, словно предвидя, что близится царство, которому, точно, не будет конца?
Причина, разумеется, не в марксизме, он был только названием. На его месте могла быть любая идеология, как оно и было до тех пор, пока его не объявили официальной верой, вроде православия, с которым большевики расправились как со своим идейным соперником. Будь марксизм всерьез, по мнению Федотова, с ним бы не расстались так быстро, буквально в три дня. Не в нем, не в нем дело, как и не в большевизме — исторической разновидности племенной архаики, предполагающей однородную социальную среду и поклонение верховному правителю, как бы ни менялось его название.
Из этого мира и бегут чеховские герои, ищут высшего («высокого») смысла — основной антропологический признак: пока есть люди, они будут искать чего-то высшего самих себя. В муках такого поиска человек становится человеком, каким не был от рождения, и у него нет иного средства, иначе он так и останется одним из бесчисленных фрагментов бесконечного органического материала. «Господи, ты дал нам... лесе... поля... горизонты...».
Благодать в словах Лопахина оказывается с червоточиной: вся надежда на природу — леса, поля. Человек должен быть, а его нет. Что произошло с героями «Черного монаха»? «Вся, вся наша жизнь ушла в сад, — сетует Таня, — мне даже ничего никогда не снится, кроме яблок и груш».
Этого мало. «Вся Россия наш сад» — декламирует Петя Трофимов. Похожие образы мелькают в сознании умирающего архиерея из одноименного рассказа: «...Он уже не мог выговорить ни слова, ничего не понимал, и представлялось ему, что он, уже простой, обыкновенный человек, идет по полю быстро, весело, постукивая палочкой, а над ним широкое небо, залитое солнцем, и он свободен теперь, как птица, может идти, куда угодно!»
Поле, небо, солнце, птица — кажется, чего бы не жить? Но рассказ оканчивается берущей за душу смертью героя. Из необъятного выбора, пригрезившегося персонажу — «можешь идти, куда угодно», — остается лишь один всеобщий путь. Только там благо, где нет человека, — в мире чистой природы. Выходит, человеку хорошо, когда нет людей, никого нет («свободен, как птица»), но в этом случае и его нет, а тогда зачем ему это? Если ж есть люди, вопрос прежний: зачем?
В этом контексте упомянутая реплика Пети «Вся Россия наг сад» может рассматриваться своего рода интегралом художественной мысли писателя.
С одной стороны, цветущий мир, краше которого ничего нет; мир всей твоей (героев, читателей) жизни: детство, отрочество любящие мать и отец, дружная семья, волнующие детское сердце тайны, ожидание праздников, первая влюбленность.
С другой — всё давящая вегетация, сплошь яблоки, груши, вишня, не знаешь, куда бежать, к тому же осознаешь, что бегство бессмысленно: вся Россия наш сад, и его несешь с собой, в себе. И когда Лопахин предлагает сад вырубить, разделить на участки и продавать дачникам, это выглядит кощунством: еще бы, прекраснее сада ничего нет на свете. Но это и выход: уничтожив сад, выручить людей. Пока Россия сад, торжествует стихийная, органическая сила, чистая природа, для которой человек — растительная разновидность. Однако неизвестно, не будет ли она торжествовать, если последовать совету Лопахина: вырубить и расчистить?
Не случайно, последняя пьеса Чехова заканчивается под стук топора (реалистическая метафора будущих исторических трансформаций) и страшными словами Фирса — пророческой метафорой: «Жизнь-то прошла, словно и не жил».
Провидческую особенность чеховского творчества отметил А. Белый: «...Откровения художника переплескиваются за пределы искусства в жизнь»9. «Его символы... вросли в жизнь, без остатка воплотились в реальность»10.
Нужно прибавить: в реальном, которое и посейчас остается таким, каким его изобразил Чехов, если же так, в нем содержится и наше «завтра».
В одном из рассказов действующее лицо носит имя Дифтерит Алексеевич, и это имя — чуть ли не знак Валтасарова пира: вот будущность жизни — инволюция до животного — микроба — предмета — мертвой косной материи, вечно движущейся в бесконечных взаимодействиях первично-элементарной жизни.
Дифтерит Алексеевич — всего-навсего незамысловатая метафора, однако всякие метафоры, что бы ни воображал автор, имеют свое значение; о нем писатель, по обыкновению, не задумывается — это и дает повод рассмотреть некоторые вероятные ассоциации, вызываемые неосознанным метафоризмом.
В эпилоге «Преступления и наказания» передан сон Раскольникова, «будто весь мир осужден в жертву какой-то страшной, неслыханной и невиданной моровой язвы, идущей из глубины Азии на Европу (...) Появились какие-то новые трихины, существа микроскопические, вселявшиеся в тела людей. Но эти существа были духи, одаренные умом и волей. Люди, принявшие их в себя, становились тотчас же бесноватыми и сумасшедшими. Но никогда, никогда люди не считали себя так умными и непоколебимыми в истине, как считали зараженные. Никогда не считали непоколебимее своих приговоров, своих научных выводов, своих нравственных убеждений и верований. Целые селения, целые города и народы заражались и сумасшествовали (...) Не знали, кого и как судить, не могли согласиться, что считать злом, что добром... Люди убивали друг друга в какой-то бессмысленной злобе (...) Оставили самые обыкновенные ремесла, потому что всякий предлагал свои мысли, свои поправки, и не могли согласиться; остановилось земледелие. Кое-где люди сбегались в кучи, соглашались вместе на что-нибудь, клялись не расставаться, но тотчас же начинали что-нибудь совершенно другое, чем сейчас же сами предполагали, начинали обвинять друг друга, дрались и резались... Все и все погибало. Язва росла и подвигалась дальше и дальше. Спастись во всем мире могли только несколько человек, это были чистые и избранные, предназначенные начать новый род людей...»
Такую картину нарисовал Достоевский в 1867 году (первое издание романа).
В 1904 г. Л. Андреев пишет рассказ «Красный смех», замечу один из эпизодов.
«Какой-то кровавый туман обволакивает землю, застилая взоры, и я начинаю думать, что действительно приближается момент мировой катастрофы (...) Безумие идет оттуда, от тех кровавых порыжелых полей, и я чувствую в воздухе его холодное дыхание. Я крепкий и сильный человек, у меня нет тех разлагающих тело болезней, которые влекут за собой и разложение мозга, но я вижу, как зараза охватывает меня, и уже половина моих мыслей не принадлежит мне. Это хуже чумы и ее ужасов»11.
«Что-то огромное, красное, кровавое стояло надо мною и беззубо смеялось.
— Это красный смех. Когда земля сходит с ума, она начинает так смеяться. Ты ведь знаешь, земля сошла с ума. На земле нет ни цветов, ни песен, она стала круглая, гладкая и красная, как голова, с которой содрали кожу»12.
Между 1867 и 1904 годами прошло почти сорок лет. Многое переменилось с тех пор в России, в мире — образы разных писателей совпадают, словно никаких перемен. У Достоевского трихины, моровая (чуть не мировая) язва; у Андреева чума. Дифтерит Алексеевич в этом контексте становится предостережением: да, мир близится к неотвратимому, спасти и спастись может тот, кто непричастен этому порядку, его эпидемической силе; кто готов начать новый род. Спасение не в другом мире, но в других людях, в другом человеке.
У чеховской метафоры есть продолжение. Отрывок «Бич божий» незаконченного романа Е. Замятина «Скифы»13 начинается описанием:
«Беспокойство было повсюду в Европе, оно было в самом воздухе, им дышали.
Все ждали войны, восстания, катастроф (...)
Прочной перестала быть сама земля под ногами. Она была как женщина, которая уже чувствует, что ее распухший живот скоро изрыгнет в мир новые существа, и она в страхе мечется, ее бросает в холод и жар»14.
Не зная, что перед нами Рим V века, легко предположить: автор черпал из тех же ощущений, что Достоевский в 60-е годы XIX, а Чехов в конце того же века, хотя Замятин писал роман с 1928 по 1935 гг. Не исключено, его рукой водили российские настроения этой поры. За одиннадцать лет до Замятина М. Волошин в стихотворении «Трихины» (цикл «Путь России» из книги «Неопалимая купина. Стихи о войне и революции») писал:
«Исполнилось пророчество: трихины / В тела и дух вселяются людей»15.
Чехов почувствовал это своим Дифтеритом Алексеевичем, который вызывает мысль о диагнозе. Это и увидел в творчестве Чехова Е. Замятин (статья 1924 г. «Чехов и мы»):
«...Чехова не знают, его перестали видеть, замело к нему все тропинки. ...Пора взять лопату, разрыть сугроб и показать Чехова... Не внешнюю его биографию — ею занимались довольно, а биографию его духа, линию его внутреннего развития». Он «смотрел на жизнь без всяких очков — именно это помогло ему стать подлинным писателем-реалистом. «Беспристрастным свидетелем» (слова самого Чехова в одном из писем. — В.М.) прошел он через конец XIX и начало XX века, и для изучения русской жизни в эту эпоху все написанное Чеховым, такой документ, как летопись Нестора — для изучения начала Руси»16.
Разумеется, речь идет о документе художественном — достоверном свидетеле времени, потому что автор и не думает свидетельствовать. Роман самого Замятина «Мы» неожиданно подтверждает «документализм» Чехова, невольные опасения за судьбу родины, прочитанные в имени его комического персонажа:
«Мы идем — одно миллионоголовое тело, и в каждом из нас — та смиренная радость, какою, вероятно, живут молекулы, атомы, фагоциты. В древнем мире — это понимали христиане, единственные наши (хотя и очень несовершенные) предшественники: смирение — добродетель, а гордыня — порок, и что «МЫ» — от Бога, а «Я» — от диавола (...).
Я, быть может, уже не фагоцит, деловито и спокойно пожирающий микробов... Я, быть может, микроб...»17
Замятин как будто подтверждает художественный диагноз — прогноз Чехова: обратное развитие дошло до микрофауны, началось ее количественное увеличение, не вызывающее сомнений в направлении процесса. На вопрос, некогда поставленный Достоевским: человек или микроб? Чехов дал ответ, не чаянный им самим: Дифтерит (микроб) Алексеевич.
Потеря людьми черт, необходимейших антропологическому типу, — существенный признак поэтики Чехова. Не им он изобретен, относится к очень древним среди художественных приемов, но в отечественной литературе никто не пользовался им так широко, как Чехов. Прием этот настолько универсален, что в зависимости от авторской аранжировки может быть основанием и трагедии и комедии. Чеховское творчество замечательно подтверждает это: комические рассказы писателя, стоит сместить интонационные акценты, превращаются в трагическое повествование.
Таков, к примеру, «Тапер». Молодого музыканта нанимают для игры на домашнем торжестве. Молодая барышня, видя, как он, дожидаясь начала, перебирает клавиши и не подозревая в нем нанятого слуги, разговаривает с ним о музыке, оба увлекаются, но барышне шепчут, кто ее собеседник, она краснеет и отходит.
Передавая историю приятелю, музыкант смеется над своим положением.
«— Что ж тут смешного? — спрашиваю я, глядя, как плечи и голова Рублева трясутся от смеха. — Петя, ради бога... что тут смешного? Петя! Голубчик!
Но Петя хохочет, и в его хохоте я легко узнаю истерику».
Смех-истерика — вот соотношение трагического и комического у Чехова. Попробуйте — еще для одного примера перечитать небольшую вещь «Из записок вспыльчивого человека» (или «Новогоднюю пытку», «Шампанское» — рассказы без труда заменяются) не комически, а как доказательство ужасающего падения человека, словно с умыслом изложенное комически, дабы не доводить читателя до отчаяния тем пределом, до которого доходит положение человека в каждодневно-привычной и потому не производящей кошмарного эффекта жизни.
Итак, опишу прием, от которого я отвлекся: люди страстно хотят чего-то достичь и, наконец, достигают, но в последний момент лишаются (или не могут воспользоваться). Шила в мешке не утаишь, но не достанешь; напрасная победа — вот, приблизительно, содержание подобных ситуаций, многочисленных у Чехова.
Ловцы уже вытащили налима из-под коряги, подняли над водой, а он дернул хвостом и вырвался из рук («Налим»).
Три актера находят много денег, но из-за алчности каждого никто не может их взять («Бумажник»).
Оба описанных случая характеризуются понятием находки, не пошедшей впрок. С небольшим преувеличением, этой схеме соответствуют рассказы «Переполох» и «Суд».
У гувернантки в ее отсутствие хозяйка сделала обыск, рылась в вещах, чтобы найти пропавшее украшение. Гувернантка оскорблена, требует расчета. Хозяин упрашивает остаться и признает, что это он взял брошь жены, которая держит его под каблуком, не дает денег. Пропажа найдена, но гувернантка тем более укрепляется в решении уйти от ничтожных людей.
В «Суде» по приказу отца секут взрослого сына, укравшего деньги. Разумеется, потом они найдены, сын не при чем.
И последний пример — короткий рассказ «О бренном». Некий господин усаживается обедать. Стол описан со всеми возбуждающими деталями: водками разных сортов, закусками. Автор изображает приготовления персонажа к вожделенной трапезе, завершаемые финальным аккордом:
«Подумав немного, он положил на блины жирный кусок семги, кильку и сардинку, потом уже, млея и задыхаясь, свернул оба блина в трубку, с чувством выпил рюмку водки, крякнул, раскрыл рот...
Но тут его хватил апоплексический удар».
Схема «нечто, страстно искомое, оказывается не нужно» многократно используется в прозе писателя. Мне кажется, исследователь имел в виду нечто близкое:
«Чехов ставит своего героя в ситуации непонимания друг друга, ни к чему не приводящего спора, никого не убеждающей проповеди»18.
Все это можно переназвать бессмысленным действием, ненужным поступком. Выходя за пределы сюжетосложения, получаем: человек жаждет жизни, которой не может жить, ибо все нужное у него есть, а все, чего он ищет и находит, ему не требуется, и он занят поисками пустого, которое только на первый взгляд имеет характер истинного. Герои Чехова как бы владеют истиной, но не знают этого, в своих поисках удаляются от нее и в итоге теряют. Они ищут не чтобы найти, но чтобы потерять, — еще один пример перевернутой логики. Знать, впрямь рождается новый антропологический тип, другой человек (у названия книги имеется и такой смысл: другой в сторону понижения, до Дифтерита Алексеевича), антипод, быстро теряющий даже внешние человеческие признаки и переходящий сначала в разряд животных, потом в класс вирусоподобных организмов, а там недалеко и до простых неорганических соединений.
В рассказе «Певчие» один из персонажей спрашивает:
«Отчего в русском народе понимания нет? Недоумеваю, накажи меня бог! Такой необразованный народ, что никак не разберешь, что у него там в горле: глотка или какая другая внутренность?»
Если это наблюдение вставить в контекст чеховской художественной антропологии, оно приобретет прямо-таки роковой смысл: речь идет о жуткой инволюционной последовательности, начались анатомические мутации (в горле возникла «другая внутренность»). Так что чего же о непонимании толковать, надо спасать народ от вырождения — таков один из выводов художественной антропологии Чехова.
Именно это заключение, следующее из разбросанных по всему творчеству писателя словечек, пейзажей, диалогов фамилий и т. п. — заключение, что русский народ подошел к рубежу своего исторического бытия, за которым начинается физическое оскудение, — это заключение, говорю я, заставляет вспомнить и собрать в нечто целое многочисленные картины русской жизни, нарисованные писателем с хирургической безжалостностью.
«Бабы», «Мужики», «В овраге», «Палата № 6», «Моя жизнь», «Новая дача», «Скрипка Ротшильда», «Горе» — перечень продлевается без всякого труда — все эти рассказы, насколько видно сегодня (именно сегодня!), не дают ни малейшего повода гадать, какие такие необъятные горизонты предстанут этим людям, освободи их от существующих условий.
Как раз теперь эти картины открываются, я думаю, в своем вечно-неизбывном ужасе (ныне без всяких смягчающих оговорок видно, что «существующие условия» — всего-навсего форма, с изменением которой содержание не меняется), дают достаточные основания умозаключить: да, только переменами условий ничего не поправить, коль скоро процесс зашел так далеко: нужны целенаправленные меры по преобразованию состава души, иначе у природы не хватит сил вернуть человеческий тип из той бездны, куда он погружается.
Все это, конечно, не рецепт, не средство избавления — художественная литература не имеет таковых, а посему предложенное толкование носит предположительный характер, совпадающий отчасти с отношением самого автора. В одном из писем А.С. Суворину он сообщает:
«В разговорах с пишущей братией я всегда настаиваю на том, что не дело художника решать узкоспециальные вопросы (...) Для специальных вопросов существуют у нас специалисты; их дело судить о судьбах капитала, о вреде пьянства, ...художник же должен судить только о том, что понимает (...) Художник наблюдает, выбирает, компонует — уже одни эти действия предполагают в своем начале вопрос (...) Требуя от художника сознательного отношения к работе, Вы правы, но Вы смешиваете два понятия: решение вопроса и правильная постановка вопроса. Только второе обязательно для художника» (27 октября 1888 г.).
Чехов так и работал. Этот признак его литературной манеры уловил А. Белый: «Чехов не объяснял: смотрел и видел»19.
И тем не менее следует усвоить (по крайней мере, задуматься над этим): картины русской жизни, увиденные Чеховым, не совпадают ни с одним теоретическим суждением (не важны сейчас мотивы такого суждения) по поводу ее прошлого, настоящего, будущего. Эти картины всегда на шаг впереди любых прогнозов, ибо писатель воссоздает неоспоримую реальность, тогда как всякий прогноз всего лишь вероятен.
«Никогда не занимавшийся ни социальной, ни этической проповедью, чеховский гений тем не менее обнаружил больше чернейшей реальности голодной, забитой, рабской, злой крестьянской России, чем множество других писателей, таких, как, например, Горький... Я пойду дальше и скажу, что люди, предпочитающие Чехову Достоевского или Горького, никогда не будут в состоянии постичь сущность русской жизни и, что гораздо важнее, сущность мировой литературы»20.
Чтобы эта характеристика вышла за пределы того, что именуют личным мнением, особенно в той ее части, где Набоков говорит о Чехове, оказываясь куда ближе к «истине России», чем многие и многие, присоединю к его словам наблюдение В.В. Розанова — очевидца того, как приняла читающая публика один из рассказов Чехова:
«Когда Чехов написал «Мужиков», то произвел переполох в печати, — он, такой тихий и бесшумный всегда. Не знали, как отнестись к ним. Хвалить? Порицать? Мужики были так явно несимпатичны, между тем как печать уже несколько десятилетий была соединена с мужиками «симпатией» (...) «Мужики», впрочем, повторяли то, что было о них сказано в странной «Власти тьмы» Толстого: но у Толстого это было сказано как бы для «христианского примера», а у Чехова без «примера» сказано, а так, просто, что вот «есть». Это «есть» ужасно жгло сердца и оскорбляло интеллигенцию тем, что она не знала, как к этому отнестись. «Любить» явно можно только симпатичное, а тут?.. (...) Чехов писал рукой не беллетриста, а медика»21.
Добавлю, медика, который даже не ставит диагноза, но попросту отчетливо фиксирует признаки, в соответствие с чем и следует определить отношение к феномену: болезнь врожденная, исконное состояние, которое и не может быть иным, инфекция и пр.
Один этот рассказ — а близких ему «медицинским духом» Чехов написал предостаточно — служит комментарием к «немедицинским» (т. е. не считающимися с очевидными признаками) суждениям о призванности русского народа, его мессианской задаче в мире и т. п., если, разумеется, безмерные и вечно длящиеся страдания людей не считать знаками исторической предназначенности к иной доле. Действительно, вряд ли в истории, по крайней мере, последних трехсот лет, сыщется народ с такой страдальческой судьбой. Этот-то народ и был взят Чеховым со всеми чертами, выработанными страдальческим бытием.
Как-то Горький написал Чехову: «Право же — настало время нужды в героическом: все хотят возбуждающего, яркого, такого, знаете, чтобы не было похоже на жизнь, а было выше ее, лучше, красивее. Обязательно нужно, чтобы теперешняя литература немножко начала прикрашивать жизнь, и, как только она это начнет, — жизнь прикрасится, т. е. люди заживут быстрее, ярче...»22
Чехов никогда не прикрашивал, но и не сгущал краски, в его эстетике не было таких намерений, в частности, этим объяснимо неприятие «Мужиков» частью критики. Правда, многие герои писателя, прозаические и драматические, остаются в нашей памяти словами, выражающими их безусловное убеждение: лет через двести-триста жизнь будет изумительно прекрасна. Настораживает в этом постоянстве одно: не человек изменится, а жизнь. Как же она сама по себе улучшится, с таким-то составом людей? Ведь в изображении автора человек делается хуже и хуже. Но тогда почему, как будет хороша жизнь, в которой существуют потомки этих деградирующих людей с жабрами и какими-то новообразованиями в горле? Горькому это не пришло на ум, он полагал достаточным изобразить хорошую жизнь, не считаясь с ее реальным положением, чтобы она стала таковой на самом деле.
Из этого противоречия художественная мысль Чехова позволяет найти один выход: нужно не жизнью заняться, а человеком. Станет жизнь изумительной, нет — нельзя судить достоверно, пока человек таков: должен быть гений, а он свинья и не осознает этого свинства. Такого представления о человеке не хотели видеть у Чехова, куда милее думать, вместе с выбранными из его многообразного творчества персонажами, о жизни, которая неизвестно как сделается изумительно прекрасной. В самом деле, что говорит в «Дяде Ване» Соня:
«Мы услышим ангелов, мы увидим все небо в алмазах, мы видим, как все зло земное, все наши страдания потонут в милосердии, которое наполнит собою весь мир, и наша жизнь стает тихою, нежною, сладкою, как ласка. (...) Мы отдохнем!».
Вершинин в «Трех сестрах»:
«Через двести, триста лет жизнь на земле будет невообразимо прекрасной, изумительной. Человеку нужна такая жизнь, если ее нет пока, то он должен предчувствовать ее, ждать, мечтать, готовиться к ней...»
Наконец, писатель сам вынашивал похожие мысли. А.И. Куприн передает его слова, сказанные в саду ялтинского дома:
«Послушайте, при мне здесь посажено каждое дерево... здесь же до меня был пустырь и нелепые овраги, все в камнях в чертополохе. А я вот пришел и сделал из этой дичи культурное, красивое место (...) Знаете ли, через триста-четыреста лет вся земля обратится в цветущий сад. И жизнь будет тогда необыкновенно легка и удобна»23.
Замечательные слова, но подтверждаются ли они авторской поэтикой, которая, по крайней мере, не меньше прямых высказываний свидетельствует о мировоззрении писателя? Не буду касаться в деталях сложной и требующей специальных доводов проблемы: соотношение художественной и, так сказать, прямой идеологии. Сплошь и рядом, чем крупнее и значительнее художник, тем разительнее несоответствие того, что он говорит и делает прямо, вне художественного творчества, и тем, что следует из анализа его образной речи, о полном содержании которой он часто не догадывается сам.
Еще раз хочу повторить: и Соня, и Вершинин, и создатель их — все надеются на прекрасную жизнь, совершенно не связывая ее грядущее улучшение с людьми. «Жизнь станет», «жизнь будет» — не случайны во всех трех случаях безличные конструкции, ибо никто не воображает, как эта жизнь с этими людьми сделается лучше, какими силами, чьим участием. Вероятно, поэтому появляются двести, триста, четыреста лет — для человеческого существования запредельные, почти геологические сроки, словно подсказывающие: да, жизнь переменится, но разве что вместе с геологическими и климатическими переменами — больше надеяться не на что. Вот это «не на что надеяться» и выражает поэтика Чехова: имена, фамилии, названия сел и деревень, пейзажные картины, судьбы героев.
А.С. Суворин сообщает, что В.Г. Короленко убедил Чехова «баллотироваться в члены Союза писателей, сказав, что это одна формальность». Все же среди членов Союза нашлось несколько лиц, «которые говорили, что Чехова следовало забаллотировать за «Мужиков», где он будто представил мужиков не в том виде, как следует по радикальному принципу»24.
Писатель совсем иных взглядов, нежели Михайловский и народническая критика, — Л. Толстой, обожавший Чехова и его прозу, отозвался, однако, о «Мужиках» с ними в один голос: «...Это грех перед народом. Он не знает народа»25.
Изображенное Чеховым названо дурным не потому, что дурна жизнь, а потому, что не соответствует чьим-то представлениям, в частности, тогдашним отношениям Толстого к народу — якобы носителю истины, которую только предстоит постичь образованным людям. По мнению некоторых членов Союза, вина писателя в том, что изобразил реальность не такой, какой ее хотели видеть, не обращая внимания на ее очевидное несоответствие взглядам критиков, — страшная, многовековая и по этой причине бессознательная привычка читается в этом эпизоде столетней давности (1898 г.).
С. Щукин, оставивший воспоминания о встречах с Чеховым, передает, как однажды он спросил у писателя, точно ли так дурна крестьянская жизнь, как он ее представил повестью «В овраге»? Чехов ответил:
«Я описываю тут жизнь, какая встречается в средних губерниях. И купцы Хрымины есть в действительности. Только на самом деле они хуже. Их дети начинают с восьми лет пить водку и с детских же лет развратничают, они заразили сифилисом всю округу. Я не говорю об этом в повести, — прибавил он, — потому что говорить об этом считаю нехудожественным (...)
А знаете, что мальчика Липы обварили кипятком, это не исключительный случай: земские врачи нередко встречают такие случаи. Впрочем, я решил больше ничего не писать из жизни крестьян...»26
Оказывается, действительная жизнь еще мрачнее, хотя Чехов прав, и без того повесть оставляет впечатление безысходности, главным образом, своими «антропологическими» характеристиками, которые, конечно же, никак не соответствовали представлениям о великой миссии, богоизбранном народе и пр. Это можно было принимать, отвлекшись от каждодневности того самого народа, в котором искали признаки этнического богоизбранничества. Реальная жизнь требовала иных определений.
Однажды, рассуждая о русской общине, Чехов заметил:
«Я сам против общины. Община имеет смысл, когда приходится иметь дело с внешними неприятелями, делающими частые набеги, и с дикими зверями, теперь же — это толпа, искусственно связанная, как толпа арестантов. (...) Община живет земледелием, но раз земледелие начинает переходить в сельскохозяйственную культуру, то община уже трещит по всем швам, так как община и культура — понятия несовместимые. Кстати сказать, наше всенародное пьянство и глубокое невежество — общинные грехи» (Письмо А.С. Суворину 17 янв. 1899 г).
Крестьянская жизнь, жестко-правдиво нарисованная Чеховым, есть жизнь «арестантская», ибо того, что для художественной мысли Чехова составляло существо бытия свободного человека, там никогда не было и не могло быть. Общинные нравы, подавляющие всякое самостоятельное действие, собственный взгляд, воспитывали и воспитали такое сознание, в котором надолго атрофировалось чувство личной ответственности за жизнь, за дело, индивидуальной совести: за все отвечал «мир», т. е. никто.
Чехов не одинок с такой оценкой. В 1867 г. И.С. Тургенев писал А.И. Герцену:
«...Ты романтик и художник... веришь — в народ, в особую породу людей, в известную расу. И все это по милости придуманных господами философами и навязанных этому народу совершенно чуждых ему демократически-социальных тенденций, вроде «общины» и «артели»! От общины Россия не знает, как отчураться, а что до артели — я никогда не забуду выражения лица, с которым мне сказал в нынешнем году один мещанин: «Кто артели не знавал, не знает петли»»27.
«Отчураться» — то же, что у Чехова: «Община и культура несовместимы», об этом, попутно говоря, его рассказ «Новая дача». В основе культуры лежит «я», общины — «мы»; культура гуманитарна, община природна, в общине человек не покидает природы, чуждой «я», индивидуальной воле, свободе, творчеству.
В письме К.С. Аксакову (1853 г.) И.С. Тургенев, прочитав его замечания о древнем русском быте, возражает:
«Вы рисуете картину верную — и, окончив, восклицаете: как все это прекрасно! Я не могу повторить этого восклицания вслед за Вами. ...По моему мнению, трагическая сторона жизни — не одного нашего народа — каждого — ускользает от Вас, между тем как самые наши песни громко говорят о ней!»28
Трагизм состоял в том, что человек, назначение которого как особой биологической разновидности заключается в индивидуализации собственного существования, фатально не может сделать этого в границах коллективной жизни. Иной Россия не знала.
Вот почему одна из художественных идей Чехова — «другой человек». Возможен таковой, нет ли — совсем иная проблема, как ее ни назови: политическая, социальная, экономическая, психологическая. Писатель не политик и не экономист, и он отвечает по-своему: необходимо духовное решение; не переменится человек — не будет народа, вернее, только народ и будет — природное сообщество, то, что народилось. И только. Назначение же народа — сообщества людей состоит в том, чтобы дать жизнь более высокой форме, с одной стороны, не предусмотренной всемирным биоморфологическим материалом, но с другой (раз эта непредусмотренная форма все же возникла), нельзя безоговорочно отрицать какой-то предусмотренности. Так вот, назначение народа — содействовать индивидуализации отдельного человека. Для решения этой задачи мало народиться, нужна долговременная, кропотливая работа каждого человека, и назначение общества — содействовать этой работе.
Понижение индивидуальной ценности человека было тем пугающим процессом, который почувствовал Чехов-художник, и это уловили в его творчестве чуткие наблюдатели. В ялтинской речи 1904 г., посвященной памяти писателя, С.Н. Булгаков сказал:
«Чеховым ставится под вопрос и подвергается тяжелому сомнению... доброкачественность средней человеческой души (...), ставится коренная и великая проблема метафизического и религиозного сознания — загадка о человеке»29.
Эта загадка состоит, помимо прочего, в ответе на вопрос: удастся ли вырваться из мира, который многие отечественные мыслители понимали как мир «своего пути», да и сам автор — устами литературных персонажей и собственным голосом — называл миром, где через двести-триста лет жизнь будет изумительно прекрасной? Художественная мысль писателя, т. е. мысль, заключенная во всей совокупности его сочинений, а не в отдельных произведениях, противоречила, как нередко бывает, его прямым суждениям. Самой яркой чертой «своего пути» оказалось то, что делает жизнь людей непереносимой, превращает их существование в какую-то невиданную прежде форму жестоких испытаний, под действием которых убывала и убывала человеческая душа, замещаясь инстинктом, направленным на поддержание простого физического бытия, делавшегося все грубее, примитивнее, пока, наконец, присутствие в человеке души не становится сомнительным, по словам философа.
Полагаю, такое содержание можно вычитать в сюжетной схеме части чеховских рассказов — содержание «антропологического понижения». Но и у этой ситуации нет никакого предела. В «Вишневом саде» персонажи не имеют сил и средств уберечь сад от запустения, исчезновения. Им предложен единственный проект спасения: уничтожить сад как целое, продать на участки дачникам, тогда хоть что-то останется. Они на это не идут, предпочитая гибель всего (Лопахин, купив сад, вырубает деревья: нужна земля), вместо того, чтобы спасти себя. Гибель сада — образ гибели людей, цепляющихся за то, что гибели обречено. А ведь в пьесе произносят: «Вся Россия наш сад!»
Следовательно, сюжетной структурой своих произведений («Вишневый сад» удовлетворяет вышеназванному признаку: люди страстно хотят сохранить сад, им предлагают средства, но они ими не могут воспользоваться) Чехов пророчит, как и подобает истинному художнику, судьбу России: старая жизнь ушла, вырублена, бессмысленно хранить пустое место, однако «антропология» не отпускает: человек назначен быть гением, богом, а между тем обычная человеческая жизнь здесь еще не начиналась, и люди, так и не пожив людьми, превращаются в разновидность органического материала. Герой рассказа «Моя жизнь» вынужден относиться к окружающим, как мусору, портящему красоту пейзажа:
«Тополи, покрытые росой, наполняли воздух нежным ароматом (...) Я любил эту зелень, тихие солнечные утра..; но люди, с которыми я жил, были мне скучны, чужды и порой даже гадки».
Таня в «Черном монахе» признается:
«Спасибо, Андрюша, что приехал. У нас неинтересные знакомые, да и тех мало. У нас только сад, сад, сад — и больше ничего (...) Вся наша жизнь ушла в сад, мне даже ничего никогда не снится, кроме яблонь и груш».
Рассказ этот представляет как бы эссенцию чеховской антропологии. За несколько мгновений до смерти в сознании героя проносится мысль, «что он гений и что он умирает потому только, что его слабое человеческое тело не может больше служить оболочкой для гения».
Чем же слабо тело? Да тем, что вся жизнь человека уходит или на сад, или на незамысловатое органическое существование и никак не может добраться до того, что и составляет ее смысл, — до самой человеческой жизни.
Существо, рожденное, чтобы стать человеком, постоянно сбивается на какие-то до- или вместочеловеческие формы: растения, минерала, животного. Постепенно возникает мысль, что человек — это лишь идеал человека, пылкая мечта материи, нигде и никогда так и не осуществленная.
Да, гений, но ведь гений — лишь вариант мечты, сон наяву. Реальность совсем не то, а грязь, мерзость, запустение, как бы ни выглядело все снаружи. Не случайно появляется в прозе Чехова реплика:
«Культурная жизнь у нас еще не начиналась. Старики утешают себя, что если теперь нет ничего, то было что-то в сороковых или шестидесятых годах; это — старики, мы же с вами молоды, наших мозгов еще не тронул marasmus senilis (старческое бессилие. — В.М.), мы не может утешать себя такими иллюзиями. Начало Руси было в восемьсот шестьдесят втором году, а начала культурной Руси, я так понимаю, еще не было» («Моя жизнь»).
Правда, реплика эта носит локальный характер, внутри конкретного произведения, тогда как самочувствие, жизнечувствие чеховского персонажа выходит за пределы исторических либо национальных границ и распространяется на жизнь как таковую, но историческое и национальное возбуждающе содействует именно таким, а не другим оценкам.
Если вычертить воображаемый график настроений героев Чехова, выйдет нисходящая кривая: некое «прежде» чаще всего воспринимается персонажами как удавшееся, сбывшееся; теперешнее — как безусловное и неуклонное ухудшение, которого нельзя ни остановить, ни перенаправить, и герой относятся к этому как фатальной неизбежности. Не исключено, писатель выразил какую-то существенную черту национального мироощущения: воспринимать современное по регрессирующей шкале сравнительно с былым, речь идет не о том, чтобы дать объективную оценку времени (когда лучше, а когда нет), а именно о чувстве, для которого человеческая жизнь, без всяких сомнений, ухудшается.
Во многих случаях желанным «прежде» оказывается детство либо всякое прошлое вообще. Фирс из «Вишневого сада» дважды сравнивает жизнь, используя масштаб нынешнего и былого:
«Прежде у нас на балах танцевали генералы, бароны, адмиралы, а теперь посылаем за почтовым чиновником и начальником станции, да и те не в охотку идут».
«В прежние времена, лет сорок-пятьдесят назад, вишню или, мочили, мариновали, варенье варили, и, бывало... сухую вишню возами отправляли в Москву и в Харьков. Денег было!.. Способ тогда знали...
Любовь Андреевна. А где же теперь этот способ?
Фирс. Забыли. Никто не помнит».
И вишня хуже, и люди не те. Все деградирует, попадает под действие какого-то нового закона природы. В «Дуэли» персонаж с тоской вспоминает дни своего детства, как «он с непокрытой головой выбегал в сад, и за ним гнались две белоголовые девочки с голубыми глазами, и их мочил дождь; они хохотали от восторга, но когда раздавался сильный удар грома, девочки доверчиво прижимались к мальчику... О, куда вы ушли, в каком вы море утонули, зачатки прекрасной, чистой жизни?»
«Жизнь дается только один раз и не повторяется. Если бы можно было вернуть прошлые дни и годы...».
Истинная жизнь кажется героям Чехова невозвратно миновавшей, а все формы теперешнего проживания — многократно ухудшенным продолжением былого, причем ухудшение оказывается обыденным и не имеющим предела правилом. Но в этой-то жизненной среде — очень важное условие — возникает идея гения как нормы.
В художественной антропологии Чехова эта норма преподносится человеку как идеал. Тем, что люди не в силах достичь собственной нормы; что они постоянно застревают в каких-то закоулках эволюционного пути, объяснимо, почему гений мнится недосягаемой мечтой; почему одержимого тоской по человеческой жизни объявляют сумасшедшим («Черный монах», «Палата № 6») и почему только в предсмертном самочувствии человеку кажется, будто он достиг нормы: он покидает жизнь, расстается с тем телом, которое было всего-навсего инволюционной оболочкой, не позволявшей духу обрести истинную человечность.
Похожие ощущения испытывают многие герои Чехова.
«...Меня томило недовольство собой, было жаль своей жизни, которая протекала так быстро и неинтересно, и я все думал о том, как хорошо было бы вырвать из своей груди сердце, которое стало у меня таким тяжелым» («Дом с мезонином»).
Один хочет вырвать сердце, другой сознает, что в его теле тесно духу. Дело идет словно о перемене анатомического типа: он износился, бременит людей; с ним человек обречен и бессилен достичь той жизни, какую сулят ему порывы его духа — от этих настроений совсем недалеко до лопахинской грезы о великанах как единственном выходе: изменить антропологический образец. Только это средство, согласно художественной мысли Чехова, способно исторгнуть человека из тьмы, в которую он погружается. Средство, конечно, сильное, но по его силе следует судить о густоте обступившей тьмы.
Один из персонажей рассказа «Страх» восклицает в душевной муке:
«Мне все страшно. Я человек от природы неглубокий и мало интересуюсь такими вопросами, как загробный мир, судьбы человечества, и вообще редко уношусь в высь поднебесную. Мне страшна главным образом обыденщина, от которой никто из нас не может спрятаться (...) Мне страшно смотреть на мужиков, я не знаю, для каких таких высших целей они страдают и для чего они живут. Если жизнь есть наслаждение, то они лишние, ненужные люди; если же цель и смысл жизни — в нужде и непроходимом, безнадежном невежестве, то мне непонятно, кому и для чего нужна эта инквизиция».
На этот вопрос в художественной логике писателя нет ответа, ибо вопрос задан так, что нельзя ответить, да и не дело писателя, неоднократно говорил Чехов, отвечать на вопросы; его дело их ставить.
Действительно, нет выбора: или люди лишние, или их жизнь не нужна, бессмысленна. Требуется изменить самый вопрос, но герои не догадываются как, о чем другом можно спросить, чтобы в ответе получить надежду.
В этом разгадка. Они спрашивают не потому, что ждут ответа и разрешения мучающей их проблемы. Они спрашивают, чтобы как-то обнадежить себя: нужен не ответ, а надежда, ибо они чувствуют страх от обступающего мира фатальной безнадежности.
Допустить, что и здесь изображена некая особенность индивидуального восприятия, экзотический случай, неверно, ибо в других рассказах картины, ужасающие героя «Страха», повторяются, и видно: есть от чего ужаснуться, отчаяться, наложить на себя руки.
В небольшом рассказе «Свадьба» столько поводов для невеселого вывода о тоскливой непонятности каждодневного. Выписываю.
Вот о кучере, который повезет молодых венчаться:
«Его протянутые вперед руки с сжатыми кулаками, откинутая назад голова, необычайно широкие плечи придают ему не человеческий, не живой вид; весь он точно окаменел».
Дальше:
«Шаферы прыгают в коляску и, когда она трогается с места, приподнимаются и, корчась, как в судорогах, натягивают на себя свои пальто».
«Солдаты-музыканты копошатся в своей маленькой, темной комнатке... Их «старшой» Осипов, у которого от старости усы и борода сбились в паклю...
Молодые тупо глядят по сторонам, ничего не видят, ничего не понимают».
«У шаферов опять такой вид, словно они с цепи сорвались».
И заканчивается такой «антропологической» нотой:
«Ефим Петрович напивается окончательно и уже никого не узнает. А возле него стоит жена и говорит ему:
«Уймись, безбожная твоя душа. Уймись, истукан, ирод, наказание мое!»»
Пожалуй, ни один европейский автор, современник Чехова, не рисовал столь мрачной картины. Во всяком случае, нигде в отечественной литературе не звучал с такой отчетливостью необходимейший вывод: теперешнее население России может спастись едва ли не посредством антропологических перемен.
Именно Чехов высказал эту догадку с ясностью, прежде не ведомой в нашей литературе, хотя сама по себе мысль эта не нова. У Чаадаева встречается соображение, напоминающее художественную логику Чехова:
«...Чтобы нам вполне переродиться в духе откровения, мы должны еще пройти через какое-нибудь великое испытание, через всесильное искупление... которое на всей земной поверхности ощущалось бы как грандиозная физическая катастрофа; иначе я не представляю себе, каким образом мы могли бы очиститься от грязи, еще оскверняющей нашу память»30.
«Грандиозная физическая катастрофа», по крайней мере, логически может быть соединена с необходимостью нового антропологического типа. Как раз об этом, о «новой антропологии», до Чехова писал Достоевский. Одно из действующих лиц «Бесов», Кириллов, говорит:
«Историю будут делить на две части: от гориллы до уничтожения Бога и от уничтожения Бога до...
— До гориллы?
— ...До перемены земли и человека физически. Будет Богом человек и переменится физически. И мир переменится, и дела переменятся, и мысли, и все чувства».
У Достоевского эта мысль не случайна. Если следить, как она рождалась, ее первое художественное формулирование нужно отнести к «Преступлению и наказанию». Раскольников, отчаявшись, рассуждает: не может быть, чтобы человечество назначено было к такому существованию; должен где-то находиться или возникнуть какой-нибудь закон природы, которым предусматривается появление хоть сколько-нибудь самостоятельного человека, хоть из тысяч одного.
Макар Девушкин, господа Прохарчин и Голядкин, господин Мармеладов — то окружение, которое и у Достоевского, и у Раскольникова вызывало мысль о новом человеке, о другом типе. Об антропологии еще нет речи, но уже Кириллов на нее намекает: до гориллы, после гориллы; физические, почти физиологические перемены, иначе процесс дегенерации усилится, примет неконтролируемые формы, и существование превратится в заурядную хронологическую проблему, так сказать, вопрос времени, Спасение, повторяю, в другом человеке, надежды на историческое движение уже нет.
Слова Кириллова — отдаленное предвестье того кризиса, который наглядно проявился в 1 и 2 мировых войнах, европейских революциях 1917—1918 гг., в том числе, и в России. Спустя пятьдесят лет после Достоевского другой русский автор подтвердил его прогноз, внеся в него определенность, не допускающую разночтений:
«Старый мир новой истории (он-то, именующий себя все еще по старой привычке «новым», состарился и одряхлел) кончается и разлагается, и нарождается неведомый еще новый мир». «Все категории мысли новой истории, все ее направления кончены, и начинается мышление нового мира». «Революция (1917. — В.М.) не восход, не заря, не начало нового дня, а закат, сумерки, конец старого дня»31.
Всякий, кто интересовался настроениями конца XIX и начала XX века, знает, что можно заполнить не один десяток страниц похожими признаниями. Их авторы, насколько это ясно в наши дни, при безусловной справедливости общего ощущения идущих перемен, во многих случаях либо не предвидели их содержания, либо попросту ошибались. Н.А. Бердяев оказался проницательнее, утверждая, что новизна не нова, но лишь «закат, сумерки, конец старого дня».
Конечно, наш мир — «новый мир», но только в том смысле, что без малейших ныне сомнений свидетельствует о полной исчерпанности эпохи (как ее ни назови), которую он якобы сменил, а в действительности решительно и бесповоротно закончил — со всеми признаками, свойственными историческому финалу, для нас, будем надеяться, промежуточному, а не окончательному.
Чехов приходит к мысли, высказанной персонажем «Бесов»: пока человек мал, ничего не выйдет и с переменою мира. Нынешнее человечество, согласно художественному мировоззрению русского писателя, вырождается — этим объясняю бессознательные мифологические параллели в его творчестве. Почти одновременно с Чеховым близкое суждение высказал Ницше: «Человек должен быть преодолен»32.
Но может ли быть преодолен? — этот вопрос мучил Чехова, и его творчество не дает ответа. Правда, наблюдавшие Россию после Чехова дали на этот вопрос ответ неутешительный.
Решение Чехова, сказал я, носит национальный характер. Подкрепляю предположение ссылкой на статью отечественного мыслителя, П.Д. Юркевича, «Сердце и его значение в духовной жизни человека» (1860).
Анализируя образы сердца в книгах Священного писания, сравнивая их содержание с взглядами современной ему науки, автор заключает:
«...Деятельность человеческого духа имеет своим непосредственным органом в теле не одну голову или головной мозг с нервами, к нему идущими, но простирается гораздо дальше и глубже внутрь телесного организма (...) Телесным органом души может быть не что иное, как человеческое тело»33.
Близких мыслей придерживались первые славянофилы, среди них И.В. Киреевский, А.С. Хомяков. Не трогая бытовавших меж ними различий, замечу, что оба относились к мышлению не как деятельности головы, но всего человека, полагали мысль делом не столько умственным, сколько нравственным. Она тогда лишь становится истинной, когда разовьется до невыразимости, захватит всего человека, сделается задушевной, т. е. проникнет до самых заповедных слоев натуры, как бы за душу.
Если так, то те качества, которыми наделены чеховские персонажи и которыми характеризуется попятное движение эволюции, могут быть преодолены только при условии (буквально или фигурально понимаемом) перемены антропологического типа — тогда-то все и переменится: «И лицо, и одежда, и душа, и мысли» («Дядя Ваня»); «и мир, и дела, и мысли, и все чувства» («Бесы»).
Почти дословное совпадение Чехова с Достоевским есть лишь косвенное и второстепенное свидетельство того, что идея «другого человека», прочитываемая у Чехова, есть давняя традиция русской художественной (а затем и философской) мысли; есть, следовательно, национальный вариант решения всемирной задачи, воспринимаемый, конечно, перво-наперво в качестве средства национального спасения.
Раз об этом зашел разговор, еще одно, удивительное с первого взгляда, подтверждение родства Достоевского и Чехова, причем в этом совпадении оба высказались, я думаю, о каком-то существенном свойстве национального духа.
В упоминавшемся рассказе «Счастливчик» персонаж произносит:
«Если вы не бываете счастливы, то сами виноваты! (...) Захотите, и вы будете счастливы, но ведь вы не хотите. Вы упрямо уклоняетесь от счастья».
В «Бесах» Кириллов говорит Ставрогину:
«Человек несчастлив потому, что не знает, что он счастлив, только потому. Это все, все! Кто узнает, тотчас сейчас станет счастлив, сию минуту (...) Всем тем хорошо, кто знает, что все хорошо. Если б они знали, что им хорошо, то им было бы хорошо, но пока они не знают, что им хорошо, то им будет нехорошо».
Обе эти художественные мысли интегрируются суждением П.Д. Юркевича:
«...Никакие действия и возбуждения, идущие от внешнего мира, не могут вызывать в душе представлений или чувствований, если последние несовместимы с сердечным настроением человека. В сердце человека лежит основа того, что его представления, чувствования и поступки получают особенность, в которой выражается его душа...»34.
Именно русская литература целиком, русская мысль отчасти высказали твердое убеждение: ничто не изменит, не улучшит жизни людей, покуда они сами в себе не изменятся, не улучшатся, по этой самой причине со времен Пушкина формируется художественное мнение: никакие общественные перемены не могут быть предпосылкой внутренних перемен человека, он связан с обществом, зависим от него, но чем больше эта зависимость, тем он меньше человек, и надежда на социальные преобразования, по сути, нечеловеческая надежда. В ком не осталось ничего истинно человеческого, уповает на внешние силы, которые по самому своему характеру не могут интересоваться тем, что дорого человеку, — самим человеком: для них он всегда и во все времена служил только средством, тогда как для самого себя он является началом и концом мироздания, космоса, вечности. «Прежде чем приходить в смущение от окружающих беспорядков, не дурно заглянуть всякому из нас в свою собственную душу... Бог весть, может быть, там увидите такой же беспорядок, за который браните других (...) Лучше в несколько раз больше смутиться от того, что внутри нас самих, нежели от того, что вне и вокруг нас» (Гоголь. «Выбранные места из переписки с друзьями»).
Теперь, ко времени Чехова, завершившего эпоху русской классики (ниже скажу, почему так думаю — не по соображениям хронологическим, конечно, хотя нельзя совсем отбрасывать совпадений цифровых: русская классика — это XIX столетие, и его конец есть и ее конец), прояснилось, почему так писали Гоголь и Достоевский. Помимо проникновения их, глубоких сердцеведов, к существу человеческой натуры, они выразили едва ли не закон бытия человека в России.
В одной части закон сей повторял закон человеческий: каков человек — сильнее прочего зависит от самого человека; он есть то, чем хочет стать, а его хотение от него и зависит, снаружи его не вложить. Сколько бы внешних, благих и неблагих, перемен ни происходило, они ничто, пока человек не изменится в себе.
Но в другой части этот закон имеет только отечественное распространение, ибо в России перемены столь мало значат, что ими можно пренебречь, они касаются социальной формы, содержание же из века в век остается таким, при котором сам человек никогда не берется в расчет и всегда оказывается только средством, якобы необходимым для достижения его, человека, целей. В России не было и нет человека в качестве социального явления, он лишь словесная категория, потому так уповают писатели на человека — явление индивидуальное, и единственный выход для русского не просто убедить себя, что он счастлив, а добиться этого независимо от всегда и во всем несчастной жизни. Для этого, по свидетельству художественной антропологии Чехова, надлежит изменить антропологический тип, т. е. прежнюю, исторически сложившуюся психологическую и гносеологическую организацию человека.
У героя Достоевского эта идея — своего рода прозрение, пророческая интуиция. У Чехова она — самая что ни на есть конкретно-немедленная реакция на окружающее, задача не культурная, а едва ли не биологическая. Астров в «Дяде Ване» признается:
«...И все вы, братцы, представляетесь мне такими букашками... микробами».
Припоминается Дифтерит Алексеевич.
У Достоевского «другой человек» — некая экстатическая греза, но уже у Чехова — жизненная необходимость, иначе, как знать, не превратится ли сперва Россия, а за нею и человечество в скопление микробиологической флоры, для какового предположения именно чеховская проза дает много печальнейшего материала. В этой, кстати, связи метафорой гигантского смысла становится тот факт, что одна из последних вещей писателя названа «Вишневый сад». Эта вегетативная аналогия человеческой жизни наводит на мысль, что Астров (еще одна «вегетативная» фигура) со своими «микробами» не далек от истины, по крайней мере, не далек с инволюционной точки зрения.
Образы Чехова не только результат авторских наблюдений за человеком как таковым, но прежде всего за человеком в России. Писатель создал портрет Отечества и соотечественников, причем, в отличие от своих великих литературных предшественников (Гоголя, Гончарова, Достоевского, Толстого), он брал героев из разных слоев, и созданная им картина позволяет спросить, рассчитывая на ответ: каковы образы России, русских в его творчестве?
Рукопись «Дамы с собачкой», 1898
Примечания
1. Измайлов А. Чехов. Биографический набросок. М., 1916. С. 340.
2. Измайлов А. Чехов. Биографический набросок. С. 341.
3. Против буржуазного либерализма в художественной литературе. Дискуссия о «Перевале» (апрель, 1930). М., 1931. С. 50.
4. Соловьев В. Сочинения в двух томах. Т. 2. М., 1989. С. 169.
5. Соловьев В. Т. 2. С. 152. Курсив автора.
6. Бердяев Н. Цитир. соч. С. 293, 295.
7. Катаев В. Литературные связи Чехова. М., 1989. С. 18—25.
8. Федотов Г. Судьба и грехи России. Избранные статьи. Т. 2. СПб., 1992. С. 192.
9. Белый А. Критика. Эстетика. Теория символизма. В двух томах. М., 1994. Т. 1. С. 321.
10. Там же. С. 322.
11. Андреев Л. Повести и рассказы. Челябинск, 1979. С. 180.
12. Там же. С. 185.
13. Замятин Е. Сочинения. М., 1978. С. 549.
14. Там же. С. 249.
15. Волошин М. Стихотворения. Статьи. Воспоминания современников. М., 1991. С. 115.
16. Замятин Е. С. 327, 321.
17. Замятин Е. Избранное. М., 1989. С. 392.
18. Катаев В. Проза Чехова. Проблемы интерпретации. М., 1979. С. 85.
19. Белый А. Т. 1. С. 322. Курсив автора.
20. Набоков В. Из лекций по русской литературе, прочитанных в летней школе Стенфордского университета в 1941 г. // Театр. 1991. № 1. С. 76.
21. Розанов В. Сочинения. М., 1990. С. 418.
22. Горький М. Собрание сочинений в тридцати томах. М., 1954. Т. 28. С. 113.
23. Чехов в воспоминаниях современников. М., 1960. С. 541.
24. А.П. Чехов. Литературный быт и творчество по мемуарным материалам. Сост. Вал. Фейдер. Л., 1928. С. 298. Дальше цитируется как Фейдер.
25. Литературное наследство. Т. 68. М., 1960. С. 519.
26. Чехов в воспоминаниях... С. 464—465.
27. Тургенев И. Полное собрание сочинений и писем в двадцати восьми томах. Письма в тринадцати томах. Т. 7, М.; Л., 1964. С. 13.
28. Тургенев И. Письма. Т. 2. М.; Л., 1961. С. 108.
29. Булгаков С. Чехов как мыслитель // Новый путь. 1904. № 10. С. 48. Окончание в № 11. Есть отдельное издание с тем же названием: Киев, 1905.
30. Чаадаев П. Статьи и письма. М., 1989. С. 139.
31. Бердяев Н. Новое средневековье. М., 1991. С. 5, 6.
32. Ницше Ф. Полное собрание сочинений. М., 1910. Т. 9 «Воля к власти», § 676.
33. Юркевич П. Философские произведения. М., 1990. С. 78.
34. Юркевич П. С. 81—82.
| Предыдущая страница | К оглавлению | Следующая страница |