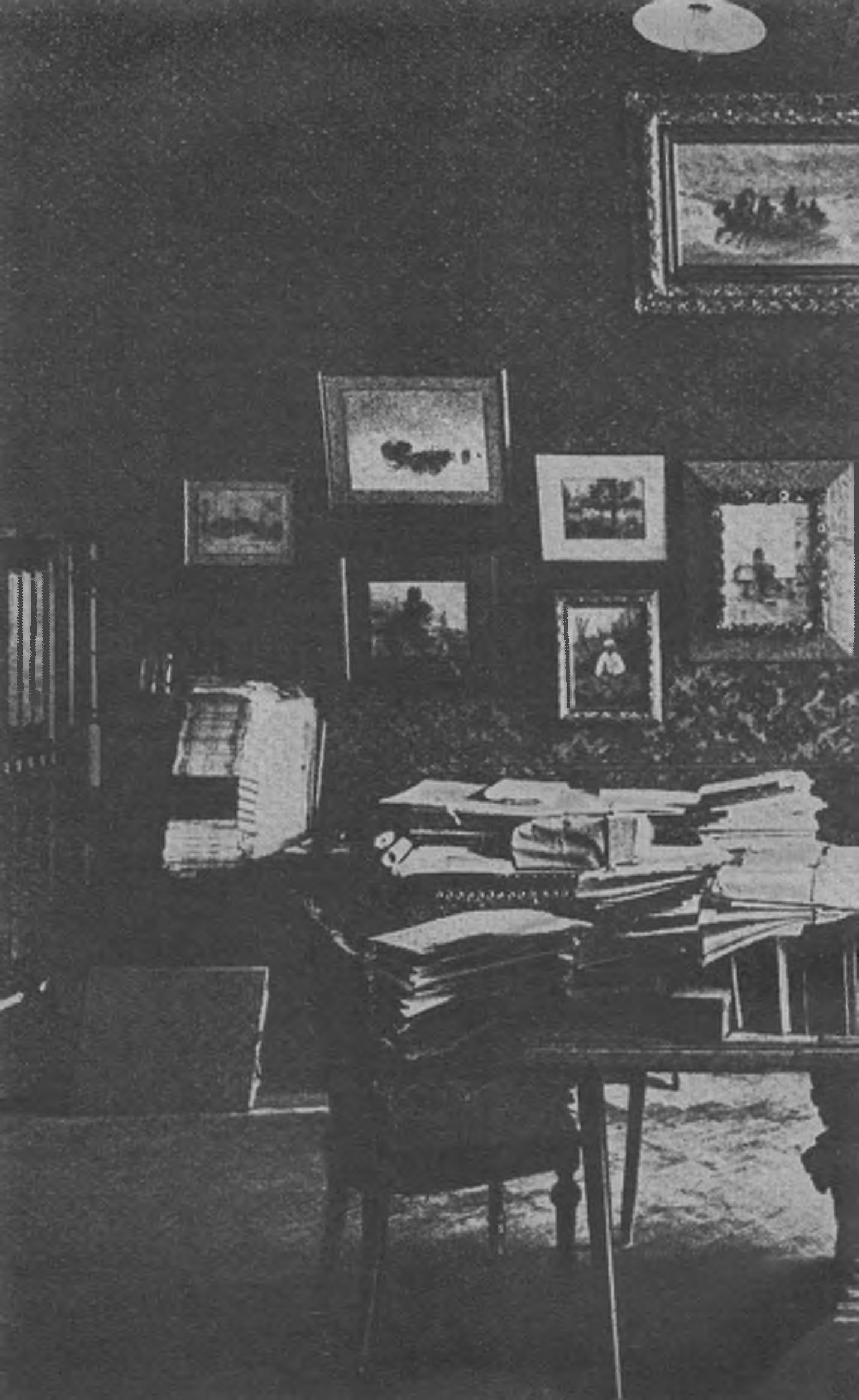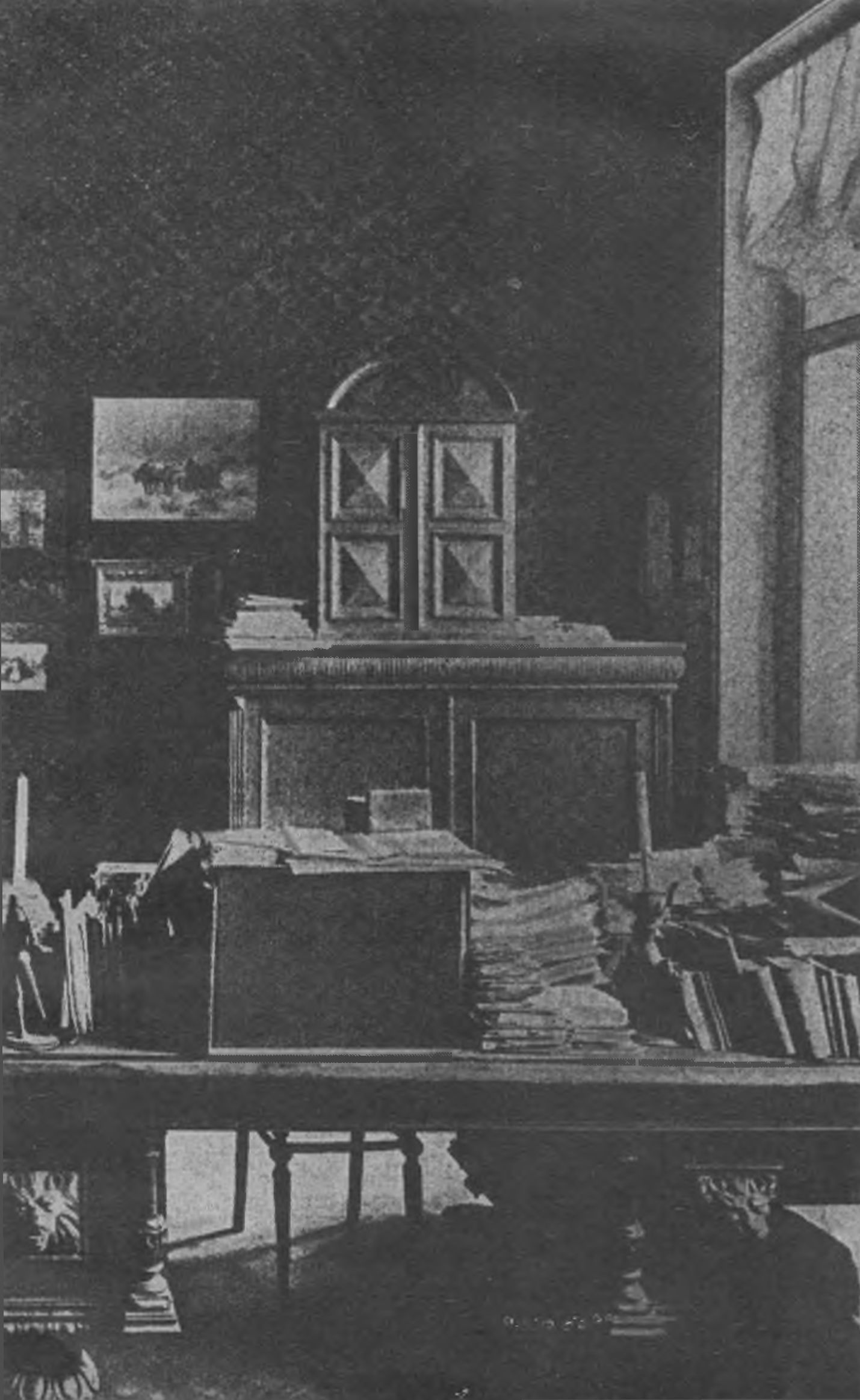По образному выражению одного известного публициста, Адольф Федорович Маркс сделал «для России больше, чем иной министр народного просвещения»1. Подобным же образом много лет спустя скульптор С.Т. Коненков охарактеризовал деятельность другого русского издателя — И.Д. Сытина2. Вряд ли такого рода совпадения объясняются случайностью, скорее всего, их порождает общность явлений да известная давно истина, что министром становятся по назначению, а издателем — по призванию. По такому же точно призванию, какое должно быть у писателя, художника, артиста, инженера, врача. Естественно, если речь идет не о ремесленнике, а о настоящем враче, инженере, артисте, художнике, писателе; если речь идет о человеке, который видит в избранной профессии свое назначение.
Книжному делу Адольф Федорович Маркс посвятил всю свою сознательную жизнь. Он начинал мальчиком в магазине, а в день смерти владел крупнейшими в России издательством и типографией. История сохранила мало его портретных зарисовок, а те, что остались, чрезвычайно фрагментарны. Но суммируя отдельные высказывания и клочки воспоминаний, можно составить известное представление о нем.
«Я видел Маркса всего три раза в жизни, — писал А.В. Амфитеатров, — и единственными личными впечатлениями, которые вынес я из этих свиданий, остались необычайная деловитость, быстрая сметливость и решительность его в издательских вопросах. Это был огневой старик, даром что плохо слышал. Видел я также, что обожают его служащие и держит он всех на крепкой хозяйской узде, но его все уважают и любят. Он сумел остаться с народом, от него зависевшим, на полутоварищеской ноге, как мастера на то порядочные хозяева больших немецких фабрик, сами вышедшие из рабочих, у которых за станками еще трудятся старые сверстники либо дети старых сверстников. В «Ниве» Маркса было очень «просто», именно по-фабричному просто — веяло духом деятельнической работы, а не бюрократического священнодействия»3.
Рабочий день издателя «Нивы», как вспоминал ее редактор Луговой, начинался в 9 часов утра, минута в минуту, строго по заведенному ритму. Не по годам легко поднявшись по широкой лестнице, Адольф Федорович сразу входил в свой кабинет и, «точно боясь опоздать», садился за огромный письменный стол, «обремененный со всех сторон кипами уложенных в строгом порядке бумаг, книг, рисунков, рукописей». Открыв все ящики стола, он надевал очки и приступал к сортировке корреспонденции и разборке бумаг. Бегло ознакомившись с наиболее важными из них, он быстро проходил по анфиладе комнат, чтобы поздороваться с сотрудниками и, обменявшись с некоторыми из них деловыми репликами, возвращался к себе. На этот раз он более внимательно просматривал накопившиеся бумаги и только после этого вызывал для доклада управляющего конторой, затем редактора, с которым обсуждал материал очередного номера, после чего принимал авторов.
К концу дня занятия принимали иной характер. Обычно, если в том была надобность, он сам отвечал немецким и французским корреспондентам, но чаще эти часы посвящал редакционной работе или самому любимому делу — подготовке карт для атласов. В последнем случае он мог забыть обо всем на свете и засидеться с профессором Э.Ю. Петри до позднего вечера. Тогда установленный порядок нарушался и уже в неурочное время вызывался «управляющий типографией брат А.Ф., Рудольф Федорович, которому по телефону был назначен этот час аудиенции для объяснения по делам типографии»4.
После окончания работы, в 19.00, он, как правило, еще некоторое время оставался в своем кабинете, аккуратно укладывал бумаги и очень часто брал с собой домой очередную из предложенных рукописей.
«Осенью 1897 года А.Ф. заболел настолько серьезно, что доктора опасались за исход его болезни. Никого, кроме жены да управляющего конторой, покойного Грюнберга, к нему не допускали. Он, всегда точный и пунктуальный, задержал тогда на две недели выпуск «Иллюстрированной библиотеки «Нивы»», так как не мог себе представить, чтобы книга вышла без его присмотра. Едва поднявшись с постели, с одышкой, слабым голосом, побелевший, похудевший, кутаясь в халат, вопреки угрозам доктора, он «по четверти часа в день» занимался корректурными листами и беседовал с редактором»5. Случай оказался из ряда вон выходящим, и его многие запомнили.
«Маркс был издателем исключительного трудолюбия и работоспособности; дни и ночи безвыходно он проводил в редакции, следя за малейшими деталями дела и внимательно изучая читательские требования», — свидетельствовал хорошо его знавший художник И.Н. Павлов6. Тесно связанный с редакцией «Нивы» на протяжении ряда лет И.Э. Грабарь считал необходимым отметить еще одно качество Маркса — исключительное умение подбирать себе дельных помощников: «Осторожный и умный Маркс создал свое гигантское издательское дело не столько сам, собственными усилиями, сколько умелым подбором людей. Особенно <...> ему повезло с выбором Грюнберга, давшего делу тот его размах, который обозначился уже в 80-х годах, но достиг своего апогея к началу века. Адольф Федорович умел неотступно вести намеченную линию, не сбиваясь на мелочи. Он не был жаден и скуп, как большинство людей, превратившихся из бедняков в миллионеры. Он шел на широкие перспективы и не жалел затрат, если его удавалось убедить в своевременности и беспроигрышности той или другой затеи»7.
В черточках набросанного портрета издателя «Нивы» проглядывают качества, обеспечившие успех его начинаний: любовь к делу, железное трудолюбие, неукротимая энергия, организаторский талант и деловая безупречность. Сын своего времени, он руководствовался теми принципами, которые выработало общество, которому он принадлежал и законами которого следует его судить. Наивно было бы полагать, что, вступая на издательское поприще, Адольф Маркс думал исключительно о просвещении русского народа. Ничего подобного. В тот момент перед ним стояла одна цель, одна задача: создать свое «дело». Но преуспеть он мог и в других, более легких и выгодных предприятиях. Однако из всех путей к успеху выбрал любимое им книжное дело и посвятил ему всю свою жизнь. Сознательно или интуитивно он сделал свой выбор, понимал ли в полной мере, что нужно тому народу, интересам коего собирался послужить, вопрос, в сущности, праздный, ибо никто и никогда не ответит на него с полной определенностью.
Маркс начинал с «ничего». У него не было ни имени, ни денег, ни связей. Он зависел от авторов не менее, чем от подписчиков. Не имея высокопоставленных друзей, он всегда должен был помнить о «власть предержащих». И все же он ничем и никогда не запятнал своего имени. И.Н. Потапенко писал, что Маркс «в своей издательской карьере действовал смело, с риском, но никогда не прибегал к шахер-махерству и всегда добивался успеха честными средствами»8. «Издательским тактом он был наделен в высокой степени. Для изданий, подобных «Ниве», русские цензурные условия тяжелы чрезвычайно, и, чем более распространеннее издание, тем более строго и подозрительно следящее за ним «недреманное око». «Политика», в каком бы то ни было виде, в «Нивах» и т. п. совершенно невозможна, и потому «направления» от них нельзя и требовать. Но сплошь и рядом видели мы примеры, как эти издания, в изворотливости перед цензурною властью, старались обеспечить свое существование таким угодничеством даже не учреждению, а вкусам и взглядам того или другого лица, ведавшего учреждением, стремились доказать свою благонадежность таким святошеством и «квасным патриотизмом», что цензора и то <...> говорили о них с отвращением. <...> Маркс провел «Ниву» незапятнанною в этом отношении», — отмечал другой, не менее известный, публицист А.В. Амфитеатров9. Автор «Господ Обмановых» знал, как создаются богатства на Руси, а потому и счел необходимым сказать несколько добрых слов об удачливом чужеземце, резко выделив его из ряда многочисленных охотников за золотым тельцом.
Современники не без оснований называли Маркса одним из творцов высоких литературных гонораров. Казалось, не считая денег, опережая конкурентов, перекупал он права литературной собственности за десятки тысяч рублей. А ведь, что греха таить, русские литераторы до него не могли похвастаться большими гонорарами. При продаже имущества А.Ф. Базунова, после его разорения, по оглашенной расписке Глеба Успенского выяснилось, что издатель платил ему 8 руб. с листа, а Николаю Успенскому — еще меньше: за целый сборник рассказов было уплачено всего-навсего 25 руб. Немногим больше получал и Лесков — 30 руб. за лист. Писемский был счастлив, когда продал Ф.М. Стелловскому на пять лет право издания всех написанных им восемнадцати романов, повестей и пьес за 8 тыс. руб., и с гордостью писал, что русская беллетристика встала на прочные ноги, раз находятся люди, идущие на подобный риск. (Как помнит читатель, надежды Стелловского на успех этого издания не оправдались10.)
В 80-е годы литературные гонорары несколько поднялись. Недаром некий издатель в одном из стихотворений Некрасова, сокрушенно вздыхая, говорил:
«Дорог ужасно Тургенев —
Публики первый герой —
Это Елена, Берсенев,
Этот Инсаров... ой-ой!
Выгрузишь разом карманы
И поправляйся потом!
На Гончарова романы
Можно бы выстроить дом»11.
Но эти писатели уже при жизни считались классиками. Поэтому когда Маркс в октябре 1883 г. предложил Григоровичу за его новую повесть «Гуттаперчевый мальчик» 400 руб. с листа, то Виктор Павлович Гаевский, самою судьбой призванный защищать авторские интересы, советовал писателю не раздумывая нести рукопись в «Ниву». Прочитав повесть, Маркс увеличил ставку и уплатил автору 2000 руб., исходя из расчета 500 руб. за лист. «Григорович в восторге», — отмечал в «Дневнике» Гаевский12.
Мало кто мог упрекнуть издателя «Нивы» в скаредности. «Я знаю многих литераторов, — писал Амфитеатров, — которые, отправляясь к Марксу для условий, соображали, сколько бы «заломить» с него, и возвращались весьма сконфуженные, потому что старик, не дав еще им высказаться, сам предлагал гораздо больше, чем они собирались просить»13. И так было всегда, даже задолго до того, как состояние Маркса стало оцениваться в несколько миллионов. Когда в 1887 г. никому не известный автор двух рассказов П.П. Гнедич «заломил» с Маркса за повесть, как ему самому показалось, громадный гонорар — 10 коп. за строку, «Маркс сейчас же на это согласился»14. А ведь три года спустя редактор «Стрекозы» платил начинающему Чехову половину этой ставки.
Гонорары, установленные в «Ниве» с первых же дней существования журнала, заметно отличали его от других аналогичных изданий. Беллетристы получали за лист 100, 150, 175 руб. и более. Библиографы и переводчики — от 20 до 50 руб. Тогда как Суворин гораздо позднее (1884) все еще платил за лист переводного текста 25 руб.15 Гонорары художникам были более высокими, поскольку издатель поначалу особо заботился о художественной стороне журнала. Не считаясь с расходами, он пригласил в «Ниву» известного петербургского гравера Л.А. Серикова с группой учеников и даже доски для них заказывал у лучших русских и зарубежных мастеров. О гонорарах знаменитостей и говорить не приходится. В 1892 г. издатель заключил с И.И. Шишкиным договор, согласно которому художник переуступал ему право на 60 досок с картин 1866—1892 гг. (для различного рода их воспроизведения) за 3800 руб. Сумма эта по тем временам была более чем значительная16. Впрочем, перед, Шишкиным Маркс всегда благоговел и издал выполненные художником офорты (правда, небольшим тиражом) столь великолепно, что, несмотря на весьма и весьма высокую цену (100 руб.), они были быстро распроданы.
Бывало, что благорасположенность, отличавшая Маркса, вступала в противоречие с его экономическими интересами, и тогда последние брали верх; случалось и обратное. Например, известно много случаев, когда Маркс разрешал авторам досрочно использовать проданные ему права на опубликованные в «Ниве» произведения, которые писатели намеревались выпустить отдельными изданиями. Он был расчетлив, но не мелочен.
Современному читателю начатый разговор может показаться не стоящим и выеденного яйца. Велик ли ущерб или доход, полученный от брошюры даже самого известного писателя? От того, что Маркс охотно откликнулся на такого рода просьбы Н.С. Баранцевича, С.Н. Елеонского, В.В. Крестовского и даже А.П. Чехова, он ведь не мог разориться17. Однако сам по себе этот вопрос не так-то уж и прост, как может показаться на первый взгляд. Ведь в такого рода просьбах многие издатели видели покушение на их собственность, а то и умаление своего престижа. Примером тому может служить конфликт, возникший между одной из крупнейших книжных фирм — издательством И.И. Глазунова и связанным с Л.Н. Толстым «Посредником» из-за выпущенного последним рассказа И.С. Тургенева «Перепелка».
«Посредник» выпустил брошюрку дешевым изданием, рассчитанным на народного читателя, руководствуясь тем, что рассказ этот был написан Тургеневым по просьбе Софьи Андреевны Толстой для подготавливаемого ею сборника рассказов для детей и подарен ей автором, к сожалению, не закрепившим своего презента соответствующим актом.
Воспользовавшись этим обстоятельством, Глазунов предъявил иск «Посреднику». «Как-то плохо верится, чтобы Ваша почтенная фирма желала начать судебное преследование против нашей фирмы, которая ни в коем случае не является ей конкурентом, так как работает исключительно для своего народного лубочного рынка, очищению и просвещению которого мы посвящаем все наши силы», — оправдывая свои действия, писал Глазунову в январе 1892 г. руководитель «Посредника» Горбунов-Посадов. Однако Глазунов передал дело в Московский окружной суд. Встревоженный начавшейся перепиской, другой руководитель «Посредника», В.Г. Чертков, просил известного юриста С.В. Унковского «помочь миролюбивому разрешению возникшего недоразумения в том смысле, чтобы у нас не была отнята возможность издавать для народа этот рассказ». Пытался он уговорить и Глазунова «задержать дальнейший официальный ход дела», предлагая возместить понесенный убыток, но напрасно. Глазунов требовал от «Посредника» не только возмещения ущерба, который он якобы понес от выпуска брошюры, но и публичного признания факта принадлежности ему всех ранее опубликованных произведений Тургенева.
Закон был на стороне Глазунова; «Посреднику» пришлось выплатить ему 500 руб. компенсации, хотя фирма не получила от издания этого рассказа и рубля прибыли, а также нотариально признать свою ошибку. Глазунов даже не согласился на рассрочку штрафа18.
Аналогичная ситуация возникла, когда «Посредник» вознамерился переиздать рассказы Лескова, написанные специально для них, но юридически принадлежавшие Марксу, так как писатель не оформил дарственной. Не в пример Глазунову, выполняя волю покойного, Маркс разрешил «Посреднику» бесплатную перепечатку рассказов.
«А.Ф. любил говорить, — писал Луговой, — что «у него такой масса материал», — и ни одной минуты не останавливался перед покупкой нового, свежего, лучшего»19. Стремление Маркса приобрести авторские права на возможно большее число произведений русских писателей, купить рукописи, часть которых заведомо имела ничтожные шансы увидеть свет, современники объясняли желанием увеличить вероятность получения наиболее ценных и интересных материалов или чуть ли не благотворительными целями. Несомненно, основания для тех или других предположений имелись, но все же руководствовался он иными соображениями.
Конкуренция, и ничто другое, заставляла его идти на громадные затраты и заведомые издержки. Он отлично понимал законы экономической борьбы и не надеялся ни на свою издательскую интуицию, ни на основательное знание рынка. Чтобы опередить конкурента, надо было заранее обладать тем, что в тот или иной момент могло вызвать общественный интерес. Вряд ли ему импонировало творчество М. Горького, тем не менее он упорно и настойчиво домогался его участия в «Ниве»20. Маркс чувствовал веяния времени и в своей практике, насколько это было для него возможно, их учитывал.
Покупая рукописи, он никогда не руководствовался принципом «авось пригодится», он брал только то, что, так или иначе, могло послужить для дела. Во многих случаях эти расчеты не оправдались. Но тому были свои причины21.
В этом отношении весьма показателен ответ Маркса на предложение критика Н.М. Соколова издать его очерк «Лирика Я.П. Полонского». Обращаясь к Марксу, автор, по-видимому, рассчитывал на то, что тот ранее выпускал подобные работы (например, в 1888 г. был издан биографический очерк М. Златковского «Аполлон Николаевич Майков»). К тому же Полонский часто печатался в «Ниве», и, главное, за два года перед этим Маркс издал его «Полное собрание стихотворений». Однако, вопреки ожиданиям, издатель не принял заявки, мотивируя отказ возможностью выпуска лишь такой критической работы, «которая, будучи сама вполне популярна и общедоступна, поставила бы себе задачей сделать популярным и разбираемого автора в том смысле, чтобы вызвать в большем круге образованных читателей интерес к произведениям этого автора»22. Очерк же Соколова касался сложных проблем поэтики и задач художественной критики и был рассчитан на узкий круг ценителей поэзии. Другими словами, не отвечал задаче, сформулированной издателем. Если в данном случае речь шла о соответствии рукописи целевой установке печатаемого издания, то столь же требователен он был, когда имелась в виду литературная сторона вопроса. Сохранилось любопытное письмо некоего А.Я. Погодина, искренне недоумевающего, почему отклонен его перевод, текстуально повторяющий со всеми отмеченными Марксом недостатками подлинник23. Переводчик никак не мог уразуметь, что от него требовалось отнюдь не слепое следование букве оригинала.
Тот же Луговой вспоминал, как в бытность его редактором «Нивы» Маркс безжалостно отклонял произведения, которые, по его мнению, не подходили для круга читателей журнала, были мелкотемны и серы: «Это такой маленькие вещи и такой большой смертный скука», — говаривал он, отказываясь от предложенных редактором рукописей24. Правда, далеко не всегда отказ вызывался экономическими или эстетическими моментами. Бывали случаи, когда он объяснялся и политическими причинами. Так, например, в начале века (1902) Маркс отказался от предложения сына Толстого Льва Львовича перевести для него сказки французского публициста и общественного деятеля Эдуарда Лабуле, откровенно объясняя свой шаг тем, что они ему «не совсем удобны по своей чисто политической подкладке»25.
Имя писателя далеко не всегда служило гарантом положительного ответа. Сохранилось письмо Г.П. Данилевского от 18 (30) июля 1889 г., в котором он предлагал Марксу выпустить иллюстрированным изданием свои сказки, неоднократно выходившие перед этим без рисунков у Суворина. Судя по сохранившейся переписке, Маркс соглашался сделать это только на условиях, как бы мы сейчас сказали, «заказного издания»26.
Аналогичной оказалась и судьба предложения А.И. Куприна (январь 1902 г.), рекомендовавшего Марксу издать небольшой сборник рассказов Н.Д. Телешова о переселенцах. Отвечая Куприну, Маркс писал, что готов отпечатать книгу в своей типографии, но только за счет автора, и распространить на комиссионных началах, так как его «контора чужих изданий для продажи не держит»27. (В чем, кстати, заключалось одно из основных его отличий от подавляющей части издателей-современников).
Что сыграло в данном случае свою роль: острота темы и осторожность издателя или какие-то иные соображения — сказать трудно. Важно другое — заинтересованный в сотрудничестве с Г.П. Данилевским и А.И. Куприным, Маркс отказывался от их предложений, хотя возможные убытки от рекомендуемых изданий не могли идти ни в какое сравнение, допустим, с теми, которые вызывались изданием «Мертвых душ».
Сколь решительно Маркс отвергал непонравившиеся ему рукописи, столь же быстро он принимал решение, когда они его интересовали. Так, прямо на письме Я.П. Полонского от 4 апреля 1895 г., в котором поэт выставлял условия издания собраний своих сочинений, он делает расчет его себестоимости, заодно проверяя правильность выкладок Полонского28. На письме Николая Успенского, предложившего свои «Воспоминания забытого литератора», Маркс, не тратя времени на лишние слова, произвел расчет и вывел сумму следуемого гонорара29.
Не следует, однако, думать, что отношения его с литераторами были если не всегда идилличны, то прямолинейны и просты. И что история с приобретением авторских прав на сочинения Чехова — единственное исключение из этого правила. В жизни все оказывалось гораздо сложнее. И не всегда с достаточной точностью можно сказать, кто же в сложившейся ситуации был прав — автор в своих претензиях или издатель в своих требованиях.
В июле 1901 г. Маркс заключил договор с профессором Казанского университета Александром Сергеевичем Архангельским, взявшимся подготовить к изданию 12 томов Собрания сочинений В.А. Жуковского. Кроме текстологических работ и отбора писем для публикации, Архангельский должен был написать биографический очерк писателя. За весь труд, который переходил «в полную литературную собственность А.Ф. Маркса», составитель получал 1500 руб., но обязывался «не принимать на себя редактирование другого издания В.А. Жуковского ни за свой счет, ни по поручению другого лица»30. (В дальнейшем Архангельскому было выплачено еще 750 руб. за найденные и впервые опубликованные в этом издании произведения поэта.)
Выбор кандидатуры составителя был вполне обоснован. Речь шла о человеке, уже известном своими исследованиями творчества Жуковского*. Может быть, поэтому Маркс и рассчитывал использовать подготовленные Архангельским материалы в последующих изданиях. И специально оговорил в договоре свои права на них.
Полное собрание сочинений Жуковского вышло в 1902 г. А в начале следующего года Маркс узнал, что на основе проведенных розысканий профессор Архангельский собирается выпустить новую работу о Жуковском. Его письмо Архангельскому не сохранилось, но, как дает основание думать ответ адресата, он напоминал ему о своих правах на материалы, связанные с собранием сочинений, и оговаривал возможность издания новой работы тиражом не свыше 1000 экз.
Усматривая в письме Маркса покушение на свои права, Архангельский исключал саму мысль о возможности контроля над его дальнейшими исследованиями. В скупых телеграфных строках он в полных достоинства выражениях писал о безосновательности претензий издателя: «Письмо Ваше получил. Содержанием его до глубины души удивлен и возмущен. Контрактом обязался лишь редактировать издание при «Ниве». Дальнейших ученых трудов своих над Жуковским не продавал. Не продавал и того ученого издания, над которым работаю. Оно принадлежит пока мне и русской науке. Напрасно думаете, что его приобрели за полторы тысячи (здесь Маркс не удержался и сделал пометку карандашом: «Две (тысячи) двести пятьдесят руб.» — Е.Д.). Великодушным позволением издать его в тысяче экземпляров тронут и благодарен. К сожалению, издательством не занимаюсь и должен предоставить это другим»31.
К чести Маркса, он этого вопроса больше не касался. Правда, и Архангельский не нашел издателя для своего труда, который так и не увидел света.
В мае 1904 г. Маркс за 10 тыс. руб. приобрел «право полной и вечной литературной собственности на все без исключения сочинения» Михаила Ниловича Альбова. За предшествующее двадцатилетие писатель выпустил 13 изданий своих трудов общим объемом свыше 150 авторских листов. Как писал его доверенный, «Адольф Федорович не согласился прибавить лишнюю тысячу рублей, на которой я от имени Альбова настаивал на переговорах» из-за «существования условия с Вольфом», поскольку на складах «Товарищества» оставалось чуть более тысячи экземпляров его романа «Ряса»32. Помешать распространению сочинений Альбова, которые вознамерился издать Маркс, нераспроданные остатки книги не могли, да и тысяча рублей была для него не столь уж значительной суммой, но формально издатель вправе был учитывать этот фактор.
В данном случае никто, как говорят, ничего не терял и ничего не приобрел. Но порой возникали ситуации, которые связывали автора и издателя, заставляя даже такого человека, как Маркс, подчиняться силе обстоятельств.
Всеволод Сергеевич Соловьев, сын известного историка С.М. Соловьева, родной брат философа и поэта Владимира Соловьева, был автором многочисленных исторических романов и пользовался у невзыскательной публики большой популярностью. Современники даже называли его «нашим Вальтером Скоттом»33. Считалось, что Маркс платил Соловьеву «крупнейшие гонорары», поскольку именно эти романы обеспечивали успех журнала34. На самом деле Маркс платил Соловьеву 200 руб. за лист, в то время как его бывший друг издатель «Огонька» Герман Гоппе платил другому русскому «Вальтеру Скотту», графу Е.А. Салиасу, на 100 руб. больше.
Как бы то ни было, но делать ставку на одного автора, даже уверившись в успехе его произведений у широкой публики, Маркс не хотел, понимая, что это ставило его в зависимое положение. Поэтому он искал, и небезуспешно, новых исторических романистов.
В начале 1881 г. он попытался снизить гонорар Соловьеву. В ответ тот пригрозил, что предложит свои услуги «Огоньку». Расчет был абсолютно точен: усилить своего конкурента Маркс не намеревался. К тому же он резонно полагал, что разрыв мог создать Соловьеву рекламу и вызвать повышенный интерес к его произведениям. Положение Маркса несколько осложнялось тем, что осенью того же года он открыл собственную типографию и на первых порах, видимо, еще не знал, чем ее загрузить. Поэтому ему пришлось принять предложение Соловьева и приобрести право на одно издание его романов «Касимовская невеста», «Капитан гренадерской роты» и «Наваждение». Но когда в начале следующего года Соловьев предложил на аналогичных условиях издать его самый известный роман «Сергей Горбатов», то Маркс просто ему не ответил. В конце месяца автор вновь повторил свое предложение, угрожая выпустить роман собственным иждивением, прибавив при этом, что в таком случае он не сможет «до появления в продаже этого издания начать печатание в «Ниве» «Вольтерьянца». Если же издание купите Вы, то уж это не будет до меня касаться»35.
Роман «Вольтерьянец» являлся продолжением «Сергея Горбатова» и был объявлен подписчикам. Марксу ничего не оставалось, как, перечитав письмо и подчеркнув в сердцах синим карандашом строки, содержащие условия Соловьева (он любил во всех документах подчеркивать основную мысль), их принять. Однако на этом история злосчастного романа не кончилась. Вознамерившись уйти со службы, Соловьев в следующем письме выдвинул дополнительное требование: выплатить ему две тысячи сверх того, что было обусловлено договором за роман, купить за две тысячи право его издания и приобрести за полцены нераспроданные 900 экз. выпущенного самолично автором романа «Царь-девица». Тут уж Маркс не сдержался и оставил на письме помету: «Публике в 1881 для 1882 был объявлен «Вольтерьянец» — и вот какой штуки Соловьев начинает».
О накале возникшего конфликта свидетельствует ответная записка Соловьева, которую следует, пожалуй, привести, так как она отлично характеризует литературные нравы того времени:
«Любезный Адольф Федорович,
Приехать мне к Вам, конечно, нетрудно; но я боюсь (так как мы оба горячие люди), что у Вас испортится кровь, а у меня лопнет сердце — кто тогда будет кончать роман?!
Ведь я ровно ничего не могу прибавить к тому, что написал в письме моем. Если бы Вы знали состояние моих нервов, то ответили бы прямо на мои вопросы...»36.
И на этот раз условия были приняты. За «Вольтерьянцем» последовал роман «Старый дом», явившийся третьей книгой из серии исторических романов, объединенных общей темой — хроникой дворянского рода Горбатовых, завершившейся в 1886 г. романом «Последние Горбатовы». В том же году между Марксом и Соловьевым произошел окончательный разрыв. Причиной конфликта послужило предложение Соловьева подписать с ним «Основные условия», суть которых заключалась в том, что он за ежегодную плату в 12 тыс. руб. обязывался писать для «Нивы» один большой роман или несколько небольших повестей или рассказов и никогда не печататься в конкурирующих с «Нивой» журналах. Неустойка определялась суммой в 30 тыс. руб.
С «Основными условиями» Соловьев явно опоздал. В год предложения тираж журнала перевалил за 100 тыс. экз., и Маркс получил возможность приглашать более именитых авторов. Со спокойной совестью, отправляя письмо в архив, он сделал на нем помету: «Не принятое мною условие»37.
Не менее сложно складывались взаимоотношения и с другим «нивским» автором, весьма популярным в свое время писателем И.Н. Потапенко, у которого Маркс в 1900 г. приобрел права литературной собственности на все написанные и будущие произведения за 65 тыс. руб. (Правда, новые произведения Потапенко приобретались по несравненно меньшей ставке38.) Потапенко был плодовитым автором, но, как говорят, и «легким» в жизни человеком. Адольф Федорович не единожды выручал его непредусмотренными договором авансами. А однажды просто спас: очутившись одновременно с ним за границей, он выплатил его карточные долги.
Чехов и Потапенко были добрыми знакомыми, пожалуй, их можно назвать и друзьями. Но это были совершенно разные люди не только по своему характеру, но и по отношению к писательскому труду. В этом Марксу очень скоро пришлось убедиться. Чрезвычайно требовательный к себе, Чехов, по словам редактора «Нивы» Сементковского, при подготовке собрания сочинений не только перерабатывал многие ранние произведения, но и «выкидывал много, очень много, между прочим и такие вещи, которые Марксу нравились, и ни разу не уступил в этом вопросе»39.
Опыт, приобретенный при подготовке сочинений Чехова, для Маркса не пропал даром. По его настоянию Потапенко также обязался проредактировать свои сочинения. В кратком предисловии к ним он писал: «Приступая к столь ответственному делу, я тщательно пересмотрел весь материал, многое исправил, а многое устранил вовсе...» Однако заниматься кропотливой работой ему оказалось недосуг, тем более что вскоре пришлось выехать за границу. Пример Чехова был еще очень свеж, и разгневанный издатель высказал свое недовольство брату писателя.
«Я редакторскую работу исполнил (эта фраза подчеркнута Марксом синим карандашом. — Е.Д.), — отвечал Потапенко, — но сокращать и уничтожать это не значит редактировать, и этого относительно моих собственных произведений я добровольно делать не могу. Я сделал Вам любезность, написал предисловие, в котором принял на себя эту операцию, но чтобы я сам производил ее, этого от меня едва ли можно было требовать».
Спорить с автором было бессмысленно**, но издатель со своей стороны сделал весьма неприятные для автора выводы, отказав во внеочередном авансе. Всегда испытывавший острую необходимость в деньгах, Потапенко с горечью писал Марксу: «Для меня теперь стало ясно как день, что у писателя с издателем не могут существовать человеческие отношения. Я давно думал так относительно других издателей, но о Вас думал иначе. Теперь вижу, что все делается на основании контракта»40.
Возникший конфликт в известной степени толкнул писателя на весьма неосторожный шаг: он решил под своим единоличным редактированием выпускать ежемесячный иллюстрированный журнал (подписная плата — 7 руб.), для чего сколотил небольшую писательскую артель, состоявшую из него самого, Д.Н. Мамина-Сибиряка и Вас. Ив. Немировича-Данченко, а четвертым участником пригласил А.П. Чехова. Журнал должен был состоять из двух разделов: беллетристики и отечествоведения. Собственниками его являлись все члены товарищества. «Если даже первый год не даст пяти тысяч подписчиков, то небольшой недочет мы покроем на кредите — бумаги и типографии — до следующей подписки. Словом, материальная сторона не представляет затруднений...» — убеждая Чехова принять участие в артели, писал Потапенко41. Как можно мягче Чехов попытался дать понять, что от этой затеи несет откровенной маниловщиной, но Потапенко упрямо решил ее осуществить. Нового журнала он не создал, но перекупил старый — «Живописное обозрение».
В подписке на 1905 г. анонсировалось, что журнал отныне издается и редактируется Потапенко. В числе авторов назывались Д. Мамин-Сибиряк, Вас. Немирович-Данченко, Ф. Сологуб, П. Гнедич, Т. Щепкина-Куперник и прочие, тогда никому не известные писатели. Подписная цена на этот еженедельный журнал составляла 8 руб., а в качестве приложения придавались 24 книжки собрания романов Ч. Диккенса, 12 книг иллюстрированного журнала «Театр», 12 книг детского иллюстрированного журнала, 400 страниц этнографических очерков, 12 номеров модного журнала и 1 альбом — 12 снимков красивых головок с картин знаменитых русских и иностранных художников.
Простое перечисление приложений к «Живописному обозрению» напоминает строчки из юмористического журнала. Но финал у этой затеи оказался трагическим. 23 марта 1907 г. Потапенко был объявлен несостоятельным должником42.
Судьба потапенковского начинания показательна во многих отношениях: она служит доказательством бесплодности попыток отдельных писателей в дореволюционные годы вырваться из зависимости от предпринимателей, свидетельствует и о сложности конъюнктуры и сравнительной узости рынка, говорит и об остроте чисто человеческих отношений между автором и издателем.
И все же именно по-человечески Адольф Федорович Маркс во многом отличался от своих собратьев-издателей. «Когда петербургский литератор попадал в тиски нужды, — писал Амфитеатров, — то его последней надеждой бывало «Маркс выручит!», и Маркс выручал. Он не швырялся авансами, но с ним можно было всегда как-то необычайно удобно, легко и необидно устроиться... Маркс платил деньги, часто очень крупные, за вещь совершенно ему ненужную и неподходящую. Я старика почти вовсе не знал и дел с ним не имел, так что не судья тому, поступал ли он так по любви к литературе и уважению к литераторам или из голого коммерческого расчета, но как «хозяин» он был редкостью на русском литературном рынке, где в среде издателей до сих пор нередки типы настоящих ростовщиков, эксплуататоров писательской нужды»43.
Подтверждением слов Амфитеатрова может служить история договора, заключенного Марксом с Вл. Ив. Немировичем-Данченко на уступку его авторских прав. В марте 1903 г., испытывая финансовые трудности, автор предложил Марксу приобрести в полную собственность все им написанное к этому времени за 20 тыс. руб. Не очень-то веря в приемлемость своих условий, он просил издателя в крайнем случае выслать «немедленно три тысячи рублей», обещая компенсировать эту сумму каким-нибудь новым произведением или возвратить ее. Финал оказался несколько неожиданным: в январе следующего года между Марксом и Немировичем-Данченко был заключен договор «на продажу права полной собственности, за исключением поспектакольной платы, на все сочинения» автора. Гонорар устанавливался в 250 руб. с листа, но общая его сумма не должна была превышать 18 тыс. руб.44.
И так было в большинстве случаев. Рано или поздно каждый уважающий себя литератор рассчитывался с издателем. Но Адольф Федорович никогда не использовал своего положения заимодавца. Естественно, в письмах некоторых авторов можно найти следы неудовлетворенности полученным гонораром или просьбы об его увеличении. Так, в октябре 1903 г. свое неудовольствие суммой гонорара, полученного за редактирование тома стихотворений Шеллера-Михайлова, выражал П.В. Быков. Просил о повышении гонорара и автор книги «История письмен» Я.Б. Шницер и получил доплату, как свидетельствует помета на его письме45. Недаром даже такой саркастический, едкий журналист, как А.Г. Кугель, считал, что «Маркс был добрый и очень искренний человек», и сожалел, что «после смерти Чехова его поспешили кое-где объявить эксплуататором»46.
Академик А.Ф. Кони, вспоминая о нем, писал, что, «несмотря на обстановку материального довольства», окружавшую Маркса, его действиями во многом руководило «не сварившееся вкрутую» сердце47.
Свое дело Маркс начинал в маленькой квартире небольшого двухэтажного дома на углу М. Конюшенной и Невского, в котором помещались и контора, и редакция журнала. Даже после переезда на М. Морскую контора и редакция примыкали к квартире самого издателя, теснившегося в двух комнатах и жившего более чем скромно. В чем-то отказывая себе, пока журнал не встал на твердую почву, он всегда с подчеркнутой аккуратностью выплачивал сравнительно высокое жалование сотрудникам и гонорары авторам. Это было широко известно и, безусловно, поднимало его авторитет. Если в течение 35 лет редакторы «Нивы» сменялись семь раз и далеко не всегда соответствовали своему назначению, то его помощник по издательству — лишь единожды, и то по случаю смерти: Грюнберга заменил в 1900 г. Лазарь Евсеевич Розинер. При всем том, что Маркс всецело на них опирался (что хорошо видно по сохранившейся части переписки), он всегда оставался не только хозяином дела и его фактическим руководителем, но и по меньшей мере соредактором журнала. Один из его ведущих сотрудников, Григорий Вольтке, вспоминал, что «в выборе тем для очерков и статей для перевода А.Ф. принимал нередко большое участие. Он просматривал все статьи по естествознанию, помещавшиеся в получавшихся редакцией иностранных журналах, отмечал наиболее интересные и предлагал перевести их или написать что-либо на затронутую тему. И надо сказать, что в выборе статей А.Ф. ошибался очень редко. Хотя он не получил систематического научного образования, но постоянное чтение и общение с писателями развили в нем литературный вкус и умение отличать новое, талантливое и интересное от скучного и бездарного повторения уже известных вещей»48.
Маркс шел к поставленной цели исподволь, но уверенно и твердо. Всю свою жизнь он работал и учился, постигая не только коммерческую, но и техническую, и литературную стороны дела. Недаром его считали одним из самых крупных в России специалистов по приправке клише и отменным знатоком картографического дела.
Он умел прислушиваться к мнению людей, вкусу которых доверял, и шел подчас на уступки, казалось, противные его убеждениям. «Как я ни старался хоть несколько переключить «Ниву» на более приличные художественные рельсы, мои тайные мечты и хитроумные планы разбивались о личный вкус Маркса, считавшего идеалом немецкий «уютный», «семейный» журнал «Cartenlanbe», — пишет Грабарь в «Автомонографии». — И все же упорно и медленно, «тихой сапой», мне понемногу удалось внести — правда, в самой скромной дозе — освежающую струю в подбор картинок из иностранных журналов и русских выставок. На страницах чопорной «Нивы» постепенно стали появляться художники, которые за несколько лет перед тем и мечтать не могли о такой «чести»»49. Результат подобной политики окружения Маркса общеизвестен. Итоги ее подвел П.П. Гнедич, когда утверждал, что «Маркс всегда старался проводить на первом месте русских художников и писателей»50.
Он был решителен в действиях, но в не меньшей мере осторожен и расчетлив. Как позволяют судить документы, он не принимал решения, всесторонне не взвесив все «за» и «против». Весьма показательна в этом отношении история издания им популярного в свое время «Звездного атласа» для астрономов-любителей. Впервые этот путеводитель, составленный астрономом Тартуского (тогда Юрьевского) университета К.Д. Покровским, был издан в Москве в 1894 г. сравнительно небольшим тиражом (1500 экз.) и быстро распродан, после чего автор предложил Марксу переиздать «Звездный атлас» двойным тиражом, за что запрашивал 1500 руб. (при 100 экз. авторских). Будучи деловым человеком, он гарантировал издателю рекомендацию Министерства просвещения, открывавшую книге доступ в школьные библиотеки, и предлагал за дополнительную плату передать список западноевропейских оптических фирм, заинтересованных в рекламе своих товаров в России. Он уверял издателя, что они охотно пришлют свои объявления, «особенно если назначить умеренную плату, руб. 50—75 за страницу» (последние слова были жирно подчеркнуты Марксом синим карандашом). Договор, однако, был заключен лишь 20 июля 1902 г. За право издания 4 000 экз. (плюс 50 авторских и 100 экз. для бесплатной раздачи заинтересованным лицам) Маркс выплатил Покровскому всего 1200 руб.
О том, как и почему возникли цифры «4000 экз.» и «1200 руб.», рассказывают сохранившиеся расчеты Маркса.
Первоначально Покровский согласился на гонорар в 1200 руб., но потребовал сократить тираж до 1600 экз. Издатель быстро подсчитал ожидаемую прибыль. При себестоимости издания в 4238 руб. (1200 руб. гонорар плюс производственные расходы 3038 руб.) она составила всего 242 руб. (3 р. 50 к. × 600 экз. = 5600 руб.), после вычета книготорговой скидки (1120 руб.) оставалось 4480 руб. Маркса такой вариант не устраивал, и он предложил как непременное условие повысить тираж до 4000 экз. В этом случае он, правда, вынужден был понизить номинал до 3 руб. для той части тиража, которая предназначалась для учебных заведений.
Во втором варианте затраты составили более значительную сумму — 6586 руб. (1200 руб. гонорар плюс 5386 руб. производственные расходы). Но прибыль оказалась более высокой, так как общая стоимость издания составила 5760 руб. (2400 экз. по 3 руб. при 20% скидке), а остальной части тиража, как известно, — 4480 руб. Валовая стоимость всего выпуска достигала 10 240 руб., а общая сумма затрат — 6586 руб. В итоге прибыль возросла до 3654 руб.
«Я всегда держался такого правила: вместо того чтобы издать 2 000 экз. книги по 15 рублей, я издавал 5 тыс по 7. И редко ошибался в расчете. Если бы даже мое пятнадцатирублевое издание все разошлось с успехом, я более был бы счастлив, распространив ту же книгу в двойном количестве экземпляров, но по цене вдвое более дешевой», — говорил Маркс51.
Является ли этот неизвестный тогда еще для русского книжного дела принцип ускорения оборота капитала открытием самого Маркса или заимствован им из зарубежной практики, сказать трудно. Скорее всего, он явился плодом его собственных раздумий. Ведь в то время даже в такой промышленно развитой стране, как Англия, подобные идеи поначалу встречали не только непонимание, но и откровенное противодействие. Например, известно, что в 1877 г. фармацевт Джесси Бут решил снизить, насколько возможно, цены на продаваемые им лекарства, с тем чтобы реализовать большее их количество, хотя и меньше заработать на каждом из них, тогда как все остальные предпочитали меньше продать, но с большей прибылью. Этим Бут обратил против себя всех своих коллег, не увидевших на первых порах выгод, открывавшихся от большого по объему и более быстрого товарооборота.
Мы теперь знаем, что далеко не одно бескорыстие двигало Марксом, когда он принимал подобные решения. Кстати, издатель, как позволяют судить документы, нередко оговаривал в договоре с автором гарантию реализации части тиража каким-либо заинтересованным ведомствам. Так, например, в договоре, заключенном в июне 1897 г. с П.А. Антроповым на составление им «Финансово-статистического атласа России», имелся специальный пункт, оговаривающий право Маркса оплатить полностью труд автора только «по получении им от Министерства финансов заказа на 300 экз. вышеуказанного атласа, на каковые экземпляры А.Ф. Маркс делает Министерству скидку в двадцать пять (25%) процентов с объявленной цены»52.
Профессор Лесотехнической академии Ф.К. Арнольд, тесно связанный с Лесным департаментом (вице-директор коего Тихонов был соавтором одной из его книг, выпущенной Марксом), в письме к издателю обязывался доставить «заказ Лесного департамента, а вместе с тем оказать содействие тому, чтобы ввиду затрат ваших на новое издание Лесной департамент по дальнейшим заказам его на издание вместо двух рублей номинальной цены книги, платил Вам за нее по одному руб. 30 коп. за экземпляр, а не по одному рублю, как платил Департамент за второе издание»53.
Такова была обычная практика того времени, вполне согласующаяся с нормами издательской этики, хотя и ведущая к всевозможным злоупотреблениям. С другой стороны, нельзя забывать, что фирма Маркса, как всякое капиталистическое предприятие, ставила конечной целью своей деятельности извлечение прибыли, что сказывалось не только на неизбежном ущемлении интересов авторов (хотя бы в доле дележа полученного дохода), но и на интенсификации труда сотрудников и рабочих, хотя они и находились по отношению к служащим других издательств в явно привилегированном положении. «В Ваше отсутствие, — жаловался Грюнберг Сементковскому, — мне ни разу не приходилось пользоваться высочайше дарованным мне днем — «средою». Я все-таки все еще надеюсь (может быть, по прибытию Вашему), что мне удастся несколько дней провести на даче»54.
Гнедич вспоминает, что, будучи вынужден платить В.В. Матэ по рублю за дюйм гравюры, Маркс неизменно сокрушался «о потере барышей из-за необходимости прибегать к дорогостоящим способам печати «тонких» по качеству ксилографий»55. Он не терпел совместительства у своих собственных сотрудников и требовал от них «монопольного участия в журнале», хотя далеко не каждый из них, по словам И.Н. Павлова, «выдерживал педантичность Маркса и его вмешательство в творческую сторону художника. Примиряли, конечно, высокая оплата и популярность «Нивы» в публике»56.
Педантичность Маркса и его плохое владение разговорным русским языком не раз служили предметом различного рода пересудов, далеко не всегда носивших характер безобидной шутки. Эту тему не раз пытались использовать спекулятивно, как это случилось в мемуарах И.И. Ясинского. Чаще, правда, подобным образом подчеркивалась некая «чудаковатость» издателя. Когда Сергеенко живописал трудности, которые он преодолел, крепя союз Чехова с Марксом, то и он оказался не в силах отрешиться от привычек, выработанных годами службы в дешевых сатирических журналах. Характеризуя Маркса, он писал своему бывшему соученику: «Если бы ты читал его послания ко Льву Николаевичу! Того он прямо изводил своей пунктуальностью. В последние дни я «открыл Америку» и стал относиться юмористически. Это только и спасало. Надо тебе сказать, что Маркс о делах может говорить только в углу, шепотом и оглядываясь...»57.
Письма Маркса к Толстому сохранились (во всяком случае, подавляющая их часть); многие из них воспроизведены в комментариях юбилейного собрания сочинений писателя, а потому доступны каждому, кто ими заинтересуется. В них нет и капли той назойливости, о которой писал Сергеенко; добавим от себя, как и в тех, что адресовались впоследствии Чехову и полностью сохранились в архиве писателя. Их, действительно, немалое число, но это только делает честь издателю, с глубочайшей ответственностью относившемуся к своей почетной роли.
Стоит ли столь подробно говорить о вещах, представляющихся лишь частностью, деталью? Заслуживают ли они внимания читателя? Все сказанное — проявление общественного мнения, своеобразная оценка деятельности того или иного лица. А коль скоро это так, то с ней следует считаться и необходимо понять, справедлива она или нет, чем вызвана и т. п. И не так уж важно, опубликованы письма Сергеенко к Чехову или нет. Ведь подобные шутки позволяли себе и более известные писатели, и в конце концов они становились известны широкому кругу лиц58. Подспудно в сознание каждого современника, слышавшего эти анекдоты, невольно закрадывалась мысль: а мог ли человек, не чувствующий языка, оценить по достоинству то или иное произведение словесности (коль скоро речь идет об издателе). Для того чтобы доказать несостоятельность такого рода утверждении, следует противопоставить подобным высказываниям свидетельства более авторитетных современников. Вряд ли такой принципиальный я откровенный человек, как В.В. Стасов, написал бы, обращаясь к Марксу: «...искренно и давно уважаемый мною Адольф Федорович», если бы только руководствовался правилами приличия (кстати, они и не требовали такой откровенности)59. Не назвал бы И.А. Гончаров издателя «Нивы» «Дорогим и любимым Адольфом Федоровичем», если бы, как и Стасов, не ценил его усилий на поприще издательского дела60. Другое дело, что Маркс далеко не сразу стал тем издателем, который заслуживает благодарности своих сограждан.
В начальную пору своей деятельности (в 1873 г.) Маркс именовал себя «книгопродавец-издатель»61. Однако собственной книжной торговли, в отличие от многих своих собратьев-издателей, так и не открыл, хотя это дело и было ему хорошо знакомо. Постепенно, все более и более проникаясь важностью добровольно взятой миссии, он ставил перед собою и более широкие в общественном плане задачи. Недаром Маркс был единственным человеком в Российской Империи, поместившим в личный дворянский герб КНИГУ как эмблему своей жизненной цели62. Не шпагой и не рублем, а просветительской деятельностью завоевал безродный чужеземец себе эту честь.
Обладая громадными организаторскими способностями и будучи чрезвычайно энергичным человеком по натуре, Маркс тем не менее в общественном плане не отличался активностью. Он значился членом-учредителем Общества книгопродавцев и издателей, за особые и многократные пожертвования которому удостоился даже звания «почетного члена», но в жизни его не принимал почти никакого участия. Даже на заседания Общества он делегировал вместо себя Грюнберга63. Единственное, в чем проявлялось его общественное лицо, — это в благотворительности. Он основал специальный фонд, предназначенный на благотворительные цели, широко оказывал через контору «Нивы» помощь неимущим накануне церковных праздников, являлся членом почти всех благотворительных учреждений России. В завещании он оговорил значительные пожертвования на «богоугодные дела». Все это он делал, надо отдать ему должное, без всякой аффектации: Сергеенко отмечал, что, как-то, предоставив в его распоряжение «значительную денежную сумму на организацию помощи нуждающимся, Адольф Федорович заявил, что это делается не для славы, а для бога, и поставил условием, чтобы о его пожертвовании не знала улица»64. Как бы критически мы ни относились к такого рода деятельности, все следует видеть в рамках своего времени. На фоне того малого, что делало царское правительство для просвещения и блага народа, шереметьевская и солдатенковская больницы, Третьяковская галерея и Бахрушинский музей, Румянцевская библиотека и другие подобные, «дарованные» государству учреждения оказали народу неоценимую услугу. Значение деятельности Маркса или Сытина, понятно, не в их вкладах на «божьи дела». И если об этом и говорится на страницах книги, то только для того, чтобы ярче обрисовать человеческий облик издателей.
За свою, как когда-то говорили, «общеполезную деятельность» Маркс еще в начале 80-х годов был награжден орденами Станислава II степени и Анны II степени, затем пожалован в «почетные граждане», а 1 февраля 1895 г. по ведомству Человеколюбивого общества, почетным членом которого являлся, был награжден орденом Святого Владимира IV степени, что делало возможным его переход в дворянское сословие. 17 мая 1897 г. ему были предоставлены все права и преимущества по пожалованному ордену, и 27 ноября того же года царским указом он был возведен в потомственное дворянство. Однако только 4 июня 1901 г. Маркс обратился в Департамент геральдики правительствующего сената с просьбой об изготовлении для него дворянского герба; о котором шла речь выше65.
В 90-е же годы он был награжден Саксонским и Вюртенбергскими «крестами» и Черногорским орденом князя Даниила66.
В отличие от многих людей его круга, он не владел ни особняками, ни дачами, ни имениями; все его состояние было вложено в дело (если не считать собственного выезда, и то приобретенного уже в последние годы). Все свободные средства (0,5 млн. руб.), оставшиеся после его смерти, также предназначались на нужды благотворительности. Не был Маркс и «собирателем». По-видимому, у него была небольшая библиотека (во всяком случае, имеется экслибрис). Владел он и небольшим собранием картин, в основном — любимых им художников: И. Шишкина, Ю. Клевера, Ф. Чумакова, Н. Каразина, К. Маковского, В. Орловского, Петра Соколова, И. Айвазовского, Г. Семирадского, И. Репина, Р. Судковского, Ф. Якоби, Л. Лагарио, Ел. Самокиш, И. Левитана, М. Зичии и др. Иностранные художники были представлены единичными вещами (Ленбах, Каульбах, Гартман и др.). В вестибюле редакции, на площадке лестницы, висела известная картина Н. Рериха «Нива».
Адольф Федорович скоропостижно скончался от разрыва сердца в ночь на 22 октября 1904 г. Накануне вечером он был здоров, весел и дольше чем обычно сидел и работал в своем кабинете. Согласно завещанию, его тело кремировали в Германии, а прах захоронили в России, на кладбище Воскресенского Новодевичьего монастыря в Петербурге.
Лидия Филипповна Маркс
Примечания
*. Известный историк литературы А.С. Архангельский (1854—1926) впоследствии был избран членом-корреспондентом АН СССР. В 1883 г. в Казани вышла написанная им книга «Жуковский. Первые годы его жизни и поэтической деятельности».
**. Смерть Маркса заставила Потапенко более объективно посмотреть на их былые взаимоотношения, свидетельством чему может служить его статья (см.: Фингал (Потапенко И.Н.). Общественная польза // Русь. 1904. 31 окт. (13) нояб.).
1. Цит. по: Светлов В. Зерна истины // Нива. 1904. № 50. С. 1015.
2. Коненков С.Т. Выступление на торжественном заседании, посвященном столетию издательской деятельности И.Д. Сытина. 19 декабря 1966 г. // ВКП, ф. персоналий, к. 37.
3. Аббадона (Амфитеатров А.В.). Указ. соч.
4. Луговой А. Из серии силуэтов. А.Ф. Маркс (рукопись) // ИРЛИ 10401, л. 4, 9, 37.
5. Гнедич П. Художественные издания А.Ф. Маркса // Нива. 1904. № 50. С. 1008.
6. Павлов И.Н. Жизнь русского гравера. С. 118.
7. Грабарь И.Э. Моя жизнь. Автомонография. С. 92.
8. Фингал (Потапенко И.Н.). Указ. соч.
9. Аббадона (Амфитеатров А.В.). Указ. соч.
10. Цит. по: Русаков В. Литературные гонорары русских беллетристов... // Новости. 1904. 12 (25) июля.
11. Некрасов Н.А. Полн. собр. соч. и писем. В 12 т. М., 1948. Т. 2. С. 487—488.
12. ГПБ, ф. 171, оп. 1, д. 1, л. н. н. Еще незаконченную повесть предложил издателю «Нивы» 20 сент. 1882 г. (ИРЛИ, 10.395, л. 3—4).
13. Аббадона (Амфитеатров А.В.). Указ. соч.
14. Гнедич П.П. Книга жизни. Л., 1927. С. 108.
15. Труд и капитал, затрачиваемый на каждый № «Нивы» // Нива. 1873. № 17. С. 267; ИРЛИ, ф. 268, оп. 1, д. 128, л. 1—2.
16. ГПБ, ф. Шишкина, д. 167, л. 1.
17. Арх. Г., П-ка «Зн.» 18—10—4; 18—10—2; ЦГАЛИ, ф. 59, оп. 1, д. 87, л. 6; ИРЛИ, ф. 220, оп. 1, д. 103, л. 1; ЦГАЛИ, ф. 459, оп. 1, д. 4316, л. 9.
18. ЦГАЛИ, ф. 122, оп. 2, д. 51, л. 330—331, 341, 342, 345, 346—348, 355, 364—381; д. 53, л. 46, 44; ф. 552, оп. 1, д. 2740, л. 1, 5, 6, 9; ф. 122, оп. 1, д. 1435, л. 15—16, 21—22.
19. Луговой А. Указ. соч. Л. 27.
20. Арх. Г., Кг. П., 50—11—2.
21. Так, например, в 1897 г. писатель П.Д. Боборыкин продал А.Ф. Марксу свою книгу «Столицы мира». Однако она вышла в другом издательстве в 1912 г., как писал автор, «не по моей вине». (Боборыкин П.Д. Воспоминания. М., 1965. Т. 1. С. 405).
22. ЦГАЛИ, ф. 1317, оп. 1, д. 21, л. 1.
23. ИРЛИ, 10.365, л. 1.
24. Луговой А. Указ. соч. Л. 12.
25. Белов С.В. Мировоззрение русских писателей и их печатная продукция (К постановке вопроса) // Русская демократическая книга: Кн. дело Петербурга—Петрограда—Ленинграда. Л., 1983. С. 19.
26. ИРЛИ, 347, л. н.н.
27. Там же, ф. 242, оп. 1, д. 166, л. 1—2.
28. Там же, 10.368—10, 369.
29. Там же, 10.383. XIV с. 160, л. 1.
30. ЦГАЛИ, ф. 335, оп. 1, д. 28, л. 1.
31. Там же, л. 4.
32. Там же, ф. 19, оп. 2, д. 1, л. 7, 12.
33. См. напр.: Медведский К.П. Один из наших Вальтер Скоттов // Наблюдатель. 1894. № 2.
34. Адонц Гайк. Предисловие // Гнедич П.П. Книга жизни. С. 19.
35. ЦГАЛИ, ф. 335, оп. 1, д. 3, л. 13—14, 25.
36. Там же, л. 29, 30.
37. Там же, л. 77—78.
38. ЦГАЛИ, ф. 409, оп. 1, д. 3, л. 7, 11.
39. Сементковский Р.И. Встречи и столкновения // Рус. старина. 1911. № 12. С. 522.
40. ГБЛ, ф. 360, к. 1, д. 52, л. н. н.
41. ГБЛ, ф. 331, к. 56, д. 36 г., л. н. н.
42. ЦГАЛИ, ф. 409, оп. 1, д. 2, л. 8; д. 10, л. 2, 3.
43. Аббадона (Амфитеатров А.В.) Указ. соч.
44. ГБЛ, ф. 360, к. 1, д. 47, л. 1—2; ЦГАЛИ, ф. 814, оп. 1, д. 23, л. 12.
45. ГБЛ, ф. 360, д. 18, л. 1; к. 3, д. 25, л. 1—3.
46. Квидам (Кугель А.Р.). Петербург // Новости дня. 1904. 25 окт.
47. А.Ф. Кони о А.Ф. Марксе // Нива. 1904. № 50. С. 1001.
48. Вельтке Г. Указ. соч.
49. Луговой А. Указ. соч.; Кардовский Д.Н. Об искусстве: Воспоминания, статьи, письма. М., 1960. С. 88—89; Грабарь И.Э. Указ. соч. С. 90.
50. ЦГАЛИ, ф. 335, оп. 1, д. 14, л. 1, 3.
51. Гнедич П. Художественные издания А.Ф. Маркса // Нива. 1904. № 50. С. 1008.
52. ЦГАЛИ, ф. 335, оп. 1, д. 7, л. 19.
53. Там же, д. 5, л. 32.
54. ИРЛИ, ф. 446, оп. 1, д. 85, л. 1.
55. Павлов И.Н. Указ. соч. С. 12.
56. Там же. С. 124.
57. ГБЛ, ф. 331, к. 58 б (Письмо от 9 февраля 1889), 48 д.
58. Старожил. Петербургские силуэты // Солнце России. 1913. № 3. С. 14.
59. ИРЛИ, ф. 10.374. XIV с. 159, л. 1.
60. Там же, 10.346. XIV с. 155, л. 7.
61. ЦГИА, ф. 776, оп. 4, д. 329, л. 68.
62. Там же, ф. 1411, оп. 2, д. 601, л. н. н. (Герб А.Ф. Маркса см. по алфавиту фамилий).
63. Кн. вестн. 1884. № 1. С. 12—13; 1886. № 4. С. 5—6; 1889. № 1. С. 2; № 10. С. 166.
64. Сергеенко П. Последний привет // Нива. 1904. № 50. С. 1000.
65. ЦГИА, ф. 1343, оп. 36, д. 15352, л. 1—14.
66. Файл О. Указ. соч.; ЦГАОР, ф. 102, оп. 272, д. 700, 702.
| Предыдущая страница | К оглавлению | Следующая страница |