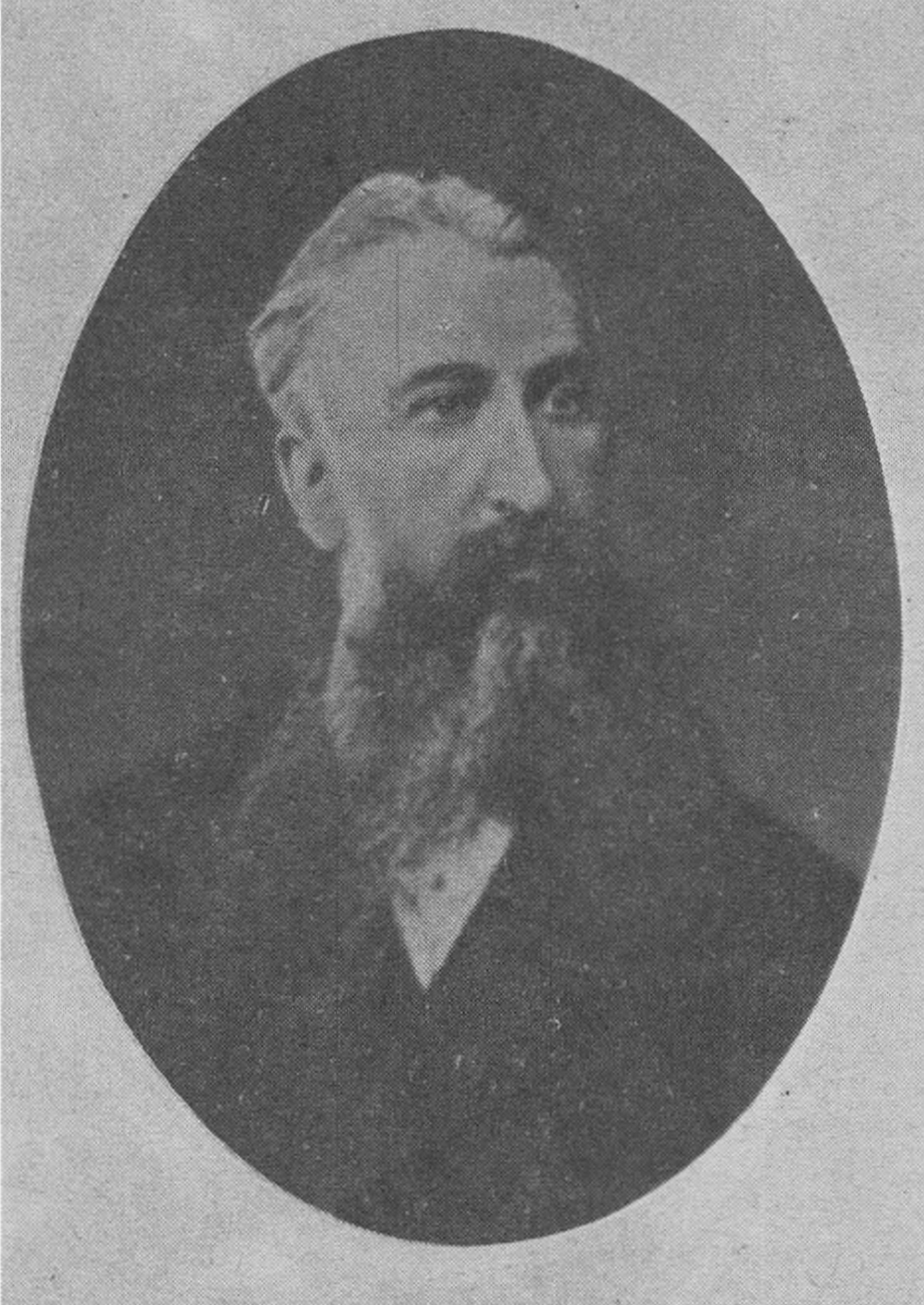Сведения о родителях Адольфа Маркса крайне скудны. Известно, что отца звали Фридрихом (отсюда и русское «Федорович»), а мать — Марией (урожд. Герс). Жили они в прежней столице Померании, городе, Штеттине, где владели фабрикой башенных часов, пользовавшихся исключительно высокой репутацией. И хотя никто в XIX веке не строил ратуш с башнями, спрос на часы непрерывно возрастал. Европа покрывалась сетью железных дорог. В невероятном темпе росло число контор и предприятий, и все они дня не могли просуществовать без продукции штеттинского фабриканта.
Фридрих Маркс был весьма образованным для своего времени человеком, энергичным и волевым. Эти качества позволили ему успешно расширить предприятие. Не менее удачлив был он и в личной жизни. Новый, 1838, год семья встретила в большом, только что отстроенном доме (на чердаке которого ее глава, увлекавшийся астрономией, не довольствуясь великолепно подобранной библиотекой, соорудил маленькую обсерваторию). Вскоре после переезда, 2 февраля, Мария Маркс родила пятого ребенка. Мальчика назвали Адольфом. У Марксов было девять детей. Но вопреки поверью, счастливым оказался не последний, а пятый.
Все складывалось как нельзя лучше, отлично поставленное дело сулило обеспеченную будущность всем членам многочисленного семейства, но, когда Адольфу едва исполнилось десять лет, в Европе разразилась эпидемия азиатской холеры. Не обошла она и Фридриха Маркса.
После смерти главы семьи «дело» пришлось ликвидировать, так как старшие сыновья были еще слишком молоды, чтобы вести его. Средств хватило лишь на то, чтобы дать детям мало-мальски необходимое образование. Сразу же после окончания среднего учебного заведения Адольфу Марксу пришлось подумать о своем будущем. Перепробовав по совету родственников с десяток различных специальностей, он, несмотря на их яростные протесты, избрал наиболее привлекательную для него и наименее перспективную в глазах почтенных бюргеров. Он решил заняться книжной торговлей.
Для начала была выбрана довольно солидная фирма «Придворная книжная торговля Д.К. Гинсторфа»*. Находилась она в Висмаре — третьем по величине городе Великого герцогства Мекленбург-Шверин. То ли герцог и его подданные не отличались особой любовью к книгам, то ли хозяин при всем своем громком титуле был скуповат, но за службу с утра и до ночи юноша получал истинные гроши: «Работать приходилось много, питаться весьма скудно и ютиться в такой мансарде, в которой вода иногда мерзла в умывальнике»1. Эта фраза, явно написанная человеком, плохо владеющим русским языком, выдает автора биографии, во всяком случае свидетельствует, что писалась она под диктовку самого владельца «Нивы».
Все невзгоды компенсировались одним — правом пользоваться книгами, благо читать их можно было хоть всю ночь напролет.
После трех лет ученичества Адольф Маркс поступил работать в известную берлинскую фирму Гиршвальда, торговавшую исключительно медицинской литературой2. Магазин пользовался славой лучшего в Европе по ассортименту литературы на всех языках. Проработав два года в Берлине, Маркс подумывал уже о возвращении в родной Штеттин, чтобы там заняться «ведением дел одной местной, весьма почтенной книжной торговли», как неожиданно пришло приглашение из далекой и совершенно ему неведомой России.
Приглашал Маркса Фердинанд Августович Битепаж, известный русский книготорговец и комиссионер лейпцигских фирм, связанный через свою жену (урожд. Кулагину) родственными узами с крупными русскими книгопродавцами: Филиппом и Григорием Михиными, Иваном и Николаем Мартыновыми. Все они, наряду с М.О. Вольфом, вышли из «гнезда» известного книгопродавца Я.А. Исакова. По всей видимости, Битепаж обратился в общество немецких книготорговцев с просьбой рекомендовать ему наиболее способного и энергичного молодого человека, хорошо знакомого с постановкой книготоргового дела в Германии, которое в те годы не без оснований считалось образцовым.
Уже сам по себе факт принятия предложения Битепажа во многом характеризует Адольфа Маркса. Не зная ни языка, ни страны, не имея ни малейшего представления о народе, ее населявшем, он покидает родину, решив попытать счастья в далекой России. Поступить так мот только или авантюрист, или человек, твердо верящий в собственные силы и знания, умеющий работать и работать. Правда, достичь положения в Германии было намного труднее, чем в России: ожесточенная конкуренция в книжном деле оставляла мало надежд на успех у человека, не имеющего достаточных средств, даже если он был столь энергичен и самонадеян, как герой нашего повествования. К тому же место управляющего в провинциальном книжном магазине хотя и сулило известную обеспеченность, не открывало перспектив самостоятельной деятельности. Вот почему приглашение Битепажа определило судьбу Маркса.
В сентябре 1859 г. Маркс приезжает в Петербург. За весьма короткое время он организует иностранный отдел книжной торговли Битепажа и Кулагина и берет на себя ведение дел с Германией. Как свидетельствуют современники, он успешно справился с этим, способствовав в «значительной степени расширению фирмы».
Проработав пять лет у Битепажа и Кулагина, Маркс из-за ликвидации иностранного отдела (факт этот, правда, в достаточной степени не выяснен) оказался в полном смысле этого слова на улице. Возвращаться же на родину с пустыми карманами и несбывшимися надеждами он не хотел. Из этого, довольно критического положения его вывел случай. Неожиданно в 1864 г. открылась вакансия приказчика немецкого отделения в книжном магазине Маврикия Осиповича Вольфа.
У Вольфа Маркс работал недолго. И ушел от знаменитого книготорговца и издателя без всякого сожаления, поскольку, как пишет его биограф, «получал чрезвычайно скудное содержание»3. Многолетний сотрудник Вольфа, С.Ф. Либрович несколько по-иному объясняет причину ухода: «Несмотря на свою бедность, он был слишком горд, самонадеян и чересчур настойчиво требовал самостоятельной роли в деле, для того чтобы мириться со скромным положением всецело подчиненного своему хозяину приказчика, торговца книгами»4.
За недолгое пребывание у Вольфа Адольф Маркс все же кое-что успел сделать: во-первых, он приобрел двух друзей — Германа Дмитриевича Гоппе и Германа Карловича Корнфельда, а во-вторых, составил с первым из них для Вольфа каталог немецкой научной и художественной литературы с начала XIX в. по 60-е годы.
О службе Маркса у Вольфа известно лишь со слов Либровича, приводящего, кстати, весьма любопытный документ-расписку Маркса, свидетельствующую, что, приступая к работе, он получил от хозяина авансом шесть рублей на сапоги.
По бытовавшему у петербургских купцов обычаю приказчики, конторщики и ученики квартировали и столовались у своих хозяев. Остался верен этому правилу и Вольф, снимавший рядом со своей квартирой на Караванной улице комнаты для служащих. Помимо квартиры и стола, Маркс получал ежемесячно 30 руб. жалования. Как говорят, не густо, но и не так чтобы уж совсем ничего. Правда, работать приходилось много.
Не отличаясь особой щедростью, Вольф был чрезвычайно требователен. Инициативы сотрудников не допускал, искренне считая, что лучше его самого никто не знает и не может знать дела.
В начале 60-х годов, когда обороты немецкого отделения книжного магазина сильно увеличились, Вольф вынужден был отказаться от личного руководства немецким отделом и «выписал» из Германии для заведования им Германа Гоппе. Гоппе был старше Маркса всего на два года, но имел значительно больший опыт работы; книжное дело он изучал в Англии, Бельгии, Германии, где служил в ряде крупных фирм. К нему-то поначалу и был определен Адольф Маркс. Третий из друзей — Герман Корнфельд — заведовал отделом подписки на иностранные журналы. В отличие от своих товарищей он был выходцем из Варшавы, но так же, как и его приятели, мечтал со временем стать самостоятельным издателем, свято уверовав, что судьба уготовила ему сделать состояние в России.
Охваченные одной мечтой, они почти всегда появлялись вместе. Невольно создавалось впечатление, что они никогда и не расставались, даже жили в одной комнате. Неразлучных друзей сослуживцы в шутку прозвали «три Аякса».
Прослужив у Вольфа до 1867 г., Гоппе совместно с Корнфельдом основал собственное издательское дело. Начали они с издания «Путеводителя по России» Бастена, «Всеобщего календаря на 1867 год» и «Всеобщей адресной книги С.-Петербурга»**, содержащей обширный справочный отдел. И хотя средства компаньонов, как свидетельствует Либрович, были ничтожны, «глубокая уверенность в успехе затеи и... кредит в типографии Риккера» плюс колоссальный труд издателей-составителей (а работать «петербургские Аяксы» умели) обеспечили успех дела.
Корнфельд вскоре покинул Гоппе, и тот продолжал издательскую деятельность самостоятельно, выпуская в течение ряда лет с неизменным успехом «Всеобщий календарь». Кроме того, Гоппе издал ряд альбомов: «Петр Великий», «Русские народные сказки» и т. п. Но подлинную известность принес ему журнал «Моды и новости» (преобразованный затем в «Модный свет» и «Модный магазин»). Делался журнал по зарубежным образцам и ни в чем не уступал своим предшественникам. Популярность журнала дала возможность Гоппе приступить к новому изданию, которое, собственно, и составило ему имя в истории русской журналистики. В 1869 г. он начал выпускать журнал «Всемирная иллюстрация», замышлявшийся чуть ли не как изобразительная летопись эпохи. Гоппе поставил издание на широкую ногу, умело его организовал и, насколько это было возможно, стремился откликаться на все наиболее интересные события того времени. Однако первоначальный успех журнала закрепить не удалось.
Известно, что Маркс активно помогал своим друзьям в их совместных издательских начинаниях, посвящая работе у Гоппе весь свой досуг. Дружба прекратилась в тот самый день, повествует Либрович, когда Маркс сообщил о намерении выпускать собственный журнал. В новом издателе журнала Гоппе не без основания усмотрел будущего конкурента, хотя Маркс искренне уверял его, что затеянное им издание будет носить иной характер. Вместо того, чтобы приблизить «Всемирную иллюстрацию» к вкусам читателя, сделать журнал более дешевым и интересным, Гоппе решил отбить подписчиков у Маркса, начав выпуск еженедельного журнала «Огонек». Непродуманное решение, принятое из желания наказать конкурента, не привело к ожидаемому результату. «Огонек» не имел успеха и фактически разорил своего издателя. Ускоренная этими событиями смерть Гоппе в 1885 г. еще больше запутала дело. Принявший его долги брат Эдуард, несмотря на свои старания, не мог ничего поправить и, потеряв все имевшиеся у него средства, «сохранил лишь имя честного, но несчастного человека». Как ни эффектна эта версия, она все же вызывает сомнения, так как известно, что в первые годы своего существования журнал «Нива» печатался в типографии Э. Гоппе. Конфликт был, видимо, вызван какими-то другими, неизвестными нам обстоятельствами.
Судьба Корпфельда была более счастливой. Разойдясь с Гоппе, он завел фабрику каучуковых штемпелей и новоизобретенных тогда металлических вывесок. Сколотив некоторый капитал, Корнфельд в 1875 г. решился наконец осуществить свою давнюю мечту и начал выпускать юмористический журнал «Стрекоза». Работая у Вольфа, он не только познакомился со многими иностранными юмористическими журналами, но и хорошо изучил вкусы и потребности своих будущих подписчиков. Наследуя в какой-то мере традиции «Искры» (отнюдь не в смысле идейности, что хорошо видно хотя бы по названию журнала), он, в отличие от большинства современных ему издателей, стремился к высокой художественности как в содержании, так и в оформлении своего журнала. Грубые шаржи, аляповатые, безвкусные карикатуры, мозолившие глаза в подобных изданиях, не находили места в «Стрекозе». Столь же требователен был издатель и в части литературного материала, привлекая молодых талантливых авторов. Кстати, на страницах именно этого журнала появился рассказ А.П. Чехова, который, по мнению самого автора, положил начало его литературной деятельности. Почти тридцать лет Корнфельд издавал журнал, и только смерть прервала любимое дело. Однако на этом история «Стрекозы» не окончилась. В 1908 г. сын издателя и группа сотрудников кардинально преобразовали журнал. Так был создан знаменитый русский сатирический журнал «Сатирикон». Под этим названием он и завоевал славу, перешагнувшую границы времени.
Уйдя от Вольфа, Адольф Маркс опять остался не у дел, но на этот раз уже без всякой надежды получить место у кого-нибудь из петербургских книгопродавцев. Однако и это обстоятельство не поколебало честолюбивых планов третьего из «петербургских Аяксов». На замечание Вольфа, что из него «ничего не выйдет», Маркс со свойственной ему самонадеянностью ответил: «Ну это мы еще посмотрим»5. Некоторое время он перебивался уроками иностранных языков то в качестве домашнего учителя, то преподавателя пансиона для мальчиков. Его положение заметно улучшилось в конце 1864 г., когда по протекции одного из приятелей его приняли в контроль Варшавской железной дороги, в котором он проработал около пяти лет, до марта 1869 г. Плохое знание русского языка не мешало исполнять ему обязанности «письмоводителя по немецкой корреспонденции» и свободно общаться со своим непосредственным начальником А.Б. фон Бранденбургом и даже с самим директором дороги инженер-генерал-майором В.А. Данненштерном.
Дорога шла на Запад и веткой к прусской границе связывала Россию с Германией. Немецкий язык наравне с русским был официальным языком переписки. Работа письмоводителя не требовала особого напряжения, но была однообразна и безнадежно бесперспективна. Если верить Либровичу, то получал он за нее 40 руб. жалованья в месяц (Либрович, правда, писал, что он работал в отделе претензий Главного общества российских железных дорог, который помещался в здании Варшавского вокзала. Но эти сведения опровергаются изданной Гоппе и Корнфельдом «Всеобщей адресной книгой С.-Петербурга», в составлении которой принимал участие сам Маркс).
Работая в контроле Варшавской железной дороги, Маркс не оставлял надежды, вернее, жил надеждой вернуться к любимому делу. Еще во время службы у Вольфа (а возможно, и ранее) он твердо определил тот род занятий, который, по его мнению, мог принести ему известность и состояние.
Не имея ни имени, ни мало-мальских капиталов, Маркс не мог надеяться даже на минимальный кредит под собственную книжную торговлю. К тому же у него не было и необходимых для такого случая деловых связей, и какого-то определенного круга знакомых, на которых он мог рассчитывать как на потенциальных покупателей. Оставалось одно: заняться издательской деятельностью. Но что издавать? Книги? Однако в конце 60-х годов русский книжный рынок еще не ощущал потребности в широком ассортименте изданий. «До какой степени невелика у нас потребность в чтении и как мало выходит хороших книг, — с грустью писал обозреватель «Книжного вестника», — многие тончайшие книжонки выходили вторым изданием; изданий же, заинтересовавших внимание публики, вышло всего ничего вследствие ничтожного на них запроса, и долго, долго еще придется ожидать того благодатного времени, когда в России будет выходить в продолжение года не 1717, а несколько тысяч названий»6.
Что касается мрачного прогноза, то обозреватель «Книжного вестника» глубоко ошибался. Но было от чего прийти в уныние, тем более что в Германии в то время одно издание приходилось на 3524 человека; во Франции — на 3113, а в Дании и того меньше — на 1712 человек. Оставалось обратиться к изданию журнала. Однако и в этом случае следовало учитывать ряд неблагоприятных обстоятельств. «Периодические издания в России либо не окупали расходов на свое издание, потому что мало читались и раскупались и, пользуясь своей благонадежностью или официозностью, получали субсидии от правительства (например, за трехлетние 1867—1869 гг. 22 журнала получили 186 тыс. руб.), либо, раскупаемые и оправдывающие расходы издателя, подвергались финансовым ущемлениям и косвенным штрафам (как приходится называть запрещения розничной продажи «неблагонадежных» изданий или запрещения печатать в них объявления частных лиц, за которые платят деньги)»7.
К тому же журналы стоили дорого. Практически широкий (в понятиях того времени) читатель не мог подписаться не то что на два, но и на один журнал. Так, например, годовая подписка на журнал «Дело» стоила 15 руб., «Отечественные записки» — 16 руб. 50 коп., «Русский вестник» — 15 руб., популярный детский журнал «Семейные вечера» — 12 руб. Значительно дешевле стоила подписка на религиозные журналы — 4—7 руб., но это, как говорят, иная статья. Из-за дороговизны читатели предпочитали не подписываться, а брать журналы в общественных библиотеках***.
И тем не менее только издание журнала открывало какие-то перспективы. Работая в двух крупных фирмах (относительно предприятия Вольфа можно сказать: крупнейшей), Маркс получил возможность ознакомиться с большим числом как русских, так и иностранных журналов. С.Ф. Либрович свидетельствует, что он тщательно изучал характер выходивших в те годы и даже прекративших свое существование иллюстрированных русских журналов, на последние гроши скупал отдельные их номера, старался сблизиться с самими клиентами магазина Вольфа, узнать их литературные вкусы и потребности, познакомиться с писателями и пр.
Маркс не случайно обратил особое внимание на иллюстрированные журналы. Большинство из них в силу легкости восприятия и образности материала, оперативности выпуска, дешевизны были более доступны широкому читателю, чем так называемые «толстые» журналы, которые при успехе давали большую прибыль. Например, годовая подписка на еженедельный сатирический журнал «Искра» составляла лишь 7 руб. 50 коп. Но «Искра» была острым, сатирическим журналом, жестоко преследуемым цензурой, что безусловно сулило издателю не обогащение, а неприятности. Маркс не намеревался заниматься «политикой». У него была выработана на этот счет своя программа, которой, нужно отдать ему должное, он придерживался всю свою жизнь. Если ее можно кратко охарактеризовать, то лучших слов, чем умеренная добропорядочность, к ней нельзя применить. Ни в одном издании, вышедшем под маркой его фирмы, не нашли места человеконенавистнические идеи, не звучали шовинистические нотки, не печатались произведения, проповедующие зло и насилие, неуважение и презрение к чужим народам и иным странам (о редчайших исключениях будет сказано ниже). Однако тщетно было бы в них искать и мотивы борьбы за социальную справедливость.
В отличие от своего друга Германа Гоппе, адресовавшего «Всемирную иллюстрацию» состоятельному читателю, Маркс решил ориентироваться на среду более ему близкую в социальном отношении и более перспективную в качестве читательской категории. Российский бюргер — вот кто должен был в первую очередь стать подписчиком его журнала.
Эта среда, замкнутая узкими интересами своего круга, до поры до времени руководствовалась старым девизом: «Мой дом — моя крепость». Но во второй половине XIX века все меньше и меньше оставалось крепостей, способных устоять под натиском убыстряющихся событий. Маленький человек невольно начинал чувствовать свою связь с действительностью, даже если волею судеб он жил не в Санкт-Петербурге или Москве, а в Ельце или Конотопе. Стремление жить во времени неизбежно сопровождалось относительным ростом образованности, желанием лучше познать окружающий мир. При всей своей оперативности газета публиковала лишь очень краткие сообщения о событиях дня, еще не знала иллюстрации, не содержала материала для «легкого чтения», кроме фельетона (в нашем понимании — очерка), и поэтому не могла заполнить досуга. «Тонкий» иллюстрированный журнал лучше всего подходил для этой цели.
Прежде чем приступить к изданию журнала, Маркс решил испытать себя на более легком деле и выпустить одну-две книги, которые могли бы стать его «визитной карточкой» в издательском мире. Изданные им на свой кошт в Петербурге в 1869 г. книги на первый взгляд должны были заинтересовать сравнительно узкий круг читателей. Однако оригинальность тематики и низкая цена способствовали их успеху. За короткий срок «Статистические таблицы государств и владений во всех частях света», составленные О. Гюбнером (пер. с 17-го нем. изд.), и русское издание небольшой книжки д-ра Е. Штальберга «Кумыс. Его физиологическое и терапевтическое действие» оказались распроданными (предпринятое Марксом издание этой книги на немецком языке успеха не имело).
Цена первого из двух изданий была 30 коп., второго — вдвое больше. Уже один этот факт красноречиво свидетельствовал о том, на какого читателя ориентировался Маркс и каким путем намеревался добиться успеха.
Ф.А. Битепаж
М.О. Вольф
Примечания
*. По другому написанию имя первого хозяина молодого Маркса звучит несколько иначе: Карл Хиншторфф (1811—1882). В 1831 г. в Ростоке им было основано собственное издательство.
**. Всеобщая адресная книга С.-Петербурга с Васильевским островом, Петербургской и Выборгской сторонами и Охтою. В 5-ти отд. СПб.; Гоппе и Корнфельд, 1867—1868. 987 с. разд. паг.
***. Учитель в училищах системы Министерства народного просвещения получал 330 руб. жалованья в год и квартиру. Минимальный бюджет сельского учителя в 1882 г. при условии питания на 45 коп. в день, платы прислуге 2 руб. в месяц, траты на одежду и обувь — 70 руб. в год, подписки на газету — 9 руб. и 3 руб. на покупку книг, поездки на родину (в пределах 15 руб.) и проч. едва укладывался в 380 руб. (Русская школа, 1892. № 10. С. 113).
1. А.Ф. Маркс // Нива. 1894. № 53. С. 17—18. В другом варианте биографии, сохранившейся в архиве П.В. Быкова, эта фраза написана более точно и правильно по-русски: «вода замерзала в кувшине». Как известно, немцы умывальниками в те времена не пользовались. (ИРЛИ, ф. 273, оп. 2, д. 101.)
2. Д-р О. Файл считает, что вторым хозяином Маркса был владелец берлинской книжной фирмы Адольф Энслин. В то же время он сомневается в справедливости указаний немецкого биографа Маркса Вильгельма Хеккеля, считавшего, что Маркса Гинсторфу рекомендовал в 1854 г. писатель Фриц Ройтер. — Feil O. ... und einer der Kühnsten Verlag in vorrevolutionären Rußland. — Börsenblatt für den Deutschen Buchhandel, 1983. № 2. S. 29—30; № 3. S. 50—51.
3. ИРЛИ, ф. 273, оп. 2, д. 101, л. 1—8.
4. Либрович С.Ф. На книжном посту. Воспоминания, записки, документы. Пг.; М., 1915. С. 284.
5. Там же. С. 388.
6. М-тин И. Сведения о книгах, вышедших в 1864 г. — Кн. Вестн. 1865. № 24. С. 489—491.
7. Куфаев М.Н. Указ. соч. С. 182.
| Предыдущая страница | К оглавлению | Следующая страница |