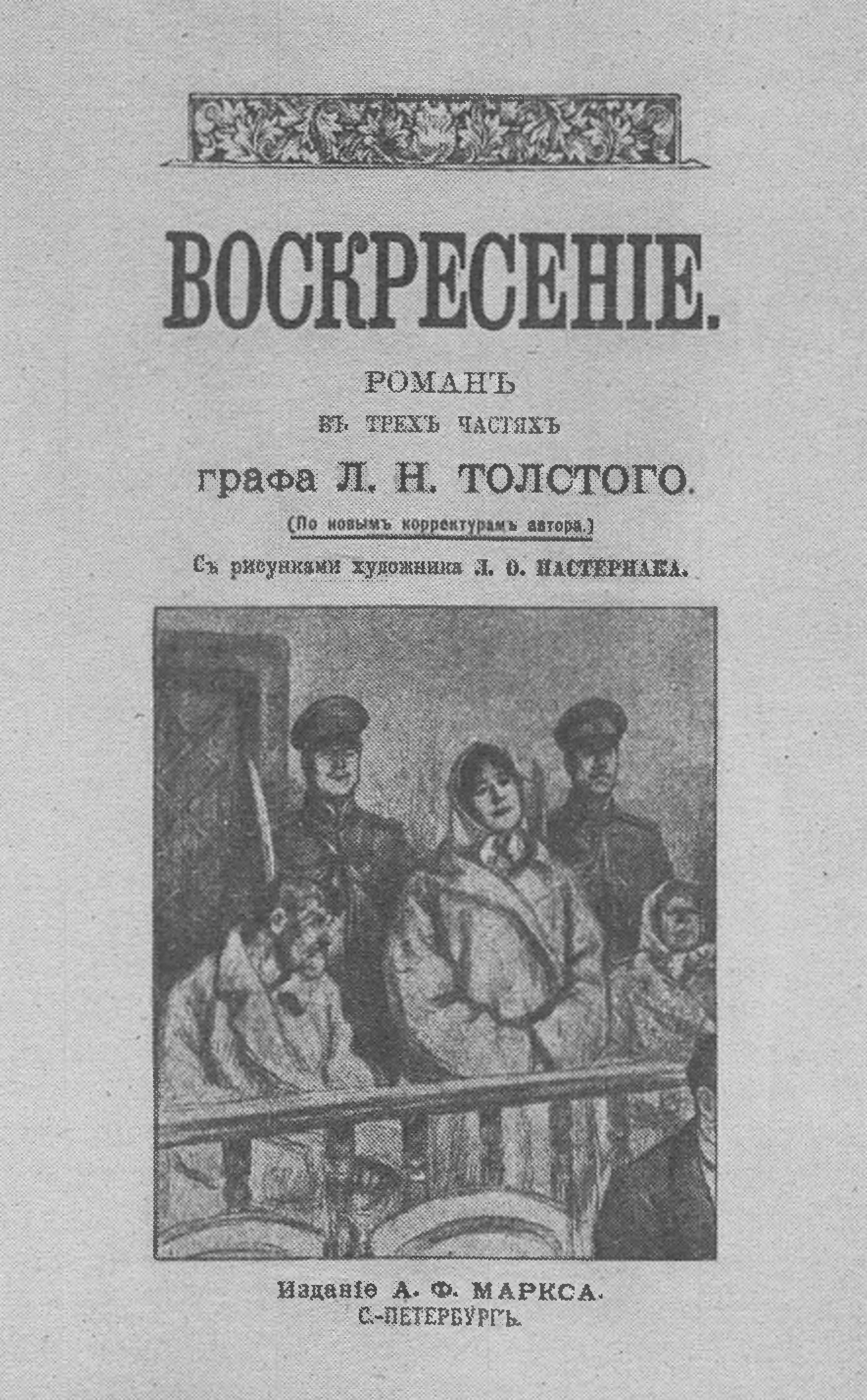В жизни человека бывает момент, когда он достигает вершины своих мечтаний и устремлений. Этот момент называют «звездным часом». Для Маркса «звездным часом» стал день, когда на страницах «Нивы» началась публикация романа Л.Н. Толстого «Воскресение». Дважды в журнале печатались его рассказы (в 1886 г. — «Три старика», запрещенные в отдельном издании цензурой, в 1895 г. — «Хозяин и работник»). Маркс первым открыл им дорогу к читателю, но при всех своих достоинствах они не сыграли той роли, что была уготована «Воскресению». И неудивительно, что публикация этого произведения великого писателя принесла Марксу заслуженную славу. «Прием по одной чайной ложке романа Толстого действует раздражительно, во вред целому впечатлению, — писал Григорович, — а все-таки г. Маркс молодец, что завладел им»1.
Сюжетом для романа послужил случай, рассказанный А.Ф. Кони летом 1888 г. Но прошло десять лет, прежде чем на последней верстке появилась дата: «17 декабря 1899 г.». «Это не было десятилетие непрерывного труда над романом. Толстой то увлекался «Коневской повестью», то разочаровывался в своей работе и надолго оставлял ее», — пишет современный исследователь Э.Е. Зайденшнур2. Причина, заставившая писателя завершить роман, была несколько неожиданна: Толстому понадобились деньги на помощь духоборам*, переселявшимся в Северную Америку.
Вначале писатель намеревался опубликовать «Воскресение» в редакции, сложившейся к февралю 1896 г. В этом варианте отсутствовал целый ряд эпизодов, введенных в роман позднее. По словам Н.К. Гудзия, Толстой «не рассчитывал затрачивать большое количество времени на его обработку», поэтому для увеличения общей суммы гонорара одновременно собирался предоставить в распоряжение издателей и «Отца Сергия» (33, 359)**.
Переговоры с зарубежными издателями вел В.Г. Чертков, намеревавшийся выпустить за границей бесцензурное издание романа в том виде, в каком его создал автор. Получив полномочия Толстого, он объявил в августе 1898 г. в английских газетах, что готов продать права на перевод романа. Тогда же сам автор предложил А.С. Суворину через их общего знакомого П.А. Сергеенко напечатать «Воскресение» в «Новом времени». Видимо, одновременно (не исключено, что через того же Сергеенко) аналогичное предложение было сделано и Марксу. О первоначальной реакции Суворина ничего неизвестно, во всяком случае, категорического отказа Сергеенко не получил. Маркс же ответил положительно. В последний день августа Толстой переслал Черткову его телеграмму «для соображения».
О характере начавшихся переговоров можно судить по дневниковой записи Софьи Андреевны Толстой, помеченной первым сентября: «Левочка тихонько от меня вел переговоры с Марксом (издателем «Нивы») о своей повести. Маркс предложил по нотариальному условию, чтоб исключительно иметь право на повесть, 1600 р. за лист. Когда я это услыхала, я сказала, что Льву Николаевичу нельзя это делать, раз он напечатал, что отказывается от всяких прав. Но это продается в пользу духоборов, и потому Лев Николаевич думает, что хорошо, а я говорила, что дурно. И вот теперь вдруг <...> Лев Николаевич согласился, и Маркс давал без условий ограничения его прав 500 р. за лист, на что Лев Николаевич, кажется, согласится»3.
Назначенный гонорар никак не устраивал Черткова, поскольку не набиралась сумма, необходимая для помощи духоборам. Видимо, с общего согласия Толстого и Черткова на переговоры с Марксом была командирована жена последнего. Однако ощутимых результатов они не принесли. 26 сентября 1898 г. Маркс телеграфировал Толстому, что «трудно довести дело до благополучного конца без личных переговоров, и я бы хотел, если Вы согласны, послать к Вам моего уполномоченного Ю.О. Грюнберга»4.
О том, как дальше развивались события, можно судить по воспоминаниям посланца Маркса, опубликованным уже в наши дни. По словам Ю.О. Грюнберга, Толстой первоначально категорически отказался предпринять со своей стороны какие-либо меры, чтобы оградить интересы «первопечатника» романа. «Я, — говорил Лев Николаевич, — подумал и вижу, что Вам совершенно невыгодно принять мои условия, если вы не можете спастись от того, чтобы у вас не утащили листов. За что же вы будете деньги платить? Мне предлагают такую же сумму и «Живописное обозрение», и «Новое время», которому, т. е. «Новому времени», я, вероятно, не отдам, мне гораздо симпатичнее было бы поместить в «Ниву»; но теперь сам вижу, что вам нет смысла приобретать». В то же время он положительно отнесся к предложению Грюнберга уступить фирме право выпуска полного собрания его сочинений приложением к «Ниве», но посоветовал отложить разговор с Софьей Андреевной по этому поводу на другое, более удобное время.
Переговоры затянулись на три дня. Текст условия несколько раз переделывался. Отдельные его пункты, например невозвращение аванса в случае запрещения романа цензурой, были явно невыгодны для Маркса, но Грюнберг их принял. (Толстой, как помнит читатель, должен был передать деньги духоборам и не имел возможности компенсировать потери издателя). Правда, убедившись, что рукопись романа не превышает 12 авторских листов, писатель согласился ограничить аванс 12 тыс. руб.5 В конце концов стороны пришли к согласию, и Толстой подписал следующие условия: «Представляю редакции «Нивы» право первого печатания моей повести «Воскресение». Редакция же «Нивы» платит мне по тысяче рублей за печатный лист в 35 000 букв. Двенадцать тысяч рублей редакция выдает мне теперь же. Если повесть будет больше двенадцати листов, то редакция платит то, что будет причитаться сверх 12 000; если же в повести будет менее двенадцати печатных листов, то я или возвращу деньги, или дам другое художественное произведение. Лев Толстой. 12 октября 1898 г.» (33, 362).
Находясь в Ясной Поляне, Грюнберг договорился с гостившим там Л.О. Пастернаком об иллюстрировании романа.
Кроме Суворина и Маркса, предложение опубликовать роман получил и С.Е. Добродеев, владелец журнала «Живописное обозрение». Все они представлялись Толстому реальными кандидатами, о чем он и писал Черткову (33, 361). Однако ни Суворин, ни Добродеев не спешили с ответом.
Суворин понимал значение Толстого для русской литературы, но предчувствовал неизбежность предстоящих конфликтов с цензурой. Роман (с сюжетом которого его, безусловно, познакомил Сергеенко) не мог быть опубликован в газете консервативного направления без определенного морального ущерба для ее издателя. В то же время он не хотел и прослыть человеком, пренебрегшим возможностью первым издать новое произведение Толстого. Поэтому приходилось, соблюдая определенный декорум, уступить честь «первооткрывателя» Толстого конкуренту. (Правда, и писатель был рад этому обстоятельству, поскольку, поддерживая многолетние отношения с Сувориным, резко отзывался о его газете). Только тогда, когда в Петербурге стало известно, что Грюнберг выехал в Ясную Поляну, Суворин написал Толстому (7 октября 1898 г.) о своем согласии приобрести роман.
«Я очень сожалею, что до получения Вашего письма уже решил дело с «Нивой» относительно одной повести, — отвечал Толстой. — Другую же охотно оставлю Вам на предлагаемых Вами условиях. Какая же это будет из трех, которые у меня есть, кроме отданных в «Ниву», я не могу решить, не окончивши работу над той, которую отдаю в «Ниву»» (71, 467—468). Приличия были обоюдно соблюдены.
«Живописное обозрение» обратилось к Толстому еще позднее, в ноябре 1898 г., избрав в качестве своего ходатая близкого писателю человека — А.М. Хирьякова. Отвечая ему, Толстой писал: «Право первого печатания отдано «Ниве». Это было последнее предложение, и я на него согласился, когда пришло время» (71, 492).
Сразу же после заключения договора писатель послал для набора первую часть рукописи. Маркс, опасаясь продажи служащими типографии корректурных оттисков каким-либо газетам или журналам, распорядился набрать фальшивый титульный лист, из которого следовало, что публикуется выдуманная повесть В.Г. Короленко «Ожидание». Когда гранки были готовы, отпечатанное название с именем Короленко было срезано, и только в самый последний момент были восстановлены подлинное название и фамилия истинного автора.
В самом начале ноября Маркс, изменяя своей обычной сдержанности, писал Толстому: «Я не могу удержаться, чтобы не сказать Вам о том глубоком впечатлении, которые произвели на нас сила и рядом с нею глубина и свежесть художественного изображения печальных, но правдивых сторон жизни в Вашей повести». А вслед за этим спрашивал его, не найдет ли он возможным, ввиду значительности объема рукописи, «назвать вещь «романом»»6. Как известно, Толстой согласился с этим предложением.
В конце декабря 1898 г. первая часть романа была набрана с большим количеством цензурных изъятий и исправлений. Однако Маркс считал, что благодаря его стараниям купюры эти «оказались очень немногочисленными». «В этом измененном виде текст первых семнадцати глав уже разрешен цензурой, — писал он Толстому. — Остается только добиться того же в отношении к последней части романа» (33, 365). «Пускай цензура выкидывает все, что находит нужным выкинуть, а вы печатайте все, что не выкинуто», — соглашаясь с его мнением, отвечал Толстой (72, 53).
Работа над корректурой «Воскресения» заняла у Толстого целый год. В результате произведенной правки первоначально набранный и окончательный тексты значительно разнились7.
Публикацию романа, начавшуюся с № 11 за 1899 г., предваряло обращение издателя: «С настоящего номера мы приступаем к печатанию романа гр. Л.Н. Толстого «Воскресение» на основании приобретенного нами у автора права первого печатания романа. Никому, следовательно, не разрешено печатать роман одновременно с «Нивой», за исключением некоторых заграничных изданий, которые приобрели вместе с нами это право у автора. Если же кто-нибудь приступит к одновременному вместе с нами печатанию романа «Воскресение», то это будет контрафакция***, которую мы решили преследовать законным порядком». Однако это угрожающее заявление не оказало желаемого действия. Некоторые местные газеты перепечатывали из «Нивы» очередной отрывок ранее, чем до провинциальных читателей доходил номер журнала, где он был помещен. Посыпались претензии к редакции. «Со всех сторон я получаю от подписчиков письма, в которых сквозит мысль, что я их обманул. Страшное это обвинение для человека, старавшегося в течение 30 лет честно служить печатному слову», — писал Маркс Толстому, пересылая эти письма вместе с проектом условия, запрещающего перепечатку. Предложенные Марксом условия писатель не подписал, но обратился к издателям русских газет и журналов с просьбой «подождать с перепечатыванием романа» (72, 107). Какое-то действие это обращение оказало, во всяком случае, реабилитировало Маркса в глазах читателей журнала. Но самого писателя крайне удручала возникшая перепалка. Еще большие огорчения принес конфликт, возникший между Марксом и Чертковым. «Ни тот, ни другой не щадили Толстого и предъявляли к нему все новые требования», — пишет Зайденшнур8.
Разногласия между Чертковым и Марксом вызывались как объективными, так и субъективными причинами. Маркс в еженедельном «тонком» журнале мог отвести роману только ограниченную площадь, поэтому зарубежные издатели, получая материал от Черткова, время от времени опережали «Ниву», нарушая тем самым согласованный график публикации романа. Чертков вообще был недоволен тем, что Толстой, уступив настояниям Маркса, оставил за ним право первоочередной публикации «Воскресения». Возникшая между ними полемика на страницах зарубежной печати ничего не прояснила. И хотя распри мешали и утомляли Толстого, каждая сторона продолжала отстаивать правомерность своих требований, невольно стараясь уронить в его глазах авторитет противника.
Желая примирить стороны, Толстой с самого начала просил близких ему людей, П.И. Бирюкова и И.И. Горбунова-Посадова, достаточно хорошо разбиравшихся в издательских делах, погасить разгоравшийся конфликт. Но вместо этого он получил справки о допущенных просчетах. Со слов Маркса, Горбунов-Посадов сообщал, что Чертков, не знакомый с нравами и обычаями немецкой печати, разослал в редакции крупнейших газет и журналов идентичные предложения, приглашая их тем самым как бы на торги, кто больше даст. Подобный метод, обычный в России, задевал самолюбие непривычных к нему немецких издателей, «и дело не состоялось». Обходя Черткова, Маркс предложил Толстому свой путь проникновения на немецкий рынок9.
Чертков же вообще отказывался иметь дело непосредственно с Марксом и считал более благоразумным сноситься с ним через Толстого, поскольку полагал, что Маркс может недобросовестно воспользоваться его именем. «Ваше же имя, — сообщал Бирюков Толстому, — представляет для него достаточный авторитет»10.
Если распря между Марксом и Чертковым вызывалась несовместимостью характеров двух весьма самолюбивых людей, в конечном счете сумевших переступить через свое «я», то гораздо сложнее было преодолеть неизбежные трудности, связанные с тем, что Толстой фактически перерабатывал первоначальный текст, получая очередные гранки. Все намеченные при этом сроки, естественно, нарушались. Отсылая очередные главы, писатель каждый раз вынужден был просить у издателя извинения за их задержку. Для Маркса подобный ход дела оборачивался сотнями рублей убытка. «Вы не можете себе представить, насколько запаздывание ваших корректур задерживает типографию. Большая часть машин, предназначенная для печатания «Нивы», бездействует за отсутствием материала. Наша типография работает день и ночь, следовательно, для каждой машины имеется двойной персонал: мастер, наладчик, приемщики, и потому каждый день простоя дает несколько сот рублей убытка. Ввиду того, что такое положение вещей тянется уже несколько месяцев, в результате получается значительная сумма. Но я жалуюсь не на этот убыток, а на то ужасное состояние неизвестности, в котором находимся мы все: я, вся редакция и вся типография <...> Пожалейте же нас немножко, граф, и войдите в наше положение», — чуть ли не с мольбой писал издатель Толстому (72, 172—173).
Эта пространная цитата, живописующая ход печатания романа, пожалуй, как ни один другой документ передает напряженность обстановки, сопутствовавшей всему ходу печатания романа и достигшей своей кульминации летом 1899 г., когда автор приступил к работе над не предполагавшейся первоначально третьей частью «Воскресения». Толстой даже вынужден был предложить издателю завершить публикацию романа в «Ниве» второй частью, приложив к ней краткий, в несколько строк, эпилог. Но этот вариант означал крах всех упований и надежд Маркса. Его осуществление нанесло бы не только материальный, но и моральный ущерб фирме. Ее владельцу ничего не оставалось, как пойти навстречу автору и временно приостановить публикацию романа. Так, неожиданно не только для читателя, но и издателя журнала в № 38 «Нивы» появилось сообщение, что на второй части романа «временно приостанавливается публикация «Воскресения»». Третья же часть романа, которая значительно разрослась, будет напечатана в конце года. «Получив вчера первые четыре главы третьей части «Воскресения», — писал автору 12 октября 1899 г. несказанно обрадованный издатель, — я тотчас же сдал их в набор, который типография успела сделать в течение ночи <...> что же касается цензурных условий, то мы приложим теперь не меньше усилий, чем раньше — по отношению к первым двум частям, и готовы со своей стороны сделать все нужное для того, чтобы сказка, которая согласно Вашей остроумной переделке пословицы — не скоро сказывается****, была сохранена возможно более неприкосновенною»11. Бравурный тон письма не исключал беспокойства его автора, предчувствовавшего еще многие трудности на пути завершения этой издательской эпопеи, но хорошо понимавшего все значение совершенного. Последнюю корректуру Толстой отослал 17 декабря, и редакция великим напряжением сил сумела завершить публикацию романа в последнем номере журнала.
Два обстоятельства усугубляли трудности издателя: напряженная работа над иллюстрированием романа и недремлющее око цензуры.
За ходом процесса иллюстрирования «Воскресения» можно проследить по переписке художника Л.О. Пастернака и редактора «Нивы» Р.И. Сементковского, недавно опубликованной Л.Н. Кузьминой, справедливо отметившей, что «яркая социальная заостренность и проникновение в психологию толстовских героев сделали иллюстрации к «Воскресению» значительным явлением в развитии книжной графики <...> Вполне передав дух романа, художник выходил подчас за рамки простого иллюстрирования, развивая едва намеченные Толстым темы и образы»12. Автор чрезвычайно высоко оценил работу художника, испытывавшего громадные трудности из-за непрестанных изменений текста романа. Толстой счел рисунки Пастернака «прекрасными» (84,334).
Еще более тяжелыми оказались цензурные мытарства Маркса. Впоследствии было подсчитано, что в первой части романа допущено 497 всякого рода искажений, пропусков, перефраз, во второй — 165, в третьей — 13613. Правда, по мнению Н.К. Гудзия, определить, какая доля искажений принадлежала «домашней» цензуре, а какая — официальной, не представляется возможным «за отсутствием соответствующего документального материала». Во всяком случае, редакторская правка была весьма значительной. «В интересах «благоприличия» и «пристойности» всякая мало-мальски реалистическая фраза и слово, называющее вещи собственным именем, были редактором, по его же словам, «обесцвечены» или «затушеваны»»14.
Бесспорно, многие действия редактора «Нивы» Р.И. Сементковского вызывались необходимостью провести роман через цензурные рогатки. Все, что прямо или косвенно задевало престиж правительственной системы или церкви, не могло появиться на страницах подцензурного журнала, предназначенного для семейного чтения. Это хорошо понимал сам автор. «В повести есть много мест нецензурных, и чем дальше я над ней работаю, тем этих нецензурных мест становится больше. Но это не должно препятствовать помещению повести в «Ниве», — писал он Марксу. — Для этого нужно поручить просмотр повести литератору, знающему требования цензуры, с тем чтобы этот литератор-редактор исключил все те места, которые он считает совсем нецензурными, и изменил сомнительные места так, чтобы они не представляли препятствий в цензурном отношении. Сделав же эти изменения, я просил бы прислать их мне для просмотра» (71, 481).
Сементковский утверждал, что Толстой положительно оценил его редакторство: «Выкинете одно-два слова, — говорил он ему при свидании, — ан смотришь — спасли целую страницу»15. Позднейшие исследователи, однако, оценивали его деятельность более сурово. Но справедливости ради следует заметить, что редактор испытывал двойное давление: цензуры и Маркса. Последний в ряде случаев одобрял вмешательство цензуры, по его мнению, исходившее из интересов читателей, поскольку благодаря этому исключались моменты, неудобные для чтения в семейном кругу: «Если несколько сильных мест будут вычеркнуты цензурой, то великолепный роман не только ничего не потеряет в своем выдающемся литературном значении, но, скорее, выиграет от этого» (33, 400).
Хороша или плоха подобная установка — особый разговор, но такова была позиция Маркса, и писателю приходилось с ней считаться, хотя сам Толстой, как уверял Чертков, разделял его точку зрения на неприкосновенность авторского текста. По мнению Черткова, лучше было изъять слово или даже целую фразу, заменив ее многоточием, чем корректировать чужие мысли. Со свойственной ему педантичностью Маркс подсчитал, что из первых 28 глав, заключавших в себе 4531 строку, было изъято всего 210 строк, т. е. менее 0,5%. Стоило ли из-за этого волноваться?
И в то же время нельзя забывать, что именно благодаря усилиям и связям издателя роман с минимальными потерями прошел через цензурные рогатки. Особо придирчиво цензура отнеслась к последним частям романа. Сементковский даже посчитал необходимым специально объясниться по этому поводу с Толстым, уверяя его, что «лишь с большим трудом удалось сохранить то, что появилось в «Ниве»» (72, 245). Это обстоятельство вынудило писателя прислать новый вариант заключительных глав. К сожалению, поправки в журнальный текст романа внести не удалось не только из-за сложности объяснений с цензурой, но и по чисто техническим причинам.
По уверению издателя, у него не было никаких шансов «рассчитывать на какие-либо послабления со стороны цензуры. Вот и теперь, — писал Маркс Толстому 21 декабря 1899 г., — отдельное издание уже напечатано, и, несмотря на то, что последние главы в нем вполне тождественны с текстом, помещенном в № 52-ом, я в течение 23 дней не могу, однако, добиться разрешения на выпуск его в свет и с часу на час жду резолюцию. Насколько обстоятельства сейчас неблагоприятны, Вы можете судить по тому, что не были разрешены последние два рисунка «Л.О. Пастернака». Желая все же выполнить просьбу писателя, он нашел единственно возможный выход из создавшегося положения — отпечатал «отдельное издание в минимальном количестве экземпляров, необходимых для скорейшего удовлетворения первых требований», рассчитывая на то, что как только «это первое издание будет разрешено к выпуску», немедленно же начать хлопотать о разрешении внести последние поправки Толстого в последующие издания. Слово свое он сдержал и уже в самом начале января 1900 г. сообщал Толстому о полученном разрешении выпустить в свет отдельное иллюстрированное издание романа и второе (без иллюстраций), в котором можно будет учесть волю автора16.
Незадолго перед тем он решился напомнить Толстому о его былом намерении опубликовать в «Ниве», кроме «Воскресения», еще и некоторые другие произведения: «Отец Сергий», «Кавказские повести», «История моей матери» — и просил разрешения объявить о возможности их появления в журнале. «Я никак не могу согласиться на напечатание объявления о имеющих появиться моих повестях. Если они напишутся, я с удовольствием отдам в ваш журнал, но обещать ничего не могу», — отвечал Толстой Марксу (72, 259). Но не отрицал возможности их сотрудничества в дальнейшем17. (Как известно, названные произведения впервые были опубликованы только в посмертных изданиях сочинений Толстого.) Переписка писателя с Марксом продолжалась до смерти издателя, правда, к названной теме они больше не возвращались. Речь в основном шла об изданиях Маркса, посланных в дар писателю. Одни из них Толстому нравились (например, научно-популярные книги З.Н. Рагозиной из истории Древнего Востока, книга А.Ф. Кони о Федоре Петровиче Гаазе, сочинения Шекспира в переводе Соколовского), другие не вызывали сколько-нибудь активного интереса (например, «Семья и ее задачи. Книга для родителей и воспитателей»).
Публикация «Воскресения» в «Ниве» стала событием в культурной жизни страны. Оправдывались (невольно для их автора) язвительные строки Минаева; журнальная нива начинала давать богатый урожай. Только конкуренты ревниво отнеслись к этому событию. «Мне думается, что вся эта история прекрасно характеризует капиталиста и рабочего в таких представителях, как г. Маркс и гр. Толстой», — записал в своем дневнике Суворин, повествуя о перипетиях взаимоотношений писателя с издателем18.
Сытинское «Русское слово» (1899. № 93) поместило «Открытое письмо А.Ф. Марксу» и «Письмо в редакцию» от, как писалось в газете, «одного из читателей» с протестом против попыток издателя «Нивы» оградить свои права и упреками в адрес Толстого за обращение к издателям русских газет и журналов с просьбой прекратить самовольную перепечатку романа. Впоследствии Чертков также оспаривал юридическую и моральную обоснованность сотрудничества Толстого с Марксом, ссылаясь при этом на авторитет самого писателя: «Л<ев> Н<иколаевич> определенно признавался мне в том, что все дело это было с самого начала неправильно налажено с Марксом, в чем он считал себя виноватым», — писал он, оправдывая занятую в свое время позицию19.
Все эти жалобы вряд ли могли заинтересовать читателей, даже если бы и дошли до их ушей. Отдельные издания романа были мгновенно раскуплены, лишний раз доказав, что и книжная продукция издательства пользуется высоким спросом.
Говоря об успехе изданного А.Ф. Марксом романа Л.Н. Толстого, не следует думать, что речь идет лишь о компенсации огромных затрат (пожалуй, не имеющих аналога в практике дореволюционного книгоиздания) или получении издателем какой-то невиданной прибыли. Такая постановка вопроса не только узка, она, по сути дела, представляет намерения издателя в неверном свете. В издании «Воскресения» как нельзя ярко проявились не только свойственные ему гуманистические начала, но нашел свое отражение общественный подъем начала века, в конечном счете определивший демократическую направленность его деятельности, в чем легко будет убедиться из последующего изложения.
Толстой Л.Н. Воскресение. Обложка
Толстой Л.Н. Воскресение. Иллюстрация Л.О. Пастернака
Главная контора журнала «Нива»
Примечания
*. Духоборы («Борцы за дух») — сектанты крайнего протестантского толка. В 1898—1900 гг. часть духоборов была выслана царским правительством в Канаду.
**. Все ссылки в тексте даются по юбилейному изданию Полн. собр. соч. Л.Н. Толстого. Первая цифра обозначает том, последующие — страницы.
***. Контрафакция — противозаконное нарушение авторского права.
****. 8 октября 1899 г. Толстой писал Марксу: «Пословица говорит: скоро сказка сказывается, а не скоро дело делается, а я говорю: скоро дело делается, а не скоро сказка сказывается, дела самые большие разрушаются, и от них ничего не остается, а сказки, если они хороши, живут очень долго» (72, 207).
1. Письма русских писателей к А.С. Суворину. Л., 1927. С. 48.
2. История создания и публикации романа подробно исследована в трудах советских ученых. См.: Гудзий Н.К. История писания и печатания «Воскресения» // Толстой Л.Н. Полн. собр. соч. Юбилейное изд. Т. 33. М.; Л. 1935. С. 329—422. (Далее все ссылки на это издание даются в тексте в скобках, первая цифра указывает том, а последующие — страницы); Зайденшнур Э. Коневская повесть Л.Н. Толстого // В мире книг. 1975. № 7. С. 68—70.
3. Толстая С.А. Дневники. В 2 т. Т. 2. 1901—1910. М., 1978. С. 77.
4. ГМТ. Отдел рукописей.
5. Грюнберг Ю.О. Мои воспоминания о «Ясной Поляне» (Публ. А.П. Толстякова // Книга: Исслед. и материалы. 1978. Сб. 37. С. 100—108).
6. ГМТ. Отдел рукописей.
7. Там же.
8. Зайденшнур Э. Указ. соч. С. 69.
9. ГМТ. Т. С. 90.6. № 73.
10. ГМТ. 85/11, № 185.
11. ГМТ. Отдел рукописей.
12. Пастернак Л.О. Письма к Р.И. Сементковскому. Публ. Л.Н. Кузьминой // Рус. лит. 1975. № 3. С. 186—191.
13. Бонч-Бруевич В. По поводу русского издания «Воскресения» // Минувшие годы. 1908. № 11. С. 316—317.
14. Гудзий Н.К. Указ. соч. С. 400, 399; по просьбе Т.Л. Толстой издатель возвратил все черновики романа, корректуры и оригинал «Воскресения» (ИРЛИ, 10.379, XIV. С. 160).
15. Сементковский Р.И. Встречи и воспоминания // Рус. старина. 1912. № 1. С. 108.
16. ГМТ. Отдел рукописей. Зайденшнур пишет, что поправки были внесены только во второе издание (см.: Зайденшнур Э. Указ. соч. С. 70).
17. «Я довольствуюсь Вашим любезным обещанием отдать эти произведения в мой журнал тогда, когда они будут готовы к печати», — отвечая ему, писал Маркс (ГМТ).
18. Суворин А.С. Дневник. М.; Пг.; 1923. С. 210—211.
19. ЦГАЛИ, ф. 2160, оп. 1, д. 7, л. 71—72.
| Предыдущая страница | К оглавлению | Следующая страница |