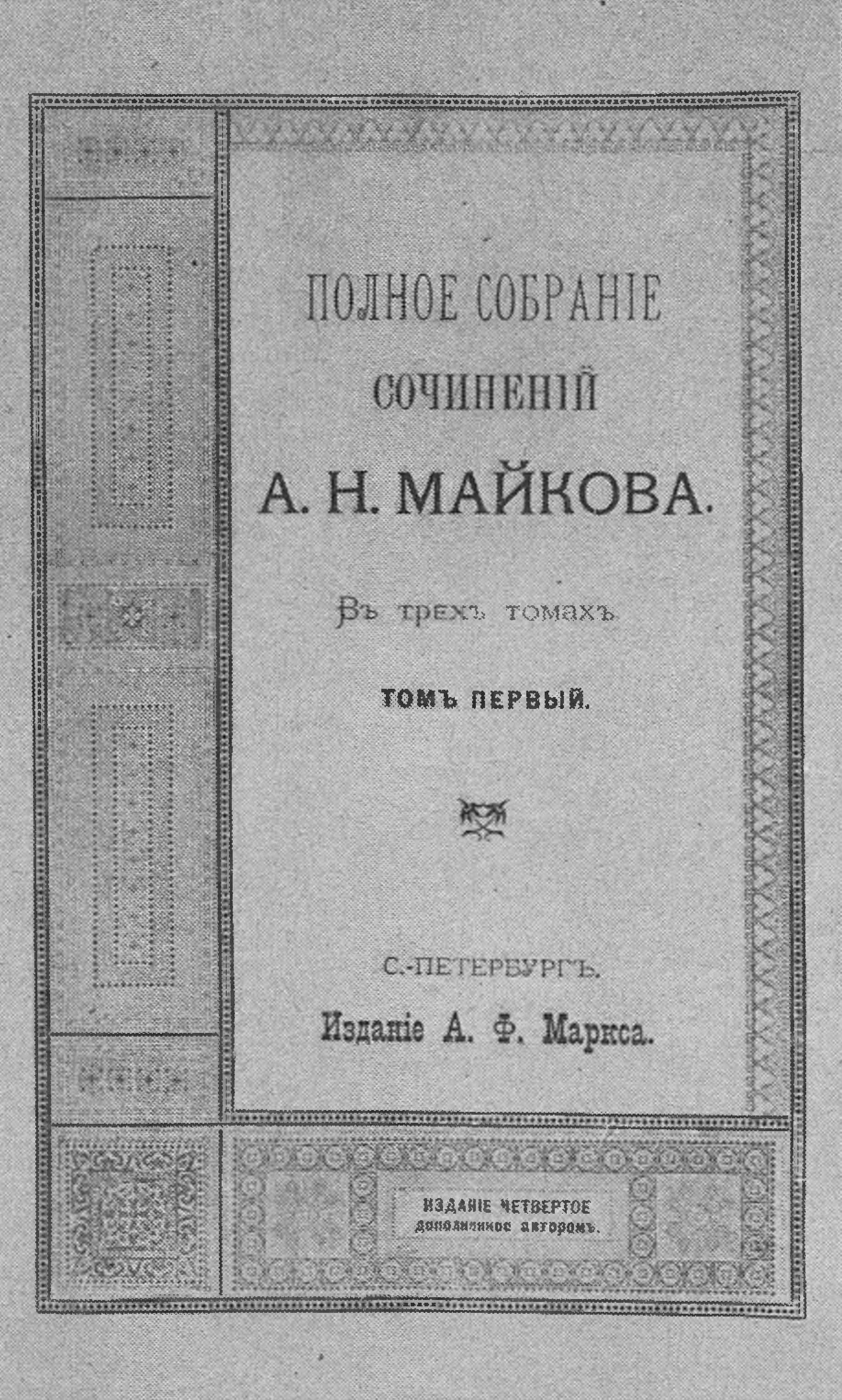В конце прошлого века один петербургский журнал поместил на своих страницах любопытную статью, характеризующую круг чтения сельского учителя. Судя по приведенным статистическим выкладкам, самым распространенным журналом оказывалась «Нива», а самым популярным писателем — Вс. Соловьев1. Все это не делало чести провинциальной интеллигенции, но факты, как говорят, упрямая вещь. Правда, и библиотеки в те годы не блистали своими фондами. «Библиотеки обыкновенно очень неполны, — можно прочесть в другой статье, — наиболее ходкие сочинения вечно разобраны, потому что часто находятся в одном-двух экземплярах; большинство книг зачитано, затрепано, с вырванными листами, <...> множество сочинений наших выдающихся писателей <...> «изъяты» из библиотек <...> Так, например, еще недавно в одной газете сообщалось, что в некоей провинциальной читальне Писарев существовал в каталоге под именем Пискарева и под этим псевдонимом, все-таки с некоторой опаской, выдавался наиболее «благонадежным» читателям»2. Следовательно, даже в тех случаях, когда имелась потребность в чтении, удовлетворить ее было не так-то просто. Приобретать же книги сельский учитель и малоимущий люд были не в состоянии. «Классиков провинция читала лишь по милости издателя А.Ф. Маркса, когда они появились в бесплатных приложениях к «Ниве»», — свидетельствует великолепный иллюстратор русской книги Н.В. Кузьмин3. Другой знаток книги, писатель В.Г. Лидин, уверяет, что по «нивским» собраниям сочинений классиков он и его сверстники «приблизились к великой русской литературе, воспитывались и учились»4. Именно прилагаемые к «Ниве» собрания сочинений классиков и современных писателей составили основу многих личных библиотек как в провинции, так и в столицах. «Произведения русского художественного слова стали проникать во все обывательские уголки обширного отечества. Польза от такого широкого распространения — несомненна; большинство читателей читало и читает до сих пор этих авторов в наиболее распространенных и доступных изданиях Маркса», — писал уже в советское время И.Н. Розанов, добавляя при этом, что внешний вид этих «полных собраний сочинений» оставляет желать многого5.
Собрания сочинений русских писателей, прилагаемые к «Ниве», составили подлинную славу А.Ф. Маркса. Впоследствии идея их издания приписывалась разным лицам. Поскольку документы (если не считать воспоминаний), подтверждающие справедливость высказываемых соображений, не сохранились, следует более подробно разобраться в этом вопросе.
Как помнит читатель, целый ряд собраний сочинений своих соотечественников выпустили современники Маркса Базунов и Стелловский; печатались они и до них, и после них многими издателями. Но никто из этих издателей не намеревался выпускать собрания сочинений планомерно, имея перед собой цель — составить библиотеку лучших образцов русской литературы. Первым, кто задался подобной целью, был А.Ф. Смирдин. О начатой им серии «Полное собрание сочинений русских авторов» В.Г. Белинский писал, что эти издания материализовали блистательнейшую «мысль, какая только попадала в голову русского книгопродавца с тех пор, как существуют на Руси книгопродавцы»6. Правда, впоследствии о них судили более строго. По мнению М.Н. Лонгинова, их нельзя было «ставить в пример успехов нашего времени в издании книг», так как «при всем желании издателя сделать иногда свои собрания полнее прежних (например, Державина, Фон-Визина и др.), истина заставляет сказать, что в них тексты наших писателей часто искажены и обезображены до чрезвычайности»7.
Во второй половине века идею Смирдина вознамерился реализовать М.О. Вольф.
В 1881 г. у него возник «грандиозный проект приобрести у целого ряда современных писателей, а также у наследников некоторых умерших авторов права на издание полных собраний сочинений и сосредоточить в своих руках всю тогдашнюю художественную литературу, за исключением тех немногих сочинений, как Пушкина, Лермонтова, Тургенева, Гончарова, которые уже составили собственность фирмы Глазунова»8. Руководствовался при этом он такого рода соображениями: Россия вступила на тот путь развития, по которому давно идут западноевропейские страны. В Германии же в каждом интеллигентном доме имеется пусть небольшая, но библиотека, которую обязательно украшают сочинения крупнейших немецких писателей. Со временем неизбежно будут создаваться подобные библиотеки и в России, следовательно, настала очередь и для собраний сочинений виднейших русских писателей.
В частности, Вольф хорошо был знаком с практикой Филиппа Реклама (1807—1896), основавшего в 1828 г. в Лейпциге «Литературный музей» — своеобразный комбинат из издательства и публичной библиотеки. Он первым в Европе стал издавать дешевые собрания сочинений классиков. Так, в 1858 г. Реклам выпустил ценою в 1,5 талера полное собрание сочинений Шекспира. Чуть позднее он начал выпускать так называемую «универсальную серию» (куда входили произведения классиков), каждый томик которой стоил не дороже двух зильбергрошей. Одно из этих направлений намеревался реализовать на русской почве Вольф, но не сумел; другое начинание успешно осуществил А.С. Суворин.
По свидетельству С.Ф. Либровича, Вольф собирался в первую очередь приобрести права на сочинения В.Г. Бенедиктова, И.И. Лажечникова, А.Ф. Писемского, затем М.Е. Салтыкова-Щедрина, Н.С. Лескова, Н.Г. Помяловского и многих других авторов, для чего вошел в переписку с самими писателями или с их правонаследниками, однако мало преуспел в своем намерении. Последовавшая в 1883 г. смерть издателя решила исход дела. Вряд ли можно объяснить случившееся скупостью Вольфа, хотя нерешительность в действиях и чрезмерная осторожность в затратах имели место. Беда заключалась в другом: как и прочие издатели, Вольф не мог рассчитывать ни на государственную поддержку в виде субсидий, ни на кредиты банков, а для предполагаемых операций требовалось изъять из оборота достаточно крупные средства.
Область книжной коммерции не имела каких-либо канонов. Как правило, сделки, касавшиеся приобретения авторских прав, поражали современников своей алогичностью. Например, И.В. Сленин приобрел право на второе издание «Истории государства Российского» Н.М. Карамзина за 75 тыс. руб., когда первое издание еще не разошлось9. Подлинной сенсацией стало приобретение Д.Е. Константиновым за 3 тыс. руб. драмы Писемского «Горькая судьбина». Это был, как пишет Либрович, «самый крупный, вообще, до сих пор гонорар, полученный за издание драматического произведения»10. Ту же, как казалось современникам, баснословную сумму он заплатил писателю в 1858 г. за право одного издания романа «Тысяча душ» (в 3 тыс. экз.!).
Основания для столь восторженного восприятия имелись. Ведь П.В. Анненков передал наследникам А.С. Пушкина в виде барыша за собрание сочинений их великого отца всего 2 тыс. руб. А в конце 50-х годов брат известного книгопродавца и издателя Я.А. Исакова приобрел права на литературное наследие поэта за 32 тыс. руб., причем сумма сделки была обусловлена совершенно случайными обстоятельствами. Н.В. Гербель первоначально договорился с сыном Пушкина, чтобы тот уступил ему права на издания сочинений отца за сумму несколько меньшую, так как не располагал достаточными средствами. Узнав об этом, Исаков, «по-купецки» накинув 2 тыс. руб., перехватил куш11. Подобным образом поступил и Глазунов, уведя буквально из-под носа Вольфа договор с Гончаровым.
Не было никакой системы и в оплате литературного труда. Тот же Либрович в цитированной статье писал, что «между оценкой беллетристических произведений с критической точки зрения и такой же оценкой с издательской точки зрения нет ничего общего». Еще в начале 80-х годов гонорары Вс. Соловьева и Вс. Крестовского значительно превышали гонорары И.А. Гончарова, И.С. Тургенева, Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского, так как их книги выходили тиражами, намного превосходящими издания писателей, составивших гордость русской литературы.
Хотя Пушкин и писал в 30-е годы, что благодаря развитию издательской деятельности русская литература «оживилась и приняла обыкновенное свое направление, т. е. торговое, ныне составляет она отрасль промышленности, покровительствуемой законами»12, еще не один десяток лет многое в судьбах русской книги определялось чрезвычайной узостью книжного рынка. И золотой за строку, который платил Смирдин Пушкину, или рубль за строку, которым расплачивался О.И. Сенковский с автором «Конька-Горбунка», — не показатели, это исключения из правил. Ведь по прошествии многих лет Достоевский не мог добиться гонорара большего, чем 150 руб. за лист13.
Приведенным фактам не приходится удивляться, ведь до 1825 г. во всех русских журналах не платили гонораров. Н.И. Греч первым стал оплачивать труд своих постоянных сотрудников (кроме как за стихи, которые считались неким обязательным излишеством)14. Сказанные более чем через полстолетия слова Майкова, что «литературой в России можно как следует заниматься только в том случае, когда хлеб насущный обеспечен», еще долго приводились в доказательство слабого развития книжного дела15.
Во второй половине 80-х годов положение заметно изменилось. Так, если за право издания сочинений Гончарова И.И. Глазунов заплатил 50 тыс. руб., то буквально через несколько лет был вынужден уплатить Тургеневу 75 тыс. руб. Последняя ставка и стала эталоном для всех последующих операций в этой области.
Такова была общая конъюнктура, когда Маркс решил приступить к выпуску собраний сочинений русских писателей. Но прежде чем рассказать об этом важнейшем событии его жизни, следует все же коснуться оценки выпущенных им изданий советскими исследователями. И здесь приходится признать, что в целом наши современники весьма строго судили об их достоинствах. Так, например, в специальной работе, посвященной рассматриваемому вопросу, утверждается, что в так называемых «полных собраниях сочинений, выпущенных Вольфом, Глазуновым, Марксом и другими дореволюционными издателями», как правило, «нет ни полноты, ни критически проверенного текста, ни научного расположения, ни научного аппарата. Часть этих изданий печаталась при жизни авторов, и характер их определялся обычно самим автором. Такие издания — прижизненные и авторизованные — сами по себе ценны. Неполнота и отсутствие в посмертных изданиях критически проверенного текста, комментариев и т. д. вызваны коммерческим подходом издателей к изданию сочинений классиков, низким уровнем тогдашней текстологии, небрежностью редакции и т. д.»16.
Выдвинутые претензии чрезвычайно серьезны. Ведь неполнота корпуса публикуемых произведений, искажение текста и подобные недостатки создают неправильное представление о творчестве писателя не только у рядового читателя, но и исследователя. Следовательно, и трактовка его произведений невольно приобретает тенденциозный характер. Во многом предъявленные обвинения справедливы. Однако вину в случившемся следует видеть, скорее, не в коммерческих устремлениях издателей, а в исторически обусловленных обстоятельствах, сопутствовавших изданию этих сочинений.
«Жалобы на неполноту и на несовершенство так называемых «полных собраний сочинений» наших писателей — обычное явление в нашей литературной критике и специальных исследованиях, — писал в начале 20-х годов литературовед И.А. Кубасов. — Неполнота объясняется, во-первых, тем обстоятельством, что сплошь и рядом рукописные, а порою даже и печатные материалы находятся под спудом у частных лиц и в недрах общественных хранилищ и долгое время остаются совершенно неизвестными или недоступными для тех, кто их собирает; во-вторых, — неосведомленностью собирателей о местонахождении самих материалов и, наконец, — несовершенством методов разыскания материалов, затрудняемого бедностью нашей библиографии; все это в конечном результате имеет своим последствием то, что от внимания наших собирателей, редакторов и издателей ускользают зачастую произведения писателя, уже напечатанные, или же, наоборот, нередко печатается по дурным спискам «впервые» то, что было уже не раз напечатано раньше вполне исправно»17.
Трудности, с которыми сталкивались издатели дореволюционных собраний сочинений, определены столь полно и точно, что читатель имеет теперь возможность оценить степень усилий Маркса в стремлении преодолеть эти неизбежные для того времени препятствия.
Первым в ряду изданий русских классиков стало полное собрание сочинений М.Ю. Лермонтова. В 1891 г. кончался пятидесятилетний срок охраны авторского права, предусмотренный законом. Сочинения писателя стали общим достоянием. Используя это обстоятельство, Маркс выпустил в том же году двухтомник, состоящий из четырех частей, за весьма и весьма умеренную плату, по крайней мере вдвое меньшую, чем назначалась за подобные издания*. В основном сочинения поэта шли в виде премии подписчикам «Нивы», но распространялись и как отдельное издание. Общий тираж составлял 130 тыс. экз. (260 тыс. томов!), одна бумага обошлась Марксу в 50 тыс. руб. Несмотря на тяжесть расходов, издатель «Нивы» впервые продемонстрировал этим шагом свои потенциальные возможности, о чем не преминул сообщить читателям на страницах журнала (1891. № 29. С. 638—639).
Рисковал ли Маркс, приступая в 1889 г. к этому изданию? Думается, что не очень, поскольку у него был уже некоторый опыт. (В 1884 г. Маркс выпустил полное собрание сочинений А.Н. Майкова общим объемом в 90 печ. листов. Трехтомник стоил в четыре раза дороже, чем двухтомник М.Ю. Лермонтова, и тем не менее к 1890 г. он разошелся в пяти изданиях.) Правда, расходы по подготовке сочинений Лермонтова непредвиденно возросли.
Приступая к изданию сочинений Лермонтова, Маркс не очень задумывался над его характером и рассчитывал поступить так же, как поступали в подобных случаях все другие издатели. Обычно подготовительная работа заключалась в том, что перепечатывался уже известный текст и снабжался примечаниями, несколько переработанными «редактором» и заимствованными из предшествующих изданий. Хорошо еще, если за основу бралось наилучшее из них.
В качестве такого рода «редактора» и был приглашен Арсений Иванович Введенский, автор нескольких заметок в «Ниве», в том числе и о Лермонтове. Именно он-то и предложил, вопреки существующей практике, сверить тексты с сохранившимися рукописями и дополнить их вышедшими к этому времени новыми произведениями поэта и его письмами. Естественно, что приступить к работе за первоначально предложенный гонорар ему не представлялось возможным. Маркс его удвоил, но когда ознакомился с проделанной работой, между ним и Введенским состоялся весьма примечательный разговор: «Арсений И<ван>ович, я не могу вполне оценить Ваш труд, этот расход не входил в мои расчеты, и, Бог знает, получу ли я от издания какую-либо выгоду. Но, во всяком случае, я понимаю, что нужно считаться с Вашей работой, хотя Вы делаете ее по Вашему личному желанию. Позвольте мне удвоить условленный нами гонорар...»18.
Этот эпизод весьма характерен для Маркса, умевшего быстро оценить достоинства того или иного предложения. Он правильно рассчитал, что выпущенное им собрание сочинений как всякое массовое издание в научном плане все равно будет уступать составленному таким авторитетом, как П.А. Висковатов («Сочинения», составленные Висковатовым, выходили в шести томах с 1889 по 1891 гг.), зато оно окажется способным конкурировать, благодаря дешевизне, и с ним, и с пятитомником под редакцией И.М. Болдакова, одновременно выпускаемым московской фирмой «Е. Гербек». О том, что Маркс не ошибся в расчетах, свидетельствует успех «Собрания сочинений» Лермонтова у современников. Дало оно и немалый доход, будучи через десять лет переиздано.
Удачное начало побудило Маркса предложить Введенскому подготовить ряд однотомных собраний сочинений русских классиков, на которые не распространялся за давностью лет закон об охране авторского права, благодаря чему их можно было бы продавать за минимальную цену. При этом Маркс, естественно, не намеревался отказываться от возможности выпустить их в виде «изящных» изданий.
Так в 1892 г. выходят полные собрания сочинений А.С. Грибоедова, И.И. Козлова, А.И. Полежаева и А.В. Кольцова. Все они однотипны, кроме основного текста, содержат биографический очерк писателя и его портрет. По составу они более полные, чем предшествующие издания, во всех случаях тексты сверены, насколько это было возможно, с рукописями. Особой тщательностью подготовки и полнотой отличалось трижды переиздававшееся при жизни Маркса полное собрание стихотворений и писем А.И. Кольцова. В него были включены 18 стихотворений из приобретенной Марксом тетрадки поэта под названием «Незабудки с долины моей юности», которые впервые были опубликованы в приложениях к «Ниве» (впоследствии эта тетрадь была передана Марксом в дар Публичной библиотеке), а в примечаниях редактор А.И. Введенский впервые поместил свод описаний рукописей поэта из различных собраний. В него были включены стихотворения, появившиеся в печати после 1846 г.; тексты сверялись с доступными редактору рукописями. Основному корпусу придавались варианты, но не было писем. Последние были помещены в изданиях 1901 и 1905 гг.
На следующий год под редакцией Введенского вышли «Сочинения» М.В. Ломоносова и «Полное собрание сочинений» Д.И. Фонвизина. Эти издания идентичны названным, но в них тексты с рукописями не сверялись. Сборники составлялись по предшествующим изданиям. Тексты сопровождались небольшими примечаниями. Все эти сочинения продавались в розницу, а в 1892 и 1893 гг. выходили в качестве приложений к «Ниве». Повсеместный интерес, проявленный к ним современниками, по всей вероятности, утвердил Маркса в мысли о возможности выпуска многотомных изданий в качестве приложений к «Ниве», вернее убедил его в том, что они могут послужить лучшим стимулом подписки на журнал**. Впрочем, уверять читателя, что издателем двигали лишь меркантильные соображения, вещь весьма рискованная.
Существует целый ряд версий, приписывающих идею издания полных собраний сочинений русских писателей приложениями к «Ниве» различным лицам. Каждая из них имеет какие-то основания, но поскольку одна исключает другую, следует, вероятно, рассказать обо всем, что известно по этому поводу.
Если верить И.Д. Сытину, идею издания русских классиков приложением к «Ниве» подсказал Марксу он в момент их знакомства. Произошло оно, по его словам, на выставке 1883 г., на которой павильоны их фирм оказались рядом. Причем, как показалось Сытину, издатель «Нивы» первоначально не обратил на его советы должного внимания. Однако через год Маркс неожиданно пригласил Сытина в «Славянский базар». Оказав ему чрезвычайно радушный прием, он напомнил о разговоре на выставке: «Маркс вынул бумагу и протянул мне! Читаю и глазам не верю: он купил у Салаева полное собрание сочинений Гоголя за 100 тысяч рублей.
— Теперь понимаешь, почему я желаю угощать? Эта наша дружеская беседа дала мне дорогу. Я теперь знаю, что делать и какие приложения давать при моей «Ниве».
Я с завистью поздравил милого немца, а он дружески хлопнул меня по плечу»19.
Многое в этих воспоминаниях, начиная с даты знакомства, вызывает сомнения. Впервые лубочные издания Сытина демонстрировались на Всероссийской промышленной выставке 1882 г., т. е. ровно за год до того, как он начал самостоятельную издательскую деятельность. Затем его продукция была представлена на Ремесленной выставке 1885 г. и через десять лет — на Первой Всероссийской выставке печатного дела в Петербурге, где его павильон действительно соседствовал с марксовским (зарубежные выставки нами сознательно опускаются).
Хорошо известна и дата, приобретения Марксом авторских прав на сочинения Гоголя. Произошло это событие 8 марта 1893 г. Правда, приобрел он их не у Ф.И. Салаева, а у его наследника Владимира Васильевича Думнова, и не за 100, а за 150 тыс. руб.20 По всей вероятности, сделка оформлялась в Москве, и Маркс действительно мог посетить Сытина сразу же по ее завершении (сохранилась лишь копия купчей записи без указания места ее свершения и фамилии нотариуса). Факт знакомства издателей несомненен, но он относится к 90-м годам и, скорее всего, ко второй их половине. Деловые отношения между ними связаны с приобретением Сытиным гравюр, ранее использованных в «Ниве». Не исключено, что виной всему обычная трансформация памяти: ведь Сытин писал воспоминания в весьма преклонном возрасте.
Заслуживает внимания и версия советского литературоведа М.Я. Полякова, считавшего, что идею издания сочинений классиков приложениями к журналу подсказал Марксу Михаил Николаевич Волконский, редактировавший «Ниву» именно в описываемые годы (на чем основывается эта гипотеза, остается читателю неизвестным)21.
Имеется, впрочем, и другая версия, заслуживающая не меньшего внимания. Академик И.Э. Грабарь, в молодости активно сотрудничавший в «Ниве», писал, что эта идея принадлежала управляющему конторой журнала Юлию Осиповичу Грюнбергу: «Грюнбергу первому пришла мысль давать в приложениях к «Ниве» собрания сочинений русских классиков. Он лично вел переговоры с наследниками Достоевского о приобретении его сочинений и с рядом других правопреемников знаменитых писателей, последствием чего являлось такое массовое распространение русской литературы в широких читательских массах, о каком до тех пор никто из издателей и мечтать не мог. Ему же принадлежала инициатива печатания в «Ниве» «Воскресения» Толстого, для чего он ездил в Ясную Поляну. Только его необычайная скромность помешала в свое время стать этим фактам общеизвестными»22.
Посвящая Грюнбергу «самые сердечные строки» воспоминаний, Грабарь невольно все же погрешил против истины, пусть в частностях и деталях; но именно они и заставляют усомниться в справедливости столь категорического утверждения. Так, например, из воспоминаний А.Г. Достоевской известно, что переговоры с ней вел лично Маркс, а не Грюнберг23. Не был Грюнберг и единственным посредником в переговорах Маркса с Л.Н. Толстым. Эту заслугу он, во всяком случае, делил с П.А. Сергеенко. Правда, с другой стороны, например, хорошо известно, со слов того же Сергеенко, что инициатива покупки Марксом авторских прав у Чехова и издания его собрания сочинений целиком принадлежит Грюнбергу. К тому же нельзя забывать о близости Грабаря к семейству Грюнберга, в котором он, по собственным словам, дневал и ночевал, о тесной его дружбе с И.М. Эйзеном, секретарем журнала, здравствовавшим еще в годы написания воспоминаний. Все это свидетельствует о хорошей информированности Грабаря. Правда, писались воспоминания почти через четыре десятка лет после описываемых событий, и многое могло трансформироваться в памяти их автора.
В наши дни вряд ли возможно с достаточной определенностью принять или отвергнуть версию Грабаря; разумнее, воздав должное и Марксу, и Грюнбергу, вспомнить, что исключительно плодотворная для русской культуры идея издания собраний сочинений классиков в виде серии родилась задолго до описываемых событий, но реализоваться смогла лишь тогда, когда создались для этого соответствующие условия. Тем более, что гратификационная политика Маркса вынуждала его все время опережать своих конкурентов в борьбе за читателя.
Маркс выпускал годовыми приложениями одно, от силы, два собрания сочинений. И для придания веса своему начинанию приступил к выпуску не с сочинений второстепенных писателей, а таких, чье имя было хорошо известно читающей публике. Его не смутило то обстоятельство, что, как правило, сочинения знаменитых писателей были уже приобретены его коллегами, время от времени выпускавшими их небольшими тиражами по цене, делавшей эти издания фактически недоступными даже интеллигентному читателю.
Известный московский букинист А.Г. Миронов писал в свое время, что «изучение деловых и личных отношений писателя с издателем его произведений представляет интерес не только со стороны истории литературного быта, но и для более полного и правильного понимания биографии писателя»24. Мысль эта как нельзя полно подтверждается всем последующим повествованием о взаимоотношениях Маркса со многими знаменитыми его современниками. Исключение представляет лишь рассказ о приобретении издателем прав на литературное наследие Гоголя. Но этот эпизод чрезвычайно важен, поскольку именно с него начинается эпопея.
Майков А.Н. Полное собрание сочинений. Том первый. Переплет
Примечания
*. Цена Полного собрания сочинений М.Ю. Лермонтова объемом в 80 печ. л. была 1 руб. 50 коп., а с пересылкой — 2 руб. В двух коленкоровых, тисненных золотом переплетах — 2 руб., а с пересылкой — 2 руб. 50 коп.
**. В 1893 г. «Нива» имела 120 тыс. подписчиков, в 1884 г., когда приложением было объявлено собрание сочинений Ф.М. Достоевского, тираж «Нивы» подскочил до 170 тыс. экз.
1. Астафьев П. Деревенский читатель. (Письмо из Череповецкого уезда) // Жизнь. 1898. № 35. С. 260.
2. Светлов В. Зерна истины // Нива. 1904. № 50. С. 1014.
3. Кузьмин Н.В. Круг царя Соломона. 2-е изд., доп. М., 1966. С. 195—196.
4. Лидин В.Г. Всем друзьям книги // Работница. 1975. № 1. С. 29.
5. Розанов И.Н. Книга и люди в XIX веке // Книга в России. 1925. Ч. 2. С. 467.
6. Белинский В.Г. Полн. собр. соч. В 13 т. М., 1956. Т. 10. С. 54.
7. Лонгинов М.Н. Соч. Т. 1. М., 1915. С. 324.
8. Либрович С.Ф. Указ. соч. С. 417.
9. Штейнгель В.И. Записки // Общественное движение в России в первую половину XIX века. СПб., 1905. Т. 1. С. 410.
10. Русаков В. (Либрович С.Ф.). Литературные гонорары русских писателей // Новости. 1904. 13 авг.
11. Полевой П. Как были проданы сочинения Пушкина Исаеву // Ист. вестн. 1887. № 3. С. 679.
12. Пушкин А.С. Собр. соч. М., 1976. Т. 7. С. 317.
13. Штейн В. Кое-что о книгах, их творцах и собирателях // Печатное искусство. 1902. № 6. С. 177—179.
14. Полевой К.А. Записки // Ист. вестн. 1887. № 5. С. 295.
15. Русаков В. Литературные гонорары русских беллетристов (документы из истории литературного заработка в России) // Новости. 1904. 12 (25) июля.
16. Рыскин Е.И. Основное издания сочинений русских писателей XIX века. М., 1948. С. 9.
17. Кубасов И.А. Декабрист А.И. Одоевский и вновь найденные его стихотворения. Пг., 1922. С. 1.
18. Введенский А. Из воспоминаний // Нива. 1904. № 50. С. 1003.
19. Сытин И.Д. Жизнь для книги. М., 1985. С. 276.
20. ЦГАЛИ, ф. 139, оп. 2, д. 19, л. 10.
21. Русская театральная пародия, XIX — начало XX века. М., 1976. С. 803.
22. Грабарь И.Э. Моя жизнь: Автомонография. М.; Л., 1937. С. 91.
23. Книга: Исслед. и материалы. 1976. Сб. 32. С. 148—149.
24. Миронов А.Г. И.С. Тургенев и книгоиздательство братьев Салаевых в Москве. — Книга: Исслед. и материалы. М., 1961. С. 5. С. 323.
| Предыдущая страница | К оглавлению | Следующая страница |