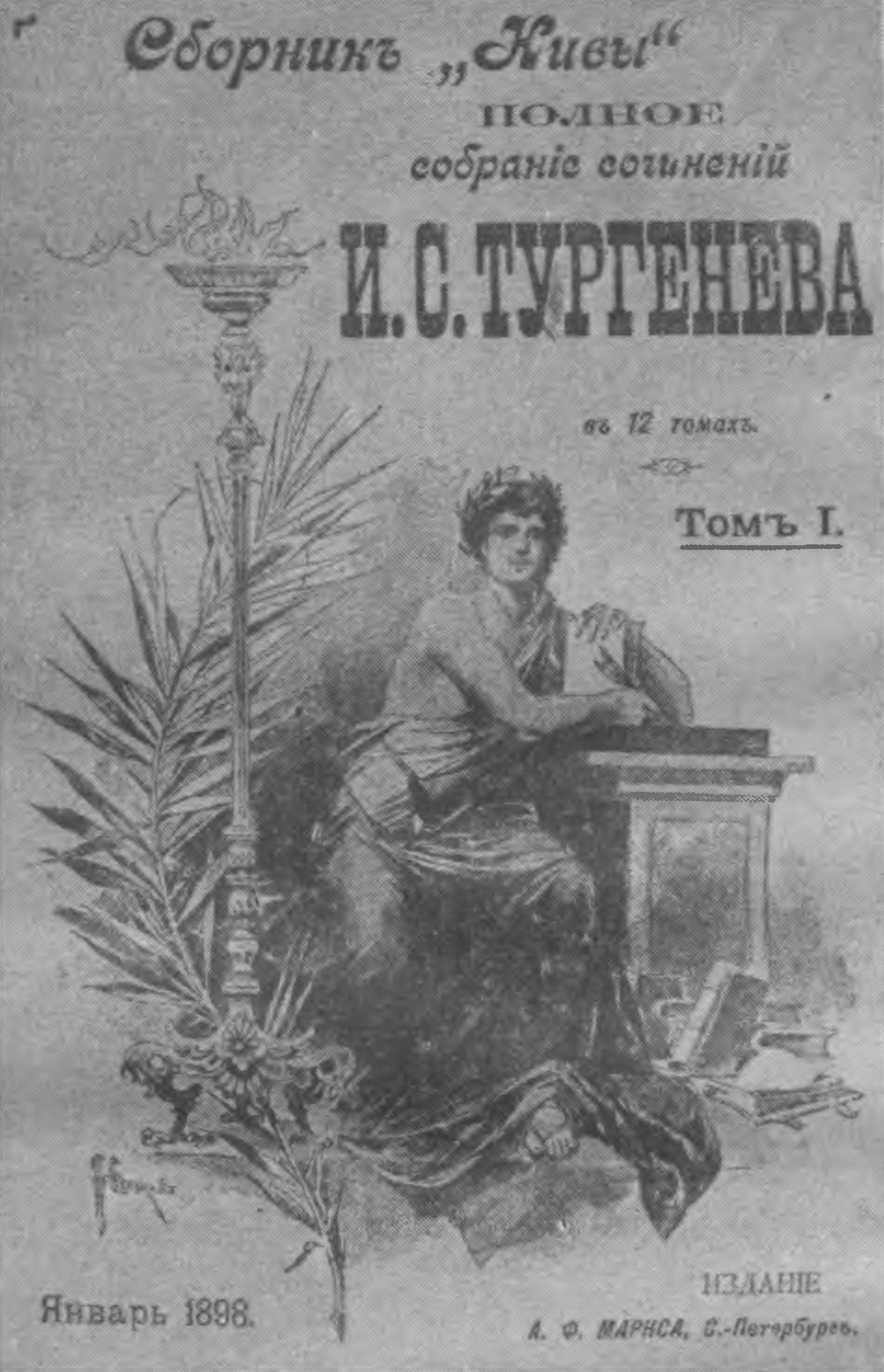Выпущенные приложениями к «Ниве» собрания сочинений классиков становились общедоступными в прямом значении этого слова. Но бесспорно и другое: благодаря этим изданиям Маркс сумел развить свое дело и удачливо соперничать с конкурентами. «К 1 января подписка на «Вокруг света» упала до половины благодаря тому, что «Нива» дает приложением Тургенева», — жаловался в письме к Чехову Сытин1.
Не преувеличивал ли он? Да и были ли столь популярны «нивские» приложения? Один из современников, словам которого можно полностью доверять, писал 8 марта 1898 г. в далеком сибирском селе Шушенском: «Я даже думал такую вещь сделать: выписать себе «Ниву». Для ребят Проминского это было бы очень весело (картинки еженедельно), а для меня — полное собрание сочинений Тургенева, обещанное «Нивой» в премию, в 12 томах. И все сие за семь рублей с пересылкой! Соблазнительно очень. Если только Тургенев будет издан сносно (т. е. без извращений, пропусков, грубых опечаток), тогда вполне стоит выписать»2. Дальнейший текст письма убеждает, что В.И. Ленин (а автором этого письма был именно он) еще не видел ни одного из «нивских» собраний сочинений, но, будучи хорошо знаком с аналогичными изданиями, высказывал сомнение в их достоинствах. Да и как не усомниться? Фантастически высокий тираж и фантастически низкая цена. Если за многие годы, предшествующие «нивскому» приложению, полное собрание сочинений Тургенева разошлось в количестве всего 27 тыс. экз., то Марксом они были выпущены тиражом чуть ли не в 200 тыс. экз.!
У каждого поколения читателей своя иерархия любимых писателей, но в 90-е годы прошлого века после произведений Л.Н. Толстого наибольший общественный интерес вызывали сочинения недавно умерших И.С. Тургенева, И.А. Гончарова, М.Е. Салтыкова-Щедрина, а из здравствующих — А.П. Чехова. Их-то сочинения Маркс и решил последовательно выпустить в качестве приложений к «Ниве». Однако осуществить это намерение оказалось не так-то просто. Первый из названных писателей был связан договором сначала с Ф.И. Салаевым, затем с И.И. Глазуновым, получившим право монопольного издания его сочинений. Адольфу Федоровичу оставалось лишь уповать, что рано или поздно настанет день, когда Тургеневу будет не зазорно печататься в «Ниве».
В начале 80-х годов, когда «Нива» достигла небывалого еще в истории русской журналистики тиража в 70 тыс. экз., Маркс через Григоровича предложил Тургеневу опубликовать в журнале любое из его произведений.
В ответном письме писатель благодарил Григоровича «за доставление великолепного предложения г-на Маркса»3.
Осенью 1882 г. он вновь подтвердил свое намерение предоставить журналу новую повесть, о чем Маркс тут же поспешил сообщить своим подписчикам4. На этом, правда, дело и остановилось. Тяжкая болезнь помешала Тургеневу выполнить свое обещание. Чувствуя неловкость, он в повторном письме к Григоровичу не преминул заметить, что «был бы рад сдержать слово Марксу — и сдержу его, как только болезнь не помешает»5. Но шло время, а болезнь прогрессировала; все меньше и меньше надежд оставалось на ее благополучный исход. И тогда Маркс сделал шаг, последствия которого долго и разноречиво обсуждались в литературных кругах: он решил навестить Тургенева и просить разрешения напечатать несколько неопубликованных его произведений (об их существовании он узнал от близкого Тургеневу человека, поэта Я.П. Полонского). Впоследствии тот уверял, что хотел лишь уберечь Тургенева от домогательств ретивого издателя, обещая тому в случае смерти писателя передать эти произведения для публикации в «Ниве» (речь шла в основном о «Стихотворениях в прозе»). Попали они в руки Полонского без ведома автора. Во время совместного пребывания в Спасском-Лутовинове Иван Сергеевич передал жене Полонского ключи от кабинета и разрешил пользоваться библиотекой и ознакомиться с архивом (но отнюдь не распоряжаться им). Когда впоследствии жена поэта, весьма вольно истолковав это разрешение, изъяла часть переписки, управляющий имением тут же сообщил об этом Тургеневу. Но в тот момент писатель поспешил погасить искорку возможного конфликта, сообщив, что «письма нашлись, ему их вернули обратно»6. Поэтому невольная попытка напомнить ему о произведениях, о которых заведомо никто не должен был знать, не могла окончиться удачей.
Отправившись в июле 1883 г. за границу, Адольф Федорович «нарочно поехал в Париж, чтобы лично иметь случай видеть Ивана Сергеевича и от него самого узнать окончательно о положении его здоровья и его намерениях»7.
История их свидания довольно подробно изложена издателем «Нивы» еще при жизни Тургенева. Со свойственной Марксу педантичностью он описывает дом, обстановку, комнату, в которой лежал больной писатель, весьма подробно воспроизводит их краткий разговор (возможно, тут же записанный) и столь же скрупулезно передает свои впечатления о встрече: «...Я передал поклоны от Д.В. Григоровича и Я.П. Полонского. Когда я спросил у него, нет ли между его старыми рукописями чего-либо еще не напечатанного, например стихов в прозе или чего-нибудь подобного, начатой повести, он ответил: стихи в прозе, которые еще есть у него, писаны все к разным лицам или о разных личностях, и теперь он их ни в коем случае не решится публиковать, и долгие, долгие годы нельзя вовсе об этом и думать; лучше он позволит себе живому отрубить руку, чем допустит опубликование этих вещей теперь же». Так же отрицательно писатель отнесся и к предложению напечатать несколько его писем. «Более ничего нельзя было сделать. Он был так расстроен, как только может быть тяжело больной, и так слаб, что я поторопился окончить разговор. Он не скрыл от меня, что долгий разговор всегда волнует его»8. По просьбе Маркса Тургенев отправил ему еще одно письмо, в котором подтвердил свое прежнее обещание.
По всей видимости, их разговор происходил не с глазу на глаз, а в присутствии П. Виардо и шел на французском языке, равно доступном всем собеседникам (кстати, одну идиому Тургенева Маркс так и не перевел с французского, не найдя ее русского эквивалента). Во всяком случае, если и не одновременно с Тургеневым, он все же беседовал с П. Виардо, поскольку ссылается на нее, когда говорит о некотором улучшении самочувствия писателя. («Г-жа Виардо — почтенная, пожилая дама. Она очень заботится об Иване Сергеевиче...») В отличие от Тургенева, ее вряд ли мог взволновать приезд какого-то издателя, но неожиданно для себя она узнала, что часть архива писателя находится в России. Более того, в чужих руках. Возможно, это обстоятельство и определило резкость тона отправленного на следующий день письма Полонскому9. Написанное рукою Виардо, оно лишь датировано и подписано Тургеневым (отсюда искажение при упоминании фамилии Маркса. П. Виардо называла его «Сакс»). Полное упреков в бестактном разглашении интимных сведений, письмо повлекло за собой разрыв многолетней дружбы двух писателей.
Конкуренты Маркса попытались в своекорыстных целях использовать возникшее недоразумение, да и в обществе оно вызвало различные толкования10, по всей видимости небезразличные для издателя «Нивы», иначе он вряд ли бы выступил со своими воспоминаниями.
Со временем острота конфликта стерлась. Полонский, несмотря на свои слова ни за какие деньги не печатать в «Ниве» воспоминаний о Тургеневе, вскоре опубликовал их на ее страницах11. Там же появился последний рассказ Тургенева «Конец», и издатель журнала выполнил данное подписчикам обещание*. Однако в тот момент он, конечно, не мог и мечтать о выпуске полного собрания сочинений писателя. Лишь через десятилетие его положение столь укрепилось, что он оказался в состоянии откупить у И.И. Глазунова право на одно издание сочинений Тургенева в качестве бесплатного приложения к своему журналу**. Правда, с условием, что они могут быть выпущены «исключительно... в течение 1898 подписного года и отдельно от журнала продаваться не будут»12.
В уже упоминавшемся проспекте собрания сочинений И.С. Тургенева Маркс так объяснял свой выбор: «Тургенев — слава и гордость русской литературы. Родное слово он обогатил произведениями, которые по художественному своему значению упрочили за ним место среди наших классических писателей и создали ему европейское имя; русский народ называет его одним из вдохновеннейших и стойких борцов своего освобождения от крепостного права; русская женщина признает его лучшим истолкователем возвышенных своих стремлений; наконец, русское общество видит в нем писателя, который дал самое полное и верное выражение тому, чем оно живет, к чему стремится, что его волнует, заботит...»
Предпринимая новое собрание сочинений писателя, Маркс волей-неволей должен был подумать о том, чтобы оно не одной ценой отличалось от последнего (посмертного) его полного собрания сочинений в 10 томах. Текст авторизованного издания вновь проверять по рукописям, естественно, не было никакого смысла. Оставалось лишь выпустить дополненное издание. Такая возможность имелась. Дело в том, что Глазунов купил фактически лишь право литературной собственности на прозаические произведения Тургенева, а обладателем его поэтических произведений оказался Иннокентий Михайлович Сибиряков, к которому они попали следующим образом.
Незадолго до смерти писателя, 23 апреля 1883 г., его поверенный и близкий приятель А.В. Топоров продал за 50 руб. серебром племяннице своей жены учительнице Гдовского женского училища Евдокии Ивановне Кузьминой «право собственности на печатание и издание в свет всех стихотворений, написанных Иваном Сергеевичем Тургеневым, как ныне уже напечатанных, так равно и тех, которые еще могут быть напечатаны в разных журналах и сборниках»13.
В тот же день Кузьмина, которая была опекуншей воспитанницы Тургенева Любы Ивановой, составила завещание в ее пользу14. В нем она писала, что право на издание и продажу стихотворений Тургенева «предоставляет в полную собственность» «малолетней Любови Федоровне Ивановой», а до ее совершеннолетия — воспитателю ее Александру Васильевичу Топорову. Таким несколько необычным способом была оформлена фактически «дарственная» Тургенева.
«Написанное еще при жизни Тургенева и, быть может, нет без его ведома завещание Е.И. Кузьминой, — отмечает комментатор первого тома академического издания полного собрания сочинений И.С. Тургенева, — является свидетельством того, что писатель отнюдь не собирался препятствовать выходу в свет отдельного издания своих стихотворений и поэм»15. Он же пишет, что в январе 1895 г. была сделана попытка заключить договор с издателем И.И. Глазуновым на выпуск сборника в свет (сохранился черновик, написанный рукой Топорова). Причем одним из его пунктов Кузьмина поручала «все расчеты по сему изданию... производить окончательно и рассчитываться, где следует, Александру Васильевичу Топорову». Издав сборник стихотворений, Кузьмина, через того же Топорова, переуступила свое право за 7000 руб. Сибирякову. Последний, в свою очередь, выпустив в 1891 г. второе издание «Стихотворений», продал его 30 октября 1895 г. Марксу за 3000 руб.16 Таким образом, издание Маркса пополнилось поэмами «Андрей» и «Параша» (в свое время о ней восторженно отзывался В.Г. Белинский), стихотворением «Разговор», переводами из Байрона и Гете, эпиграммами, «Стихотворениями в прозе», оригиналы которых хранились у их первого издателя М.М. Стасюлевича17.
Сочинения Тургенева были отпечатаны на белой глазированной бумаге, более четко, чем предшествующие издания, и стоили в Петербурге без доставки 5 руб. 50 коп., а в других городах (с доставкой) 7 руб., в то время как за глазуновское надо было уплатить в два раза дороже — 15 руб. К тому же в придачу к сочинениям, изданным Марксом, полагалось пятьдесят два номера «Нивы», моды, выкройки и подобные приложения. Сытину и другим издателям было над чем задуматься.
Тургенев И.С. Полное собрание сочинений. Том первый. Титульный лист
Примечания
*. Рассказ «Конец» был продиктован писателем на французском, немецком и итальянском языках. В марте 1885 г. Виардо прочитала этот рассказ в своем изложении на французском языке П.В. Анненкову и В.И. Гаевскому, которые предложили ей опубликовать его по-русски, мотивируя это тем, что «последняя творческая мысль Тургенева принадлежит России». Перевод был выполнен Д.В. Григоровичем. По желанию Виардо, рассказ появился почти одновременно на обоих языках во Франции и России (Гессен С. Полина Виардо и посмертный рассказ Тургенева // Печать и революция. 1928. № 7. С. 60—74).
**. Глазунов приобрел право литературной собственности на сочинения Тургенева в 1883 г. и в следующем году выпустил их тиражом в 6000 экз. (Кн. вестник. 1884. № 3/4. С. 117).
1. Цит. по: Коничев К. Русский самородок: Повесть о Сытине. Л., 1966. С. 102.
2. Ленин В.И. Письма к родным. 1894—1919. М., 1931. С. 102.
3. Тургенев И.С. Полн. собр. соч. и писем. Письма. Л., 1968. Т. 13. Кн. 1. С. 217.
4. Нива. 1882. № 43. С. 1029.
5. Тургенев И.С. Указ. соч. С. 161.
6. Красн. архив. 1940. № 3. С. 210.
7. Маркс А.Ф. Об И.С. Тургеневе (от издателя) // Нива. 1883. № 34. С. 821.
8. Там же.
9. Тургенев И.С. Указ. соч. Кн. 2. С. 258. Первый комментатор этого письма Г.П. Миролюбов писал, что «П. Виардо ревниво оберегала свои права наследницы имущества И.С. Тургенева и не желала разглашения тайны оставшихся рукописей» (Звенья. 1950. Вып. 8. С. 250). Ему же принадлежит наиболее подробное освещение возникшего на этой почве конфликта (Там же. С. 251—255).
10. См., напр.: Дневник Е.А. Штакеншнейдер // Голос минувшего. 1919. № 14. С. 190—196.
11. Полонский Я.П. И.С. Тургенев у себя в последний приезд // Нива. 1884. № 1—8.
12. ЦГАЛИ, ф. 509, оп. 3, д. 11, л. 1.
13. ЦГАЛИ, ф. 509, оп. 3, д. 10, л. 1.
14. Об этой девочке см. в кн.: Тургенев и Савина. Пг., 1918. С. 17.
15. Тургенев И.С. Полн. собр. соч. и писем. Соч. М.; Л., 1960. Т. 1. С. 507.
16. ЦГАЛИ, ф. 509, оп. 3, д. 10, л. 3, 5, 6.
17. ГБЛ, ф. 360, карт. 1, д. 65, л. 1.
| Предыдущая страница | К оглавлению | Следующая страница |