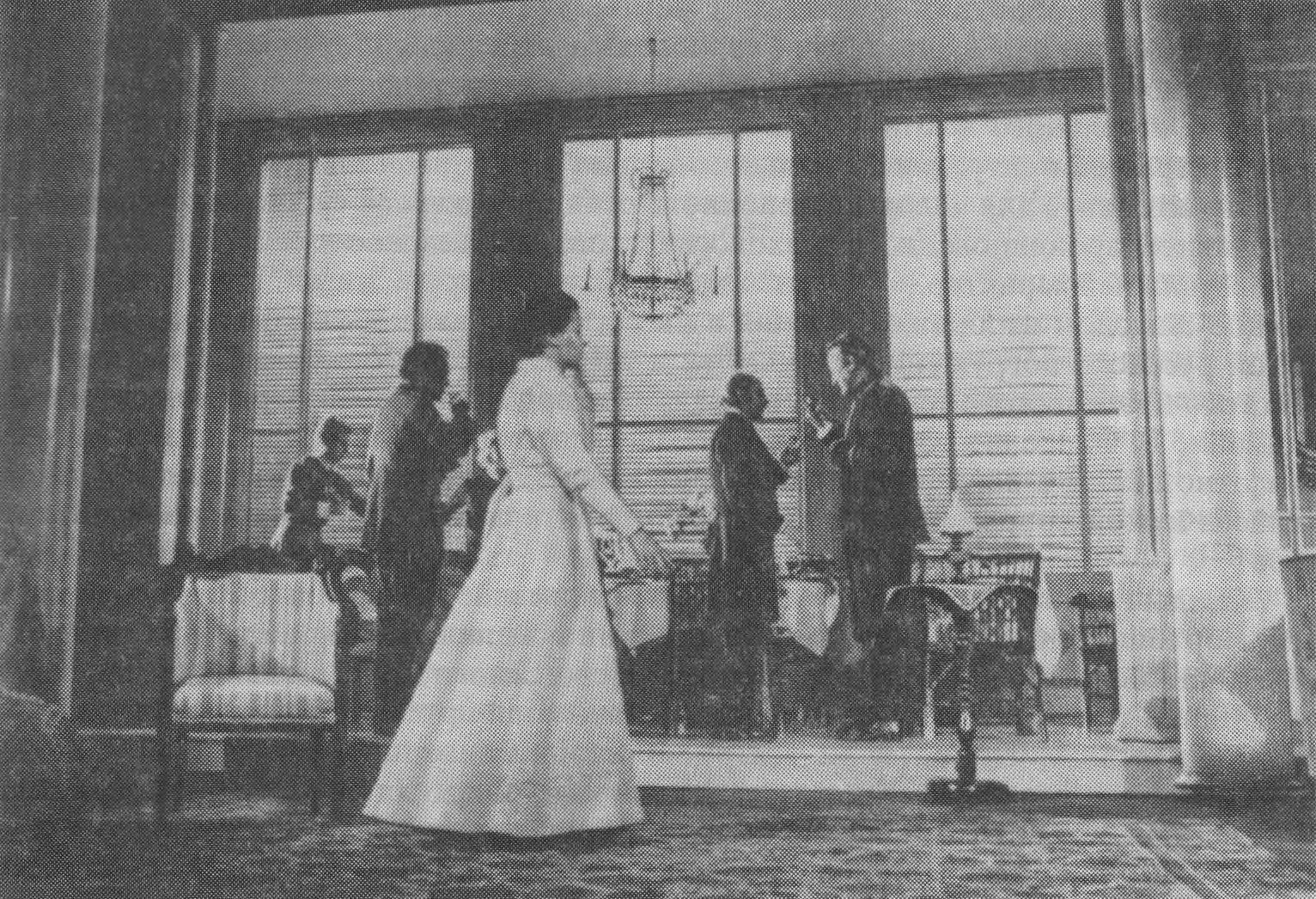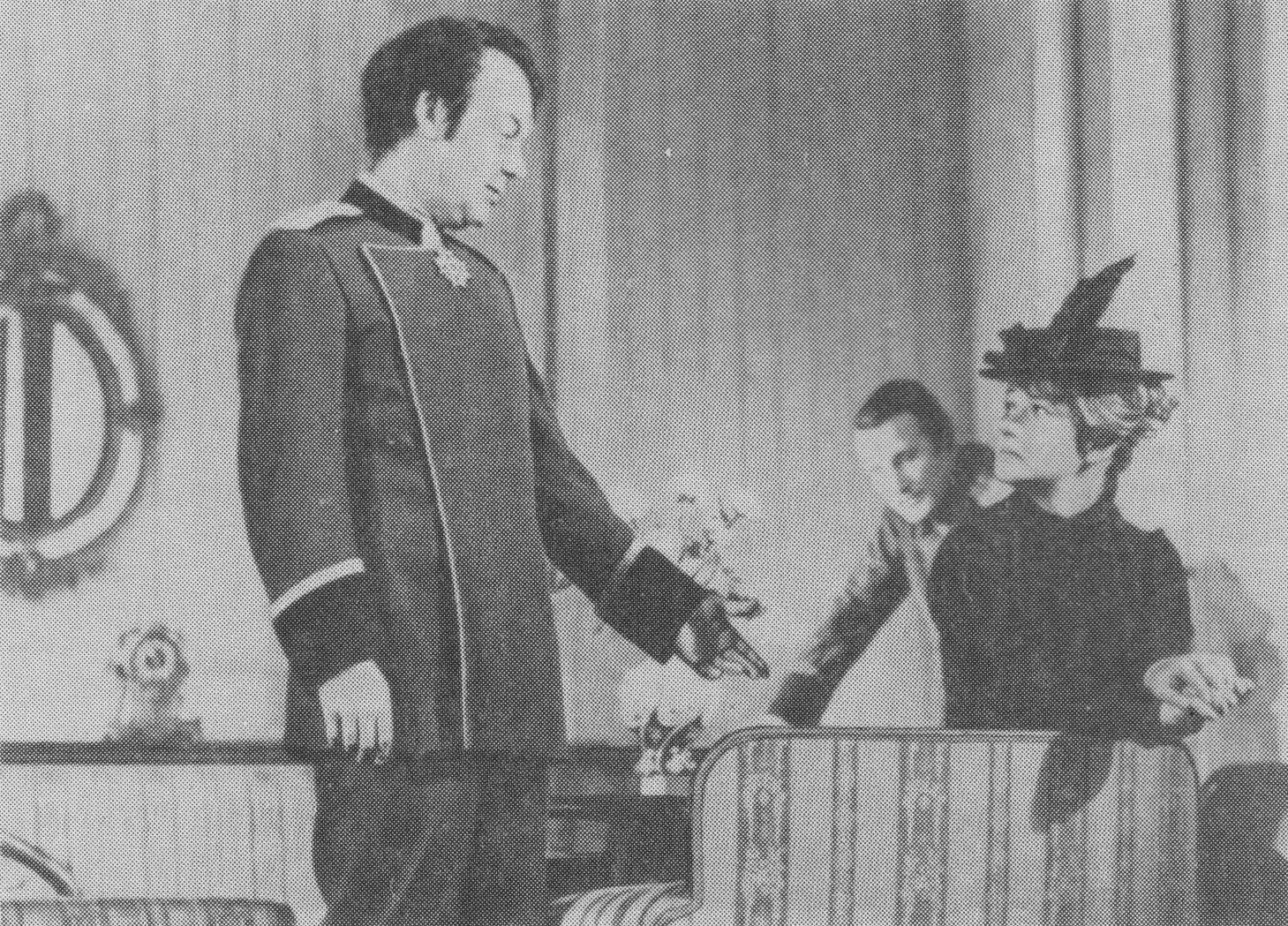История постановок пьес А.П. Чехова в Австрии показывает, сколь сложными и долгими путями происходило их постижение, какая напряженная идейно-эстетическая борьба развертывалась вокруг их постановок, чем русский писатель оказался органически близок австрийской культуре и в чем не понят вплоть до наших дней.
Судьба Чехова-драматурга с самого начала, с первой постановки 1901 г., складывалась парадоксально: огромным успехом до начала второй мировой войны, пользовались его одноактные комедии, и были обречены на неуспех и непонимание большие драмы.
Важную страницу в постижении драматургии Чехова в Австрии открыли гастроли Московского Художественного театра, рассматривавшиеся как явление исключительное, как событие в художественной жизни страны. Произошло открытие русской драматургии, русского театрального искусства, само́й русской жизни. В спектаклях МХТ открывалась невиданная глубина драматургии Чехова, и это давало импульс к развитию австрийского театра, стимул в борьбе за реализм в нем, в том числе и в интерпретации Чехова.
Зафиксирована по дням хроника венских гастролей МХТа (12—22 апреля 1906 г.)1, широко известны венские впечатления, отраженные в записных книжках К.С. Станиславского и в воспоминаниях В.И. Немировича-Данченко2, восторженные отзывы венской прессы3. Писалось и о той роли, которую сыграл в творческой судьбе великого трагика Австрии Йозефа Кайнца МХТ и в особенности его спектакль «Дядя Ваня»4. И все же есть необходимость вернуться к отзывам австрийской прессы с тем, чтобы проанализировать их — под углом зрения отразившейся в них меры понимания Чехова критикой того времени.
Из чеховских пьес в Вене был показан «Дядя Ваня». То, что объединяло всех критиков, — это признание замечательных актерских достижений, ансамблевого характера спектакля. «Великое, достойное восхищения искусство москвичей» оценивалось как сама «живая природа»: «не игра это была, а настоящая жизнь», «не актеры, но в своем духовном единении — творцы жизни»5. «Москвичи со-творили для нас интимную привлекательность, которая скрыта в драмах Горького и Чехова», и это было, как свидетельствуют другие аналогичные суждения, потрясением: ведь «зритель, к своему собственному удивлению, приходил в состояние душевного возбуждения, точно он принимал участие в интимном переживании»6. Именно постановка «Дяди Вани» (венцы увидели также «Царя Федора Иоанновича» А. Толстого и «На дне» М. Горького) выделялась как «вершина гастролей в любом отношении»7.
Пьеса оценивалась как «удивительная, исполненная настроения картина буржуазной жизни-трясины»8, вся драматургия писателя как «описание жизни и состояния русского общества в последнюю четверть века»9. Свидетельством тому, что эти оценки не были случайными, а передавали существенную сторону оставляемого от пьес Чехова впечатления, является суждение, высказанное известным австрийским историком Г. Юберсбергером в его отзыве на диссертацию о Чехове, защищенную в Венском университете П.Н. Берковым в 1923 г.: «Кто хоть раз видел драму Чехова в интерпретации Московского Художественного театра, тот не мог избежать впечатления, что здесь мастерски передан целый период русской жизни»10.
Австрийских критиков поражало в «Дяде Ване» отсутствие действия в привычном для них смысле, о чем они не уставали писать на разные лады. В оценке одного из них это была «слишком говорливая пьеса», «пьеса-беседа весьма современного характера, с оттенком мировой скорби в бесцветности»11, другой определял ее как «четырехактную драму, лишенную драматичности, однако представляющую цепь сцен, наполненных до краев жизнью, в которых, собственно, даже ничего особенного поразительного не происходит; в целом же пьеса, впрочем, весьма интересна»12; третьему она казалась «драматургической равниной, как и «На дне» Горького, однако еще более ровной. Нигде не скажешь о нагромождении событий, о горной цепи завершенного действия. Однако люди подлинны, и слезы подлинны, и потому проникают они нам всем так горячо в сердце»13.
Делалась и попытка связать характер и поведение чеховских персонажей с современной историей. «У всех этих людей нет настоящей воли. Они родились и выросли в пассивности, чтобы жить, будучи добычей каких-нибудь неудовлетворенных эгоистов, и умереть. Это русская душа во времена великой пустоты перед катастрофами, какие с тех пор разразились». Если у одних критиков обстановка пьесы ассоциировалась с австрийским безвременьем — «эпохой бидермайера» («Атмосфера в пьесе, как во времена нашего бидермайера. Даже дом и сад, обстановка дома и жизненные обычаи напоминают об этом. Только самовар вместо нашей кофеварки»14), то другие, стремясь выйти за рамки театрально-эстетических оценок, ставили вопрос о роли пьесы Чехова в общественной жизни России: «Все здесь симптом и одновременно символ, самое малое впору самому великому, точно эпиграф; семья подобна государству — на русскую публику такая семейная драма должна воздействовать как злободневная политическая пьеса»15.
Говоря об огромном успехе мхатовцев в Вене, нельзя не отметить того удивительного факта, что спектакли проходили далеко не в полном зале Бургтеатра. «Публика, которая, к сожалению, так скупо являлась, предпочла настоящую весну (спектакли состоялись в пасхальные праздники. — Е.Н.) той весне искусства, которая столь поражающе пришла к нам с севера, — писал критик «Нойе Фрайе Прессе» и добавлял: — Каждое пустое место в зрительном зале — тяжкое обвинение театральному городу Вене, художественному восприятию публики. Несколько сот присутствующих, конечно, представляли ее тончайшую духовность. Наши литераторы и интеллигенты с воодушевлением поклонялись русским мастерам. И можно было видеть актеров, которые придавали публике особый облик, и наши любимцы аплодировали сами с таким энтузиазмом, с каким это делали иногда лишь их почитатели»16.
Когда в апреле 1921 г. часть труппы МХТа выступила в Вене с двумя чеховскими спектаклями, в рецензиях на них наметились новые акценты в оценке драматургии русского писателя. Показательно мнение компетентного театрального критика того времени, писателя и драматурга Макса Мелла (1882—1971), руководившего редакцией культуры ежедневной газеты «Винер Миттагс Цайтунг», в которой и печатались его рецензии. Мелл относил «На дне», «Трех сестер», «Дядю Ваню» к «самым значительным театральным пьесам национальной русской драматургии»17. Характеризуя драмы Чехова в пору господства на австрийской сцене экспрессионистской драматургии, он указывает на их естественность и свободу, отсутствие в них сконструированности, рассудочной заданности искусства. «Драмы Чехова не такие, как наши. У нас для них свое обозначение — картины жизни. Они не выстроены, похоже, что в них не управляет никакая необходимость и в них ничего не происходит»18.
Исключение в его глазах представляет «Дядя Ваня» — «может быть, та среди пьес Антона Чехова, которая больше всего приближается к западной, французской драматургии. Она могла как-нибудь однажды возбуждающе подействовать на Чехова, только собственное, русское полностью проросло в ней. Во всяком случае есть в этой драме туго натянутые нити и драматические кульминации, в которые раздаются даже выстрелы»19. С широтой изображения жизни, которая определяет формы чеховской драмы, Мелл связывает и отсутствие ограниченности в самопознании чеховских героев и в познании ими смысла жизни: «У Чехова как раз отменно тонкое ощущение формы, форма его театральных пьес по-настоящему изначальна <...> бесконечность, неизмеримость — стихия, в которой эти люди постоянно ощущают и осознают себя, а гигантские небеса подсказали им вопрос: для чего живем мы, люди? И помогли им с величественностью прийти через катастрофы и отчаяние, к которым привела их эта жизнь, к великолепному спокойствию»20.
Для Мелла с его ожиданием от драматургов любви к человеку, которую он стремится противопоставить хаосу послевоенной действительности, с его жаждой обновления западной духовной жизни, которое он видел в христианской духовности, идущей на Запад с Востока еще со времен Достоевского, характерно восхищение человечностью Чехова и его героев. Мелл указывает на глубинную связь чеховских персонажей с духовной культурой русского народа, как и актеров МХТ, исполнителей их ролей. Поэтому он и подчеркивает в пьесах Чехова все то, что объединяет людей, а «чудесный смысл» финала «Трех сестер» он видит в том, что сестры здесь вырастают до символа родины. «Развертывается пьеса русской жизни, полная невыразимой душевности, которая является, собственно, народной приметой, близостью к земле и самобытностью и в среднем сословии, которое описывает Чехов, и в опустившихся, которых Горький свел вместе и которым странник Лука принес свет, свято осветивший все. Неописуемое, захватывающее единение в этих разговорах, в этом излиянии чувств за чаем, в этом наслаждении дружбой и братством, в этих объятьях и братских поцелуях, в этом совместном пении и этих прощаниях. Исполнена чудесного смысла группа трех сестер в конце пьесы. Над ней гигантские небеса равнины, на ней свет перспективы, уходящей в бесконечность, у нее облик соразмерной, естественной нетронутости, мелодия ее родины»21. И русские актеры «столь хороши» в глазах критика потому, что «они ничего иного не хотят, как выразить свои души, прояснить свой внутренний мир, утвердить это всеобще-русское, в котором они живут и движутся»22. И, прославляя «душевность их женщин, теплоту их мужчин», Мелл завершает рецензию о «Трех сестрах» словами о том, что «этот народ должно любить»23.
Мелл считал, что русские актеры «в высоком символическом смысле демонстрируют возможности театрального искусства»24. Роберт Музиль, активно выступавший в 20-е годы как театральный критик, в своем эссе «Московский Художественный театр», написанном в связи с гастролями труппы в Праге в апреле 1921 г., стремился извлечь из искусства мхатовцев уроки для искусства вообще. «Я видел «На дне», «Трех сестер», «Карамазовых», они принадлежат к сильнейшим потрясениям и глубочайшим мгновениям счастья, какие могут дать искусство, жизнь»25. Критик видел «чудо» — в «совершенстве игры», в «музыке голосов» («Эти актеры могли бы все петь <...> они произносят упоительно прекрасную прозу, которую я когда-либо слышал»26).
Самое ценное для Музиля то, что возникает универсальная картина мира27, уникальное в своей многогранности произведение28, задачу создания которого он стремился осуществить в своем творчестве, приступая в те годы к реализации замысла своего романа «Человек без свойств». «Это выглядит так, будто русские принесли с собой свой мир, над их игрой покоятся небеса степей и широкой, с далями, родины. В действительности это нечто, что могло бы быть и нам свойственно, — это космос изображаемого произведения, включение в его необозримые связи...»29 Как бы отвечая на делавшиеся попытки объявить русский реализм — драматический и театральный — устаревшим, поскольку он не совмещался с канонами экспрессионизма, Музиль с большой силой убеждения объявлял его «искусством будущего»: «Было бы недоразумением считать их стиль натуралистическим или импрессионистическим, несмотря на то что в пьесах Горького, Чехова и в иллюстрациях к Достоевскому грунтовка могла идти в этом направлении, и полагать, что они — по́зднее цветение ушедшего художественного направления. То, что они играют — не говоря уже о том, что импрессионизм точно так же был приютом для бездомных, как сегодня экспрессионизм, — приходит к нам не как исчезнувшее с 20-х годов искусство, но как искусство будущего»30.
Драматургия Чехова оставалась для Музиля критерием подлинного искусства, и когда, к примеру, ему нужно было определить значение пьесы Шарля Вильдрака «Пароход Тинесити» (1919), которую оценивали как «большое достижение», как произведение, «представительное для духовной физиономии лучшей Франции», то он в ответ на это называл имя Чехова, «т. е. знающее, тихое <...> искусство, не титаническое. Ясный взгляд, проницательность, меланхолия, завершенность»31.
Мхатовская трактовка Чехова оставалась для австрийского театра на протяжении целого ряда десятилетий критерием подлинного истолкования. «Спор со Станиславским», не миновавший и австрийский театр в 60—70-е годы, связан был нередко с издержками нового прочтения Чехова, хотя именно к этому периоду, включая и начало 80-х годов, критика охотно относила определение «Ренессанс Чехова».
Отметим еще одну отличительную черту рецепции чеховской драматургии в Австрии. Именно в годы первой мировой войны и фашистского «аншлюса», когда пьесы русских драматургов были исключены из репертуаров театров, в Вене были осуществлены две премьеры — в 1916 г. «Вишневого сада» — это была первая постановка пьесы в странах немецкого языка — и «Трех сестер» в 1940 г. И их нельзя не оценить как попытку обрести духовную опору в борьбе против шовинизма и во втором случае — в противостоянии свастике.
История постановок пьес Чехова в Австрии связана с двумя основными периодами: до 1945 г. и после него. До 1945 г. пьесы русского писателя, за исключением одноактных, ставятся редко и случайно и не пользуются настоящим успехом у зрителя, не находят глубокого понимания и у критики. После второй мировой войны от десятилетия к десятилетию растет популярность Чехова в Австрии, углубляется его постижение, создаются спектакли, вошедшие в историю национального театра.
1
Первой чеховской пьесой, поставленной в Австрии, было «Предложение», премьера которого состоялась 22 марта 1901 г. в Театре в Йозефштадте, спектакль был затем повторен шесть раз. Вместе с «Медведем «это были две одноактные пьесы Чехова, переведенные еще при жизни писателя и сразу же вызвавшие чрезвычайно живой интерес театров и зрителей. Остальные пьесы-миниатюры на сцене не прижились. Перевод «Предложения» и «Медведя», выполненный писательницей Луизой Флакс-Фокшеняну, хотя и был близок оригиналу по смыслу, но, как это стало ясно уже первой исследовательнице, обратившейся к сопоставлению перевода с оригиналом, «во многом утрачивал в силе воздействия вследствие бескрылой трактовки языка». «Диалог был сильно перегружен тяжелыми оборотами», и в целом перевод, будучи «намного грубее и неотшлифованнее, чем русский оригинал» оценен был как «бесталанный»32.
Неудивительно, что критики, судя о чеховской «шутке» по переводу, характеризовали ее форму как «грубовато удачную», ее драматургическую технику как «примитивную» («ряд неправдоподобных ситуаций», длинные монологи), пусть и с оговоркой: «мнимо примитивную», ибо связывали ее с замыслом усилить воздействие произведения33. К тому же, по замечанию Илзы Зонтхаймер, экземпляр пьесы, находящийся в Театральной коллекции Национальной библиотеки в Вене34, свидетельствует о том, что в нем были сделаны режиссерские сокращения — существенно был сокращен диалог в споре о Воловьих Лужках, а это вело к утрате «некоторых психологических тонкостей»35.
Авторское определение жанра «Предложения» — «шутка в одном действии» — в качестве такового (как «Scherz») присутствовало лишь во втором издании перевода (1903), в первом же 1901 г. оно было заменено определением «Schwank»36, т. е. первоначально переводчица включила чеховскую вещь в традицию широко распространенного со времен средневековья в ряде литератур Европы, в том числе немецкоязычных, народного жанра. И то, что во времена, когда одноактные пьесы символического театра Гофмансталя, Метерлинка, Стриндберга, Йейтса определяли направление развития жанра, реалистические одноактные комедии Чехова связывались в Австрии с многовековой привычной традицией, вполне понятно: тем самым выявлялись народные корни чеховских комедий, типологически родственные западноевропейскому смеховому искусству. Определение «Предложения» как «шванка» имело, однако, лишь чисто внешнее основание, поскольку в «Предложении» жизнь поместного дворянского сословия, его обычаи, нравы и обряды изображались с их комической стороны и ради забавы зрителя. Шутка — но над кем? Не столько над героями, сколько над омертвевшими обычаями, над буржуазным браком. В драматическом шванке царит легкая комедийность, раскованное веселье, комизм ситуации сочетается с комизмом типов и характеров, несомненно его сходство с анекдотически заостренным рассказом о комическом событии. И «Предложение» Чехова было воспринято в духе сценического шванка — грубовато-комической пьески, чаще всего из повседневной жизни, в соседстве с бурлеском, фарсом — типа «Похищения сабинянок» (1885) братьев Шёнтан, «На белом коне» (1898) Р. Бенацки, Кадельбурга, Блюменталя, «Медали» и «Первого класса» (1910) Л. Тома и т. д. Если в традиционном шванке материалом и предметом изображения были супружеские конфликтные отношения, то в «Предложении» Чехова в качестве таковых выступают добрачные отношения, уже успевшие обратиться в фарс.
«Предложение» давалось в йозефштадтском театре в один вечер вместе с одноактными комедиями Бреко-Хиршфельда и Куртелена, и критика, сравнивая их с пьесой русского писателя, отмечала в ней «большую внутреннюю новизну и правду»37. В качестве специфически русского в глазах критиков представали примитивность среды, грубость диалога, «сварливость соотечественников Чехова»38. В целом же пьеса с весьма темпераментной, тонко нюансированной интерпретацией ролей39 была воспринята как очень веселая сатира на заключение брака любой ценой40.
То, что на Чехова австрийский зритель начала XX в. невольно смотрел и сквозь призму типичного для того времени репертуара, перепевавшего излюбленные мотивы декадентского мироощущения жуира из серии одноактных пьес «Анатоль» А. Шницлера, не укрылось от взора столь острого и едкого критика, каким был Карл Краус. На страницах издаваемого им журнала «Факел» в рубрике «Ответы издателя» Завсегдатай вычитывает в газете «всякую поучительную всячину о ближайшем театральном сезоне» 1903—1904 гг. Обнаруживая, к примеру, включение в репертуар литературных вечеров «Театр ин дер Йозефштадт» произведения Феликса Зальтена «Прекрасные души», он саркастически замечает: «Это поистине интересно. Не просто потому, что дирекция йозефштадтского театра была наказана штрафом за греховность французского фарса и продажные дома, но потому что она между Чеховым и Куртеленом имела в перспективе господина Феликса Зальтена и что «Прекрасные души» — неудачная попытка еще раз сервировать в отдельном кабинете остатки психологического меню шницлеровского прощального ужина»41.
Так Чехов и его одноактная пьеса становятся для К. Крауса не только мерилом содержательности репертуара одного из ведущих венских театров, но и аргументом в литературной борьбе времени: Краус на стороне Чехова и Куртелена, но не Ф. Зальтена. Малейший неверно взятый тон или неуместное слово рецензента были для Крауса разоблачительны в его критике буржуазного восприятия Чехова, — любой повод для этой критики был для Крауса хорош. Так, в 1911 г. в газете «Нойе Винер Тагблатт» он находит заметку о вечере писателя и актера Вилли Хааса42 и не отказывает себе в удовольствии процитировать из нее: «После того, как занавес опустился в последний раз, наступила короткая пауза, во время которой барон Хаас принялся за свои метаморфозы художника сцены. Барон Хаас принес с собой для своей роли в известном забавном чеховском гротеске все, что она требует: импонирующую мужскую внешность, исполненную силы манеру держать себя, прекрасные усы, превосходный сухой юмор и тонкость и непринужденность игры, какой обладают лишь бывалые актеры». А далее комментарий Крауса: «Даже они (бывалые актеры. — Е.Н.) приносят с собой в большинстве случаев не то, что имеет барон Хаас, а именно — прекрасные усы. Да, многие и даже знаменитые актеры не должны были иметь усов, барон Хаас принес их с собой. Он мог, однако, — у критики есть свой взгляд на это — также еще многое с собой принести, чего не имеют другие актеры»43.
Когда четверть века спустя «Предложение» пришло, наконец, и на сцену Бургтеатра, и это была первая чеховская пьеса, поставленная на его знаменитых подмостках44, австрийские критики не могли не говорить с благодарностью об уже ставшей исторической постановке в йозефштадтском театре, «где эта трагикомедия неосуществившейся помолвки из-за возникавшей постоянно ссоры о вечно ничтожных вещах была сыграна с остротой и в темпе, которые направляли шутку в значительной мере в сторону шаржа»45. Они говорили и о «незабываемом воспоминании», дарованном постановкой «Медведя» М. Рейнгардом в берлинском «Клайнен Театер» с Гюлльсторфом и Дагни Серваес46. Критики единодушно утверждали, что «Предложение» к началу 30-х годов стало «непременной пьесой послеобеденных бурлескных представлений»47, превратилось «в старую парадную пьесу всех театров, играющих одноактные пьесы»48, что его «снова и снова охотно смотрят в Вене»49, что «наиболее часто видишь его на любительских сценах»50; не могли они не заметить и того, что ««Предложение» в постановке разных любительских групп выглядит намного живее, самобытнее и потому веселее, чем в медлительности этого спектакля в Бурге»51.
В связи с постановкой в Бургтеатре «Предложения» Чехова и «Женитьбы» Гоголя в последний вечер уходящего 1931 г. перед критикой встал прежде всего вопрос: современны ли эти сценические произведения, — вопрос, неизбежно связанный с их представлениями о России. Одни критики прямо и недвусмысленно выражали свое неодобрительное отношение к выбору этих пьес для новогоднего спектакля, к воскрешению эпохи бидермайера, безвозвратно ушедшей в небытие. Другие размышляли о том, не лучше ли было бы поставить в беспокойное время начала 30-х годов Нестроя или на худой конец современную русскую комедию, однако большинство высказало неудовлетворенность таким подходом театра к исполняемым произведениям. По почти единодушному мнению, новогодняя шутка, предложенная старейшей венской сценой своим зрителям, не удалась. Ключ к русским пьесам, настоящий, подлинный, не был найден, не была выявлена их современность. «Исторический русский юмор этого вечера был далек от того, чтобы бить ключом, — замечал рецензент П.У. (Людвиг Ульман?) — Это была утомительная веселость»52.
Рецензенты готовы были признать, что о сегодняшней России эти пьесы уже ничего не говорят зрителю. «Россия позавчерашнего дня возникала перед нами, та Россия, в которой еще было место и настроению для нежного юмора, для созерцательной медлительности в делах сердечных <...> Точно оба русских писателя держали перед сегодняшней Россией зеркало, в котором отразился ее облик во всем его гротескном искажении»53, — писал критик «Монтагблатт», а критик «Дойче Эстеррайхише Тагесцайтунг» и вовсе отверг мысль о точке соприкосновения между нереальным для него уютным прошлым и угрожающе реальной современностью: «Старая Россия, страна удобной медлительности и, поскольку она располагает бесконечно многим временем, сознательной обстоятельности, снова неожиданно появилась на один вечер. Смотришь на бюргерские жилища с их пестрой полугородской, полукрестьянской домашней обстановкой, вслушиваешься в малые заботы людей, чье обеспеченное существование есть нечто само собой разумеющееся, и спрашиваешь себя невольно: было ли это действительно? Существовал ли весь этот мир, который кажется нам сегодня таким чуждым, чуждым вдвойне, потому что в своих глубинах он ведет происхождение от неизвестной для нас страны, и времени, которое поршнями машин наших дней втрамбовано в землю»54. И критику «Арбайтерцайтунг» типаж русских пьес казался едва ли не фольклорно-сказочным55;
В спектакле Бурга отсутствовало ощущение свежести и новизны юмора русских писателей. Резонно возникал вопрос «Нужно ли поднимать шумиху вокруг шутки, которая не удалась? Конечно, Антон Чехов и Николай Гоголь, два смеющихся философа исчезнувшего русского духа, весьма веселые умы, весьма желанны в любом месте, когда празднуют Новый год. Однако сегодня у них отсутствует то, чего можно пожелать от любой шутки: в известной мере быть новой»56.
И все же Чехов и Гоголь могли даровать зрителю в этой постановке эстетическое наслаждение, хота и частичное. Их комизм «и сегодня может пробудить у нас настоящую разумную отрадную веселость или удовольствие от грубых преувеличений»57.
В театральной интерпретации важно было понимание жанровой природы чеховских драматургических миниатюр. «Предложение» воспринималось критиками как «бурлескная одноактная пьеса»58, как «веселый фарс»59, «драматизированная шутка»60, даже как «скетч»61. Вновь характерно уподобление одноактной пьески Чехова таким формам низового народного комического театра, как бурлеск и фарс, пережившим в Австрии бурное развитие и блестящий расцвет в XIX в., выразившийся в творческой деятельности Ф. Раймунда, И.Н. Нестроя, Л. Анценгрубера, в увековечении народных комических типов Гансвурста А. Страницким, Касперле И.И. Ларошем, Фаддедля А. Хасенхутом, глупого Антона Й.Е. Шиканедером, Рохуса Пумперникеля М. Штегмайером, Штаберля А. Бойерле. И сколь бы чуждым ни казалось отнесение чеховского «Предложения» к скетчу, оно не лишено известных оснований: сходство в остроумном, поражающем заострении общечеловеческой ситуации. Именно общечеловеческий смысл «шутки» Чехова пытался раскрыть Эрнст Дешен, писавший: «В конце концов помолвка все же состоится, а ирония писателя позволяет заглянуть в будущее: после падения занавеса собственно и начнется ссора, бессмертная трагикомедия спорящего брака»62.
Пьесы русских драматургов в режиссерской интерпретации Ивана Шмита казались критикам этнографическими, фольклоризованными, стилизованными под сказку. В целом же при оценке спектакля не мог не возникнуть вопрос, который писатель Рауль Ауэрнхаймер сформулировал так: «Этот уклон в этнографию оставляет открытым и здесь вопрос всех вопросов: для чего?»63.
И. Шмит, подчеркивая временную удаленность обеих пьес, в оформлении спектакля избрал «красочный лубочный стиль». «Ремигиус Гейлинг создает ему яркие декорации кукольного дома и переливающиеся красками кукольные костюмы, реквизит, кажется, происходит из коробки игрушек, а актеры движутся, похоже, с неуклюжей угловатостью марионеток»64. Однако это режиссерское живописание быта, которое «восхищает в течение двух часов настоящей старой Россией в Бургтеатре»65, сместило акценты в пьесе: Шмит должен был «ограничиться тем, чтобы выписать краски вещи <...> вместо того, чтобы изобразить юмор вещи»66. «Он сервирует подлинность среды ложной ориентацией актеров, он заводит их во всевозможные ложные русские тупики, из которых они затем уже не могут найти путь к действительности»67. Отсюда и слегка ироническое отношение к «д-ру Ивану Шмиту, ранее хорошо известному в бывшем Петербурге»68, этому «домашнему русскому бывшей дирекции»69, «придворному русскому»70 директора Бургтеатра Антона Вильдганса71. Достоинством режиссера И. Шмита критики считали инициативу самой постановки, знание национальной психологии, то, что «он лучше других понимает толк в русских вещах»72, богатство фантазии, оригинальность декоративного оформления спектакля. В счет же ему было предъявлено многое — ведь «кому выбирать, тому и голову ломать»73 — «отсутствие внутреннего юмора, ложный стиль режиссуры, произвольное распределение ролей, неожиданная идея сделать из г-на Онно комедийного актера, дебютирующего в новогодний вечер»74. «Актеры и, к сожалению, непреодолимо антиюмористический дух Бергтеатра не могли укротить д-ра Ивана Шмита»75.
В нелегкое время для Бургтеатра были поставлены пьесы русских писателей! «Играют их (комедии Чехова и Гоголя. — Е.Н.) в большом доме, который совершенно утратил свою веселость, а тем самым и свое влияние. Играют их при кричаще ложном распределении ролей: <...> короче изнашивают наличные силы вместо того, чтобы их использовать. И: играют два классических шванка без комиков, потому что нет ни одного комика»76. И это не могло не предопределить той неудовлетворенности постановкой, печать которой легла на рецензии почти всех, кто писал о данном спектакле. Наконец, замечание критика о том, что основной опорой Бургтеатра-осталась классическая, «идеальная» пьеса, в то время как все реже стала идти на его сцене комедия, пьеса об обществе, является, может быть, частичным объяснением того, почему в силу репертуарной политики Чехова долго не ставили в Бургтеатре, собственно обошлись без него в межвоенное двадцатилетие.
От критиков не укрылось родство Чехова с Гоголем, по-разному ими оцененное. Одни в принципе одобрили соединение в одном представлении двух пьес, варьирующих сходную тему: «Так хорошо они по своему душевному складу подходят друг другу, созвучие названий обеих комедий также не выделяется, а возвращение сходного мотива не дает того смешения, которое делает приятным такой, составленный из двух произведений вечер»77. Другие считали иначе: «Пьеса Чехова, хотя она меньше, более сильная из двух и должна быть поэтому помещена в конец вечера»78.
Какую бы оценку ни давали критики спектаклю в целом, они не могли не оценить актерского «терцета» в «Предложении». «Замечательно выходила замуж» в бургтеатровском спектакле Вера Вальзер-Эберле в роли Натальи Степановны. Производя впечатление «ладно скроенной»79, «способной обращаться с вилами»80 девушки, обуянная «наивной жаждой спорить», «сварливая, однако в основном очень и очень приятная невеста», ее мужиковатая Наталья Степановна разыгрывала «форсированную веселость очень взрослой кандидатки в невесты»81, «блистала ярким дерзким языком»82, «с помощью очень живого диалекта и хвастливой строптивости господствовала на сцене»83, обнаруживая «соразмерность темного, полнозвучного голоса и весьма «цивилизованной» способности выражаться»84, что позволяло оценить ее как «наконец-то появившуюся актрису современной языковой культуры»85.
В роли Ломова выступил Фердинанд Онно — «трагик, который раскрылся как характерный комик»86. Эксперимент режиссера показался отдельным критикам рискованным: они замечали, что Онно «играет раздражительного жалкого жениха с серьезной тонкостью»87, с «натуральной судорожностью, но без необходимого деревенского юмора», что он скорее кандидат теологии, чем помещик»88. «Как инертный жених, Онно скорее кандидат в покойники, чем в женихи. Как тонкий актер, Онно занижает очень искусно жалкую сторону ситуации»89. И все же его истерический, прерывисто дышаший, глотающий воду жидкий блондин смог стать опорой пьесы»90. Комический эффект состоял в том, что «Онно скорее мученик, чем поборник своего права, с нежнейшим характером, к тому же слабым здоровьем, проигрывал в словесной битве»91. «Конечно, Онно остается принцем души и во фраке Хансвурста»92, «при всей комичности все же сохраняет видимость самообладания, даже благородства»93. Этот трагикомизм образа Ломова в изображении Фердинанда Онно раскрыл Эмиль Лукка: «Фердинанду Онно здесь представился случай из нюхающего ароматическую соль неврастеника создать пародию на свою собственную манеру, сверхнервную и сверхошибающуюся, однако все же полностью плененную перебранкой о луге и охотничьей собаке. Это отличная трагикомическая фигура. Невеста, нападающая и дюжая, уже предвидит, как она будет колотить супруга, ее папа — Майерхофер. Это веселый терцет, и здесь брачующиеся, в конце концов, оказываются в объятьях друг друга»94. Из трех несговорчивых и склочных персонажей пьески Чехова впечатлял агрессивно-грубой наглостью Фердинанд Майерхофер в роли Чубукова: «осанистый, окруженный трансцендентальным духом сивухи»95, «со спутанной бородой и толстым животом»96, ведущий себя «с грубой шумной яростью»97, он «выглядел как богатый русский крестьянин из книги сказок»98, или временами производил «впечатление швейцара»99, однако в конечном итоге был «ценен и наиболее правдоподобен как русский помещик старого стиля»100. И все же, несмотря на недостатки спектакля, Эрнст Дешен завершал свою рецензию словами из «Тараса Бульбы»: «Да разве найдутся на свете такие огни, муки и такая сила, которая пересилила бы русскую силу!»101 И добавлял: «Как верно! Веришь в эту русскую исконную силу, даже после очень слабой «Женитьбы», из которой вовсе не получилось <...> никакой новогодней шутки. Скорее это удалось старому скетчу Чехова»102. Вере этой предстояло воскреснуть и пройти испытания уже в чеховских спектаклях, поставленных в Австрии в годы после второй мировой войны. Пришло время, когда австрийскую сцену постепенно завоевали большие драматургические произведения писателя, в 70-е годы наступило время «Ренессанса Чехова», его прочного утверждения в репертуаре австрийских театров.
2
К рубежу 50—60-х годов, когда на австрийских сценах были уже поставлены — и неоднократно — большие пьесы русского писателя, в пору их зрелого подхода к Чехову австрийский театр обратился к первым драматургическим опытам писателя. Сначала, в 1959 г., — к первой пьесе без названия, затем, в 1965 г., — к «Иванову». С 6 февраля по 30 апреля 1959 г. в Академитеатр, на сцене филиала Бургтеатра, прошло 32 спектакля под названием «Этот дрянной Платонов»103.
Под какими только названиями пьеса ни шла на западных сценах! В 1940 г. в Нью-Йорке шел «Скандал в деревне», действие которого происходило на юге перед гражданской войной, в 1952 г. на сценах Стокгольмского драматического театра шел «Бедный Дон Жуан», в Лондоне «Дон Жуан в русском духе» («Don Juan in the Russian Manner»), в 1956 Париж увидел «Этого безумного Платонова» («Ce fou de Platonoff»), а Милан в сезон 1958—1859 г. «Платонова и других» («Platinov e Altri») в обработке Этторе Ло Гатто и постановке Джорджо Стрелера. В Нидерландах в Гаагской комедии пьесу поставил Петр Шаров. В русле нараставшего в 50-е годы интереса к юношескому произведению Чехова обратился к нему и старейший театр Австрии. В связи с постановкой «Платонова» нельзя не вспомнить, что у австрийцев любовью пользовалась и «Драма на охоте», публиковавшаяся как роман с продолжением в газете «Фольксштимме» в юбилейный 1954 г., что в Вене была инсценирована «Шведская спичка» и что, таким образом, венский зритель был в известной мере подготовлен к восприятию ранней драмы Чехова.
Уже сам выбор для постановки первой пьесы Чехова вызвал у критиков ряд вопросов. Нужно ли было ставить «Платонова» вообще? И если ставить, то с какой целью? была ли насущная необходимость обратиться к истокам Чехова-драматурга?
Критика стремилась прежде всего оценить «Платонова» в целом, что разделило ее на два лагеря. Одни увидели лишь недостатки юношеского произведения. Так для д-ра Й. «это очень русская и по меньшей мере, поскольку это касается Чехова, конечно, несовершенная пьеса <...> упражнение для пальцев для его последующих произведений»104. Другие не делали никаких различий между ней и произведениями зрелого Чехова, оценивая ее как «психологически смелый и современный шедевр, обладающий тысячами граней» (Вальден).
Диапазон отмеченных критиками недостатков был обширен. Удивительно, что и эта ранняя пьеса пережила традиционный подход, когда и в ней акцентировали повествовательность. Для Пауля Блаха это была «русская пьеса в новеллах» Никаких драматических кульминаций, лишь страсть. Лишь повествовательные, широко развернутые, вялые сценические события» увидел он в этой пьесе, «лишенной формы, мощной, сумеречной, слабой»105. Впрочем, предпринимались попытки увидеть в диалектическом единстве достоинства и слабости пьесы, найти ключ к «произведению, которое медленно, с боем пробивалось к театру, с силой втискивалось в новую драматургическую форму»106. «И все же обнаруживается уже здесь все мастерство автора»107, «у пьесы коготки «Чайки»»108, — считал Вальден. Гуго Гупперт увидел в пьесе «проблески будущей реалистичности диалога великого писателя», но отметил, что «ее отчасти забавный, отчасти мокрый от слез диалог лишен той высокой степени ясности, которая характеризует последующую критику общества у Чехова»109.
При всех разногласиях критиков несомненно было одно: пьеса Чехова, даже при всем ее несовершенстве, властно приковывала к себе актеров, и режиссера, и критиков, вопреки их сопротивлению. А одному из критиков показалось даже, что пьеса прокатилась через сцену Академитеатр, подобно паровому катку, громадой своей эпической массы напомнив о «безысходном просторе бесконечной русской равнины, против которой нет никакой защиты»110.
Австрийскими критиками Платонов сразу же был включен в привычную традицию донжуанизма, а пьеса была понята как русская парадигма донжуанской темы. Большая часть критиков разделяла мысль, что эта пьеса — «трагикомедия о деревенском Дон Жуане, который собственно не хочет им быть и всегда должен им быть», «история столь же гротескная, столь трагическая»111. Так, Вальден писал: «Платонов — маленький школьный учитель в маленькой русской деревне в царские времена. Он умнее, чем другие, он привлекателен. Все охотятся за ним. Изголодавшиеся, нуждающиеся в любви помещицы позволяют быть оскорбленными и обманутыми им. И этот Платонов, терпящий поражение болтун и симпатичный слабовольный человек, не может защититься от женщин и своих собственных вожделений, он становится русским деревенским Дон Жуаном из слабости, он заглушает водкой свое тягостное любовное счастье и решает каждый раз начать новую жизнь — только он никак не решится, с какой из женщин <...> Его душевные битвы оканчиваются лишь тогда, когда его убивает обманутая женщина, как бы случайно». Платонов — «один из тех, кто говорит, опьяняясь, и кто никогда не сможет сказать нет, если женщина будет утверждать, что он любит ее. А утверждают это все дамы, скучающие в небольшой деревне Войницевке anno 1890»112. «В этой пустыне учитель Платонов вызывает восхищение у неудовлетворенных женщин, малообразованный, менее красивый, чем другие, — зимний «Пан» для мерзнущих нимф, малый дневной свет в великой тьме»113. И, кажется, единственный критик, кто выявил не только разлад сознания и вожделения («обе его половины, разум и инстинкт, не хотят считаться друг с другом»), но и самоосуждение чеховского героя, был Гуго Гупперт114.
Однако с упрощенной характеристикой Дон Жуана согласны были не все. Так, Фридрих Торберг замечал, что «<...> едва ли верно понимать этого Платонова как Казанову поневоле, — он оказывается несчастным спившимся сельским учителем; едва захочется посмеяться над пародией на скучающее провинциальное общество, как почти демонически является за скукой трагизм всей сдержанной и запоздалой жизнерадостности»115. Спектакль давал возможность критикам поставить в центр своих оценок проблему чеховского трагикомизма. «Здесь зрелый великий Чехов возвещает о себе и о богатстве нюансов, показывая трагикомизм повседневного», — писал Оскар Маурус Фонтана116. Лишь третий и четвертый акты, по мысли Пауля Блаха, позволяли постепенно открыть эту сущность пьесы Чехова: «В третьем акте <...> мы <...> находим, противодействуя и подтверждая, то, что мы предчувствовали вначале, однако не находим мужества познать, что целое, в итоге, было комедией»117. «Ошибка пьесы состоит, по моему мнению, в том, — писал рецензент «Тагебух», — что Чехов не решается на полную комедию, но создает двойственность трагикомедии (может быть, под влиянием Ибсена) и неожиданно позволяет Платонову умереть от выстрела женщины. Благодаря этому суду над одним произнесен суд над всеми и приглушен уничтожающий смех комедии. Во всяком случае многое указывает на то, что и внезапный сильный, эффект, прежде чем упадет занавес, оценивается как ирония, как высмеивание мнимой справедливости»118.
В постановке Эрнста Лотара критики оценивали чеховский комизм как приглушенный, «потому что весь спектакль слишком тонок по настроению, слишком трагичен: это старый спор, верно ли из «комедий» Чехова делать на немецком «трагикомедии»»119. Для Ханса Вайгеля в «Платонове» сосуществовало «недопустимое соседство трагизма и комизма» и вообще для него это был «в любом отношении негодный Платонов»120. Суждение это показывает, что даже столь известному критику, как Вайгель, необходимо было бы преодолеть приверженность мифологическим представлениям о «русской душе», чтобы верно постичь предмет своего анализа.
Историческая локальность и современное звучание «Платонова» не всеми критиками постигались в их взаимосвязи. Больше это удалось Вальдену, который писал: «На мастерски набросанном штрихами фоне мы переживаем страну и время — Россию при царизме. Мы переживаем всегда в скупых мастерских штрихах гниение и отсутствие чувства меры в верхних слоях общества и тупое растительное существование угнетенных. И перед безднами этого фона — образ Платонова»121. И завершая рецензию, он пишет: «<...> что нам говорит сегодня «Этот Платонов»? Больше, чем девять десятых современной драматургии, ибо пьеса обладает вневременным звучанием, как каждое большое произведение мировой литературы. Писатель Чехов смог расширить небольшую русскую деревню Войницевку до мира, и Платоновы — среди нас <...>»122. Гуго Гупперт цементирующим, скрепляющим началом пьесы считал не только образ ее главного героя, но и запечатленную в ней «историческую атмосферу застоя»123. На эту сторону драмы обратил пристальное внимание критик «Тагебух», писавший: «Студент-медик Антон Чехов работает со скальпелем, раскрывая анатомию русского общества в XIX в. «Темное царство», каким его видели Островский и Добролюбов, было показано и обличено с искренней ненавистью. Ужасающий идиотизм деревенской жизни — среда: паразитическое существование деформирует помещика и его свиту, все задушено в ничтожестве и в долгах, в пьянстве, в сексуальности и моральной тоске по чему-то светлому, красочному, содержательности жизни, а за морально опустившейся аристократией с ее неспособными мужчинами и истеричными женщинами поднимаются купцы, представляя паразитический, бескультурный капитал (тема, к которой Чехов обращался позже в «Вишневом саде» с высочайшим мастерством). Неумолимый по отношению к этому обществу, Чехов полон сочувствия к людям, — он их не упрекает, он говорит поэтически косвенно, что они лишь испорчены нездоровой общественной атмосферой»124.
Однако на пути постижения общечеловеческого значения образа заглавного героя не обошлось без мифологем о «русской душе», о «славянской душе»125.
Задача немалой сложности — раскрыть нерасторжимую связь острых общественных проблем современности с изображением главного персонажа — не была осуществлена в данной постановке «Платонова», как и в большинстве других постановок первой пьесы драматурга, не прозвучала тема «безотцовщины», утраты молодым поколением традиций старшего126. А ведь Чехов был здесь как нигде близок к проблематике, с большой остротой поставленной австрийской литературой второй половины XIX в., и прямо указал на эту перекличку, назвав в пьесе роман Леопольда фон Захер-Мазоха «Идеалы нашего времени».
Правильному пониманию первой пьесы Чехова в Академитеатр изначально воспрепятствовало то обстоятельство, что постановщики не обратились к оригиналу произведения. «В обработке Поля Квентена, переведенной на немецкий язык Робертом Шнорром», — констатировал Фридрих Торберг и резонно вопрошал: «Что же это за Платонов — тот, кто представлен нам в немецком переводе французской обработки русского оригинала?»127 Аргументированно возражая против такого произвола в обращении с Чеховым, Ханс Вайгель столь же категорично возражал против того, чтобы театр обращался к ранней пьесе Чехова. Отмечая, что редакция Поля Квентена, созданная для Жана Вилара, «оказалась весьма подходящей для Парижа», он пишет: «Она не только радикально сокращает, но и офранцуживает и лишает сущности Чехова, делая его плоским и банальным, — это замечаешь в ней, даже если не знаешь русского оригинала. И вот вместо того, чтобы теперь, когда пришел черед играть грех юности Чехова в Вене, кто-нибудь в Вене или, пожалуй, во Франкфурте128 создал бы редакцию, которая соответствовала бы нашему вкусу так, как редакция Поля Квентена парижскому, Роберт Шнорр переводит на немецкий язык то, что Квентен, исказив, сделал из Чехова. Я не хочу вдаваться дальше в тонкости, где Чехов начинает, а Квентен кончает и при этом с ним Шнорр и, может быть, и Лотар, ибо я уже давно хочу сказать, что любое усилие такого рода всегда тщетно, потому что эта детски неловкая попытка драматурга открыть самого себя может быть трогательной и интересной и плодотворной для диссертации, однако, так или иначе, не подходит для игры на сцене»129.
В обработке Квентена130? пьеса была сокращена более чем наполовину, первый акт был вообще выброшен, был удален целый ряд персонажей. Это не могло не породить искусственной изоляции и обособления образа Платонова, что и выразилось в придуманном обработчиком названии пьесы. «Вводящее в заблуждение название, — заметил сразу же Оскар Маурус Фонтана. — Оно пробуждает впечатление, что речь здесь идет, как это принято во французской драматургии, о комедии характера. Но для Чехова Платонов был лишь одним из многих. Как и в его зрелых пьесах, на первом плане нет одной-единственной фигуры, но всегда собрано и связано друг с другом множество судеб, так и в его первой пьесе речь идет не об одном Платонове, но обо всех этих людях, связанных своим шутовством, настраивавших его то на смех, то на слезы <...> стремление Квентена же направлено на то, чтобы сконцентрировать внимание на Платонове. Множественность связей, переход друг в друга впечатлений — это было бы самым существенным»131. О том, «где Чехов начинает, а Квентен кончает», можно судить по приведенному Х. Киндерманом примеру. В финале, там, где у Чехова Платонов не может постичь, как он накликал сам свою смерть: «Постойте, постойте... Как же это так?» (XI, 178), у Шнорра в момент выстрела звучал его возглас: «И все же я Вас люблю!»132
Парадоксальность венской постановки состояла в том, что режиссер Эрнст Лотар «сцена за сценой чрезвычайно точно инсценировал»133 французскую обработку, что и позволило Г. Гупперту саркастически заметить: «Эрнст Лотар успешно стремится взять взаймы у французской сценической редакции ложь подлинности»134. Однако, как считал Х. Киндерман, «благодаря очень сконцентрированной режиссуре» Лотара «все же остались ощутимыми когти льва и аромат Чехова»135. Именно мастерство Э. Лотара во многом спасло спектакль, так же как и замечательные актеры Бургтеатра. «Сквозь сатирическое и юмористическое пробивается снова и снова трагический подтекст, сквозь безутешную муть утраченных существований пробивается снова и снова свет настоящей и истинной человечности. Ярмарка тщеславия в инсценировке Лотара становится судом над тщеславием», — пишет О.М. Фонтана136. Это был спектакль «родственного по духу художника», который «с высоким тонким пониманием передал атмосферу, смог ощутить очень точно важность нюансов и обрел тем самым мелодию тогдашней русской жизни, полноту связей со временем и ситуацией насколько это вообще возможно в большом и малом для немецкого языка и сцены»137. Э. Лотар, поставивший пьесу «с большим искусством, вкусом и интеллигентностью», по замечанию критика «Тагебух», «в Вене единственный режиссер после смерти незабвенного Бертольда Фиртеля, который принадлежит традиции»138, заложенной М. Рейнгардтом, традиции «поэтического театра»139.
Платонов в исполнении Йозефа Майнрада представал как «трогательно-смешная, жалко-декадентская фигура: жалкая тряпка со своими вечно позирующими самообвинениями и самоуничижениями», причем подчеркнуто было «отсутствие субстанции, аморфность бесполезного человека»140. Образ его раскрывался актером в противоречиях — «колебаниях между беспомощным упадком и смешной трусостью, между любезной мягкостью и мрачной размолвкой с самим собой»141 «слабовольного человека, который хотел блистать с помощью блефовых припадков энергии»142, был «моралистом в теории и грешником на практике»143, «любил сам себя и — всех женщин»144, причудливо сочетая в себе «страсть и жалость, дерзость и самоуничижение»145.
В образе Платонова критиков влекла тема донжуанизма. Тем более что обработка Квентена «почти внушала впечатление, что замыслом Чехова было нарисовать эту красочную шкалу любви» — «этот хоровод женских склонностей, вращающихся вокруг»146 Платонова. Критики хотели бы видеть в сценическом воплощении этого образа прежде всего демонического Дон Жуана — «героя женщин, эротически очень интенсивное излучение, на которое будут лететь, как мотыльки, все доступные дамы»147, «ту распутинскую демонию, которая приближает школьного учителя к сексуальному зверю Арцыбашева и Ваалу Брехта»148. Но, очевидно, что-то останавливало и разочаровывало критиков, не находивших в Й. Майнраде черт привычного Дон Жуана. Называли даже актера, который, по их представлению, должен был бы играть роль Дон Жуана, — Виктора де Кова149, прозвучали не только голоса о неверном назначении на роль, но даже о «предательстве, которое было совершено по отношению к столь грандиозному актеру, как Йозеф Майнрад, который здесь в путах очевидного ошибочного назначения на роль медленно, но верно был убит»150. На сцене Бургтеатра Платонов в исполнении Майнрада не укладывался в привычный стереотип образа рокового соблазнителя, был скорее «соблазняемым соблазнителем и слабым человеком»151, «бездумным игроком с душами и соблазнителем из слабости»152. Это был «не Дон Жуан, который играет женщинами, но, так сказать, ученик чародея, которому не удается овладеть своей волей»153, «не тип, к которому приходят во владение женщины»154, «воодушевление дам менее понятно, чем смешно, потому что весь спектакль слишком тонок по настроению, слишком трагичен»155, при всем том, что исполнитель выявлял преимущественно комизм образа. При таком подходе возникала и другая оценка игры Майнрада, «мастерски преодолевшего все опасные места своей роли»156: «здесь каждый звук, каждый жест, каждый шаг <...> полностью убедительны, совершенно верны. И в этом он — конгениальный партнер Кэте Гольд»157. «<...> он больше от Нестроя, чем от Чехова, хулитель-шутник из Вены»158 — майнрадовский Платонов. И был он в этом спектакле «конечно, меньше всего Дон Жуаном, скорее русским «Человеком, терзаемым противоречиями»159. И юмор иногда больше с берегов Дуная, чем Волги. И комические партии удаются ему полнее, чем трагические»160. Такая трактовка согласовывалась с концепцией режиссера, который «перевел чуждую нам сценическую идиому великого русского писателя соответственно в южную широту, на понятный нам сценический язык, благодаря чему произведение кажется пересаженным в мягкую, изнеженную атмосферу Вены рубежа веков. Можно не раз вспомнить Шницлера, а Шницлер, не правда ли, австрийское издание Чехова?»161 — писал критик «Нойес Эстеррайх». Ощущение стилизации спектакль оставил и у других критиков: у Х. Вайгеля («так представляет мне Бургтеатр Зудермана среднего качества 1900 года»162), у критика «Винер Монтаг», скрывшегося под литерой «в», заявившего, что восхищение в спектакле могли вызвать многие актеры «в ролях как бы из разных пьес. Только от Чехова самого найдешь не слишком многое»163.
Особое внимание австрийских критиков привлекло мастерство молодого писателя в изображении женских образов164. Эдвин Роллетт писал: «В безотрадной глуши русской провинции расцветают восхитительные девичьи и женские цветы, обреченные, однако, на увядание, на погибель, — женщины, страстно жаждущие полноты человеческого существования и ищущие ее на ложных путях эротики»165.
Своеобразие постановки первой пьесы Чехова в Бургтеатре в том и заключалось, что в центре ее был не один всевластвующий «герой» Платонов, но и «другие»166. «Другие» — это прежде всего Анна Петровна Войницева167. О том, что это были два центральных героя спектакля, пишет — О.М. Фонтана168. «Гений Чехова угадывается в этой неловкой рукописи и параллельности судеб Платонова и владелицы имения: он любим четырьмя женщинами, одна из них, не сумев преодолеть своего разочарования, убивает его, — ее любят пятеро мужчин, один из них, потерявший веру в нее, разоряется дотла»169.
Кэте Гольд, соединившая в роли Войницевой трезвую критичность по отношению к героине с «тихой и трогательной силой, со всеми богатыми и нежными нюансами неисчерпаемой человечности»170, смогла передать саму «атмосферу чеховского творчества, колеблющийся блеск уходящего мира, ужасающую силу ясного прозрения»171, «из всех актеров глубже всех позволяя ощутить своеобразие писателя»172.
Петер Вайсер выделил в этом спектакле «три актерских достижения величайшего масштаба: Кэте Гольд, Марта Вальнер, Инге Брюкльмайер»173. Марта Вальнер в роли Софьи Егоровны обретала трагическую силу, рисуя настроения оставшейся непонятной супруги и экзальтированной мечтательницы, ее страсть к Платонову, с которым она надеется начать новую жизнь. Полная сдержанного пыла, она обретает мужество в ненависти и находит в себе силы принять роковое решение. В образе страдающей, отчаявшейся молодой жены Платонова актриса позволяла ощутить наивность человека с чистым сердцем.
Ансамблевость спектакля, в котором актеры выступали как «равноправные, равные среди равных, без иерархии», отразилась и на его сценографии. Декорации Готфрида Ноймана-Шпальарта (портал господского дома, сцена на железной дороге с якобы ведущим в зрительный зал рельсовым путем, школьный класс и гостиная в помещичьем доме), костюмы Эли Рольф, по словам О.М. Фонтаны, «столь русские, насколько это возможно»174, по словам Г. Гупперта, «избегающие какого-либо дешевого намека на «style russe»175, «создавали прекрасное оформление для происходящего на сцене»176.
3
Первая постановка «Иванова» в Австрии в марте 1965 г. связана с деятельностью Бургтеатра, с той вехой, которая обозначена созданием студии Академитеатра177. И рождение студии, протекавшее в острых спорах и столкновениях (критики сравнивали его с родами с наложением щипцов), и выбор чеховской пьесы для премьеры — стали объектом дискуссий, выявившим различие идейно-художественных позиций критиков и их подходов к драматургии Чехова в ее связях с современной австрийской культурой.
Ряд критиков недвусмысленно высказался против постановки этой пьесы. «Стараться извлечь «Иванова» из литературной могилы нет никакого повода», — категорически заявлял О.М. Фонтана, критик эрудированный и авторитетный, мотивируя свое мнение тем, что в «Иванове» Чехов «еще в поисках самого себя», что «ни один персонаж и ни одна ситуация еще не завершены в пьесе»178.
Однако большая часть критиков одобрительно отнеслась к выбору пьесы. «С современной точки зрения она имеет все преимущества и все недостатки первого произведения великого драматурга. Она позволяет проникнуть в процесс становления этого драматурга, который уже определенно возвещает основную тему, развитую им позже с совершенством»179. Для постановки на студийной сцене, по мысли Кауэра, «едва ли можно подобрать более подходящую пьесу, чем первенец Чехова «Иванов»: драму, в которой Чехов — отнюдь не только великий аналитик своего времени, но пролагатель путей сегодняшнего театра — на наших глазах высвобождается из скорлупы, в которой он, человек уходящего XIX и начинающегося XX в., в высшей степени неуютно себя чувствовал <...> Яичная скорлупа, из которой высвобождается Чехов, — драматургия 80-х годов прошлого века. Она предстала в пьесе в монологах, еще больше — в мнимой вынужденности выявить внутренний процесс во внешнем действии. Это принуждение обостренно воспринимал Чехов-новеллист, который повсюду ощущается в «Иванове»»180.
Концепция личности в пьесе Чехова часто постигалась критиками сквозь натуралистическую призму: «Человек — всегда жертва своего окружения, будь то долги, чахотка, водка, сплетни и скука и ростовщическая петля», — утверждает Пауль Блаха181. «Сцена кишит дураками, негодяями, паразитами, больными — как всегда, Чехов рисует обреченное на смерть общество. Только все это в некоторых других пьесах сильнее и ярче, а потому и сегодня еще трогает», — считает Отто Базиль182. И Эрнст Лотар видит здесь лишь «старшее поколение скряг, паразитов, игроков, пьяниц, спекулянтов»183. «Каждый акт — завершенный в себе эскиз, те лирические юморески, в которых предвосхищено и намного превзойдено то, что на Западе сегодня пытается наверстать «черный юмор», пишет о пьесе Кауэр, и персонажи ее для него не что иное, как «кошмары в окружающем Иванова угасающем мире»»184. Для д-ра Юрг это — «меланхолический пейзаж души»185 — совсем в духе Верлена. «Все свойства чеховских персонажей встретились в пьесе. Бедствие и тоска, меланхолия, флегма, презрение к самому себе, саморазрушение. Путь страданий и инертность пассивной жизни. Гербарий раздражительных характеров без того многослойного действия, которое приводит в движение «Чайку», «Три сестры», «Вишневый сад». Этнографический музей» — таков «Иванов» для Пауля Блахи186. «Мировая скорбь, скука, меланхолия, разочарование и отчаяние характеризуют этого «Иванова», которому Чехов уже создает фон настроений своих поздних произведений», — в таком свете «Иванов» предстает перед Элеонорой Тун187.
Сам Иванов едва ли не сливается с окружающим его миром в подобном понимании критиков: ведь он, по Эрнсту Лотару, «угрюмый человек, один из круга «мертвых душ», человек «с больной совестью», из «лишних и надоевших», стало быть, надоевший самому себе, и ему, выросшему, но не созревшему, не удается достичь цели даже окольными путями»188.
Общественные истоки драмы Иванова, как показывают отзывы рецензентов, остались приглушенными в спектакле и мало понятыми критиками. «Иванов — не герой, пустота человека, персонифицированное отсутствие контактов, как это мы сегодня называем в духе моды; исчерпавший себя, усталый, не по какой-то определенной причине, не из-за какого-то определенного повода, а из скуки, пресыщения, безучастности, — вот ситуация, столь характерная для людей XIX в.», — таков Иванов для Людвига Плакольба189. «Главный герой горюет и отчаивается, не зная отчего. Груз чрезмерного чувства выявляет слабость характера, и когда он в конце концов стреляется накануне свадьбы, — это растрата энергии, ему почти не свойственная. К тому же обработка студии умалчивает о том, что Иванов до этого посвятил себя общественному благу, реформе общества, что потерпели крушение большие планы, когда его имение пришло в упадок <...> Все это и делает Иванова персонажем в безвоздушном пространстве, «русской душой», однако не человеком из плоти и крови», — пишет Элеонора Тун190.
Однако от такого истолкования до понимания Иванова как типа, глубоко родственного австрийцам, оставалось сделать один шаг. «Беспочвенно странный» Иванов оказывался в глазах критиков явлением не только русской, но и австрийской действительности, австрийской литературы. «Психопат, меланхолик, мучимый чувством вины, — это духовный брат несчастного австрийского лирика Георга Тракля»191, — пишет Отто Базиль. И О.М. Фонтана увидел в изображении Александром Трояном Иванова «интересный обломок русского человека без свойств, однако и без характера»192, сходство чеховского персонажа с главным персонажем романа Роберта Музиля.
Заглавный персонаж порождал и другие привычные для западных критиков ассоциации. «В жизни Иванова нет силы, нет веры, даже иллюзии. Он идет путем последовательного нигилиста, путем в самоубийство — за двадцать лет до Стриндберга. Чехов не нашел никаких разветвлений пути «В Дамаск»» (д-р Юрг193).
Исполнение роли Иванова критики в основном признали удачным. «Александр Троян остается в центре пьесы, даже когда его нет на сцене. Никогда не забываешь, что все нити действия ведут к нему», — пишет Фридрих Шрайфогль194. Актер уже в самом начале спектакля показывал героя пришедшим к конечному этапу своей жизни, которому предшествовали годы мучительного познания правды. Он играл не меланхолика, но человека глубоко расстроенного, показывал сам процесс оцепенения его. При этом состояние, в котором находился Иванов, он показывал как беспрерывную борьбу, полную глубокого отчаяния и возмущения. И давал почувствовать судьбу своего героя — в его опустошенном лице, в смертельно усталых движениях, возвещавших его трагический конец, даже тогда, когда он готовился ко второй своей свадьбе. «С Ивановым Александр Троян обнаруживает себя как актер нервной интенсивности, интеллектуальной силы, — утверждал Эдвин Роллетт. — В крушении этого человека он ясно показывает муки совести героя. Его тон — настоящий тон Чехова. В нем живет пьеса. Это был вечер открытия Александра Трояна, если бы Александра Трояна можно было бы снова открыть»195. Критики сходились на том, что образ Иванова в исполнении Трояна мог бы стать выдающимся достижением, если бы обладал тем высшим единством, каким был отмечен его Ставрогин, сыгранный незадолго до этого на сцене Бургтеатра в «Бесах» Альбера Камю по Ф.М. Достоевскому.
Драма Иванова не в его бессилии. Это поняли лишь два критика из полутора десятков, откликнувшихся на спектакль. Пьеро Рисмондо писал о том, что уже здесь, в ранней пьесе Чехова, «люди терпят поражение от избытка своей жизненной силы. Они терпят поражение, потому что они не управляли ею, не овладели ею. Отсюда их отчаянные вопросы, которые повергают в меланхолию. Громадный импульс жизни, который они в себе ощущают и за смысл которого они борются, разрушает их»196. «Чехов рисует еще раз типический образ дореволюционного русского буржуа (! — Е.Н.), смесь Гамлета и Обломова, который ищет смысла жизни как освобождающего деяния и не может найти его и, не желая стать живым трупом, предпочитает самоубийство. Русское в этом Иванове (который у нас сегодня актуальнее, чем на его родине) — предчувствуемая гигантская сила, которая отражается в чудовищном бессилии и саморазрушении, во внутренней многообещающей динамике этого взрыва»197, — писал Кауер.
По отношению к этой австрийской премьере «Иванова» критики вели себя в духе того релятивизма, над которым так иронизировал Р. Музиль. Ждали от студии Академитеатра эксперимента, а когда был избран «Иванов», удивились, как удивились другому эксперименту — дебюту в качестве режиссера молодого актера Ахима Беннинга. Не приняли первую режиссерскую работу Беннинга, но восхищались им как актером, исполнителем роли доктора Львова. Почти никто не понял сути метода начинающего режиссера, кроме Фридриха Шрайфогеля, заметившего: «Ахим Беннинг как режиссер, оставляет достаточно пространства не только для себя, но и для каждого актера, с тем чтобы он нашел себя и безошибочно включился в действие пьесы»198. В режиссерской интерпретации заметно было стремление избежать клише, «не копировать образцы и ограничиться до минимума условным»199, — как писал Эрнст Лотар. Пьер Рисмондо, однако, увидел в спектакле возврат к условностям, оказавшимся сильнее воли режиссера. О.М. Фонтана видел здесь противоречие замысла и воплощения: «Эти живые картинные позы и некоторые театрально перегретые порывы создают впечатление, что Беннинг хотел иронически сыграть пьесу в стиле 1880-х годов. Если он имел это намерение, то не справился с ним. Если он этого не хотел, то частая близость к пародии невольна»200. Очевидно, ближе к истине оказался Кауэр: «Режиссер Ахим Беннинг, игра ансамбля <...> не смягчают исторической раздвоенности пьесы — еще раёк, но уже современный многомерный театр»201.
И все же, отмечая, что режиссер-дебютант «при всем своем столь большом даровании не имеет опыта, чтобы осветить равномерно тысячи граней произведения», Вальден не мог не увидеть главного — «свершения маленького театрального чуда: интенсивности ансамбля, его самоотдачи и его веры в исполняемое произведение — магических сил театра», когда «за несколькими стертыми контурами проступает все яснее мир Иванова и ведет нас к потрясению»202.
Традиционный для Бургтеатра ансамблевый характер спектакля был отмечен и другими критиками. «Беннингу удалось представить ансамбль весьма живых образов. Здесь ударяет трагизм о комизм, веселость с быстротой молнии оборачивается в смертельную печаль. Это Чехов», — писала д-р Юрг203. Дух ансамблевости спектакля поддержали созданные самыми простыми средствами декорации Йозефа Ойгена Боша и костюмы Урсулы Шёффлер, высоко оцененные критиками.
Для постановки был избран перевод Августа Шольца, хотя отдельные критики отдавали предпочтение переводу Йоханнеса фон Гюнтера. В студии была создана обработка пьесы, рассчитанная на два часа исполнения, и она была оценена как «строгая, даже неплохо сделанная сценическая редакция», пытавшаяся устранить некую монотонность и усилить драматизм. «А это доброе дело, но одновременно и недостаток»204. В общем это была «цельная, серьезная, убедительная постановка»205.
4
Из больших пьес Чехова «Чайка» первой вошла в репертуар немецкоязычных театров. Произошло это тогда, когда Чехов уже создал все свои пьесы, кроме «Вишневого сада». Состоявшаяся в Германии 1 ноября 1902 г. премьера в Бреславском Лобе-театре вызвала почти ту же реакцию зала, что и премьера ее в Александринском театре, после трех представлений она была снята. И, напротив, сильное впечатление «Чайка» оставила в постановке Объединенного городского театра Эссена в 1904 г., причем критика отмечала, что успеху пьесы способствовало ее «тщательное изучение» театром. Спектакль в берлинском Хеббельтеатре в 1909 г. с его усилиями живописать настроение, с «искусственно продемонстрированной назойливой беззвучностью», как писал критик Зигфрид Якобсон206, оказался растянутым и монотонным. Тем не менее Хеббельтеатр свои гастроли в Вене в том же 1909 г. открыл «Чайкой». Рецензент «Нойе Фрайе Прессе», упрекая спектакль в «обстоятельности и однообразии», в то же время отмечал в нем «примечательно проникновенное, ранящее побочное действие». «В коротких, снова и снова прерывающихся сценах проходит перед нами пьеса, как фильм кинематографа». И если трактовка образов Аркадиной Розой Бертенс и Нины Заречной («Нины Миронов» в версии переводчика Генриха Штюмке) Идой Роланд была оценена положительно (отмечены были в первой из них простота, стыдливо замаскированная страсть, во второй — убедительный тон актрисы), то истолкование образов Треплева и Тригорина показало, насколько еще далеки актеры от Чехова. Фигура Тригорина представала в изображении игравшего его актера как роковая. Отмечая, что Тригорин губит Нину из каприза, критик впадал в назидательный тон: «Так легкомыслие Тригорина становится отвратительным поступком, так любовь становится ужасным роком». «Г-н Пауль Отто нашел для роли Бориса Тригорина особую точку зрения. Он всерьез воспринял этого позера, придал ему черты писателя типа Мюрже и позволил ему, как року, прошествовать по сцене». Очевидно, это уподобление Тригорина Анри Мюрже, французскому писателю, обретшему известность «Сценами из жизни богемы», возникло под воздействием оперы Дж. Пуччини, созданной одновременно с «Чайкой». Мрачным фанатиком выступал Треплев в исполнении Антона Эдтхофера, разочарованного и насмешливого молодого человека, самоубийство которого не могло не удивлять: «Не неожиданное решение от отчаяния, от отвращения, но как бы следующее давней, безнадежной меланхолии». Финал пьесы истолковывался в спектакле в многозначительно символическом духе поздних драм Ибсена. «В конце трезвейшие слова звучали загадочно, точно жил в них второй, скрытый смысл. «Чайка» Чехова была подана нам столь претенциозно, точно это была таинственная «Дикая утка»». Ясно, что несмотря на прилежную игру испытанного ансамбля, с любовью созданные декорации, публика испытывала растерянность от подобной, стилизованной под символизм трактовки пьесы. «Публика не знала, как она должна отнестись к пьесе. Аплодисменты звучали дружественно, и все же зрители разделяли давящее настроение, господствующее на сцене»207.
Премьера «Чайки» в Вене, в Академитеатре состоялась в 1952 г.208 В исполнении актеров МХТ в Вене в разные годы видели «Дядю Ваню», «Трех сестер», «Вишневый сад», эти пьесы шли на сценах австрийских театров, но «Чайка» не была поставлена до начала 1950-х годов. «Это удивительно, если помнить о ранге автора и о том, что именно с этим произведением была связана слава Станиславского и его МХТ, но и понятно. Театру это было нелегко сделать, нелегко было бы и зрителю»209. «Высокая заслуга Академитеатра, — писал Рихард Хоффман, — в том, что он впервые в Вене поставил этот запечатлевающийся в сознании, захватывающий шедевр, создав прекрасный спектакль»210.
В позднем приходе «Чайки» на венскую сцену было и своего рода преимущество — почва для ее восприятия уже была подготовлена, и в то же время австрийскому театру предстояло преодолеть немало трудностей для ее верного постижения. «А может быть, можно сказать, что пришла она еще слишком рано, — писал Фридрих Торберг, памятуя о сложном послевоенном периоде в истории Австрии и ее культуры, в духовной жизни интеллигенции. — Ведь ее образы и проблемы пришли в такой трудный период в истории Австрии и в истории ее драматургии, что как раз у нас, сегодняшних, и отсутствует верный к ней подход». Подчеркивая (если не сказать — абсолютизируя) различие исторических времен, разделенных более чем полустолетием, Торберг не мог тем не менее не признать сходства проблем русской и австрийской действительности: «в прежних проблемах Чехова органически познаются рудименты наших проблем. Нет, они не устарели»211. Постичь эту диалектику исторического и современного стремились и другие критики. Критик «Эстеррайхише Фольксштимме» отмечал, что эта пьеса о русской жизни конца прошлого века «становится для нас почти исторической пьесой, которая, как грустная и прекрасная старинная гравюра на стали, воздействует тем сильнее, чем больше мы узнаем, как близких знакомых, лица изображенных персонажей, несмотря на их немодную одежду»212.
О том, что «Чайка» воспринималась сквозь призму ситуации современной западной интеллигенции в пору нелегкого послевоенного десятилетия, свидетельствовал О.М. Фонтана: «Это будто музыка Шопена превратилась в драму — это прощание с миром, который погибает, — по ту сторону от всех правд и неправд и это живой привет миру, который никогда не придет, потому что он живет лишь в представлениях и мечтах человека, но не в реальности и повседневности»213.
С наибольшей полнотой чеховскую концепцию действительности раскрыл режиссер спектакля Бертольдт Фиртель: «В том, что жизнь, которую ведут персонажи в «Чайке», будто бы настоящая жизнь, как называл ее Немирович-Данченко, можно сомневаться. Ибо большинство из них отчаивается оттого, что ведет или вело неверную жизнь, а герой пьесы кончает жизнь самоубийством. Однако остро увиденная и чудесно тонко и глубоко изображенная великим поэтом, великим наблюдателем и диагностиком человеческих характеров и судеб картина их жизни, — несомненна». И далее о персонажах пьесы: «Сегодня, спустя полвека, в то время как не только условия жизни на их родине коренным образом изменились, но и люди этого рода могут восприниматься собственно как исторический курьез, для нас они в каждой их черте остаются поразительно понятными. Их страсти нам так же близки, как и их мысли»214.
Понимание того, что реалистическая драма Чехова не экспонат натуралистического театра, не нечто предопределенное узостью «измов», но явление, пролагающее пути драме XX в., начинает укрепляться в австрийской критике 1950-х годов.
В 1950-е годы и режиссеру и критикам важно было понять жанровое своеобразие пьесы. Почему «Чайка» — «комедия»? Ответ Б. Фиртеля был достаточно ясным: «Комедия в четырех действиях», как она официально названа, «Чайка» — ее можно было бы точно так же назвать трагедией, она и то, и другое, в достойном удивления слиянии — обрела в истории театра большое значение»215. Одни критики прямо писали о «Чайке» как «трагической пьесе»216, другие указывали на относительность ее трагизма217, третьи на то, что пьесу нельзя назвать драмой в привычном смысле слова: «собственную драму, собственную комедию представляет каждый персонаж, и их внешняя связанность ведет ко многим драматическим эффектам, однако не к драме в традиционном смысле»218, четвертые считали, что для понимания чеховской пьесы как комедии необходима иная, высшая точка зрения: ««Чайка» названа «комедией», без приписки — «с точки зрения вечности», ибо лишь в большой связи это описание трагического круговорота, в котором человек гоняется за всем, что остается для него недостижимым, можно назвать «комедией»»219. Драматург, лирик, эссеист Рудольф Байр, озаглавив рецензию «Горькая комедия жизни», писал в ней: «Печально, не правда ли? Да, если посмотреть бегло: трагично, если совершить обозрение, и комедия, если рассмотреть с дистанции того, кто однажды был рожден <...> Как пример литературного жанра комедии комедия «Чайка» — крайний случай: трагические в себе события кажутся в известной мере лишь в остатке комичными»220.
Рецензент «Эстеррайхише Фольксштимме» в статье «Комедия мелких отношений — трагедия большой страсти» пытался раскрыть диалектику пьесы Чехова в сопряжении с ее конкретным социальным анализом: «Складывалась удушливая реальность существования поместного чиновничьего среднего класса, который своими питомцами пополнял еще и ряды художников. Эта реальность великому русскому писателю представлялась комедией мелких отношений, которая из-за безысходности обретала трагические черты. Он называет пьесу комедией, хотя последние слова ее: «Константин Гаврилович застрелился...» Это комедия бесплодности целого общественного строя и трагедия полного погружения в самого себя каждого отдельного человека; комедия запылившихся чувств и трагедия человеческих страстей в ситуации социального тупика»221.
Мучительная для человека неполнота реализации своей сущности становилась источником проникновенного психологического анализа, носящего у героев Чехова исповедальный характер. ««Чайки» — все люди этого круга жизни. Глубокое, наполненное смыслом изображение души в пьесе Чехова захватывает и потрясает широтой русского погружения в пропасти и тайны чувств, тонкостью и нервностью русского поэтического гения», — утверждал Рихард Хоффман222. Преимущественное внимание Б. Фиртеля к изображению Чеховым противоречивости жизни, человеческих отношений и характеров дало основание Эдвину Роллетту считать «Чайку» «классической современной камерной пьесой, принадлежащей мировой литературе»223.
Каждый из писавших о спектакле особое внимание уделял режиссерскому искусству Бертольдта Фиртеля. Критика единодушно оценивала его работу как высочайшее достижение театрального искусства, а его самого как идеального режиссера для «Чайки». Стремясь извлечь урок из постановки Фиртеля, один из критиков даже пришел к выводу, что «спасение театру может прийти от писателей»224.
Существенную сторону режиссерского метода Фиртеля раскрыл О.М. Фонтана: «Режиссуре Бертольдта Фиртеля необычайно удалось придать событиям и разговорам мнимую непреднамеренность и все же дать ощутить в них искусно и тесно переплетенное множество связей»225. «Эту естественность обыкновенной жизни, конечно, примененную отнюдь не к повседневному кругу, в котором происходит действие пьесы, — пишет Петер Лоос, — полностью воспроизводит великолепная постановка Бертольдта Фиртеля. Какая ясность слова и мысли! Какая простота, несмотря на сложные характеры — и потому — и какое воздействие этого ославленного как «трудное» произведения!»226
Концептуальность спектакля Р. Байр видел в том, что режиссер «позволяет увидеть стесняющую несоразмерность бытия не только в общем ходе событий, но и в сотнях полутонов»227.
Метод Фиртеля отнюдь не игнорировал и не заострял вплоть до ощущения экзотичности национальную специфику оригинала. «В совершенном исполнении и почти национальном вживании в его манеру чувств Бертольдт Фиртель создает произведение со свойственной его народу мелодией, красками, пластикой», — писал Рихард Хоффман228. И он же отмечал в другой рецензии, что режиссер «разработал во всей полноте чрезвычайно богатое лирическое и романтическое содержание все парящее, данное намеком, полувысказанное в этом шедевре»229. «Б. Фиртель как режиссер снова раскрыл мастерство полутонов, «нежных нюансов глубокого воздействия», — констатировала также д-р И.230 Фиртель поставил «камерную пьесу большого поэтического содержания, какую мы и ожидали от Б. Фиртеля. Этому большому деятелю театра мы уже три года обязаны спектаклями, которые принадлежат к самому прекрасному и самому интенсивному, что мы когда-либо пережили в театре <...>
На этот раз следует представление, которое в своей сконцентрированности и живописности совсем иное, намного более потрясающее, потому что показана духовная действительность»231.
Выдающимся спектакль делало участие в нем Кэте Гольд. Роль Нины в ее исполнении критики оценивали как одно из наиболее ярких достижений столь редкостной актрисы, которая к своим крупным ролям присоединила одну из самых значительных. «Нужно ли снова повторять слова, которые каждый раз применяют к этой превосходной актрисе? Превосходные степени, с помощью которых пытаются быть справедливыми к ее достижениям?» — писал Петер Лоос232. «Восхищенные, ставят, конечно, праздный вопрос о величайшей немецкой актрисе», — писал Рудольф Байр233. А Фридрих Торберг отмечал, что «Кэте Гольд с ее головокружительным богатством нюансов просветлила каждый слой многослойной главной роли»234.
Кэте Гольд представляла наивную девушку с большими иллюзиями, «с чистым, светлым звучанием, как на арфе»235: «характерный образ девичьего, мечтательного, страстного, изображенный вплоть до движения рук и плеч, нельзя передать убедительнее и проще»236, «здесь душа трепещет сквозь материю тела, которым она управляет вплоть до кончиков пальцев»237.
Нина четвертого акта была высочайшим достижением актрисы. Это была «грандиозная высота четвертого акта, который искал равного ему»238. «От пробуждения лишенной предчувствия к страстно любящей женщине, от дремлющего таланта к борющейся, предавшейся театру актрисе пролетела она через глубины и высоты»239. Актриса представляла намного более сильную, чем прежде, закалившуюся женскую натуру, она захватывала своими несчастьями и страданиями, и это был настоящий человек, страдающий и все же не сломленный. «Одно это: «Я люблю его даже сильнее, чем прежде» никогда уже не пропадет, и всегда оно будет служить для сравнения», — писал Петер Лосс240. На глазах зрителя рождалась трагическая судьба столь же достойного любви, сколь и несчастливого человека, одержимого своим призванием, поставившего себе цель, ставшего сознательным художником, «она была тоскующе порывистой актрисой и разочаровавшейся актрисой, и она была актрисой Кэте Гольд», — писал Фридрих Торберг241. «Тоска по никогда не достижимому освобождению и осуществлению собственного «я», которая становится главной задачей, звучит и излучает свет тихо, лирически насыщенно, трогательно и трагически из каждого слова и каждого жеста Кэте Гольд», — замечал Эдвин Роллетт242.
Эрих Ауэр, молодой в то время актер Бургтеатра, расценивался критиками как идеальное назначение на роль Константина Треплева. Его Треплев был беспокоен, неуправляем, непонят, стоял рядом с жизнью, так и не находя себя. «Эрих Ауэр, противостоящий препятствиям внутренней и внешней жизни, своей величайшей волей гонимый в смерть юноша»243, представлял впечатляющий контраст знаменитому писателю Тригорину. Кэте Гольд как интерпретатор лирической драмы Треплева, «пьесы в пьесе» дважды добивалась разного эффекта: в первом акте публика в зрительном зале и на сцене смеялась над произведением модерниста; в последнем акте этот же текст принимался за поэзию.
Мария Айс, изображая стареющую знаменитую актрису Аркадину, эгоистичную, «по-павлиньи помпезную»244, цепляющуюся за успех и любовь, способную ради этого разрушить другую жизнь, придавала трагические черты своей героине, которая не может проститься со своей молодостью.
Курд Юргенс представлял Тригорина как модного преуспевающего литератора, забавляющегося от скуки, холодно трусливого и зависимого, и в то же время спокойного, задумчивого, исполненного небрежного превосходства. Это был во всей «действенности добра и зла, не сознательный негодяй, а одержимый своей профессией тщеславный эгоист, поддержанный своим окружением с помощью потворства и не ставший лучше от собственных сомнений»245. Наряду с К. Гольд критики оценивали данную работу как самое значительное достижение спектакля.
Макс Паульсен — Сорин представлял его превосходительство на пенсии как дряхлого, забавно любезного, добившегося общественного положения, но не жившего, обделенного радостями и наслаждениями человека, — «трагикомический пример того, для кого существование оставалось просто средством для корректно выполняемой, однако не наполненной человеческим содержанием службы»246, «в духе того времени самый типичный образ из всех, — выдающийся психологический портрет»247.
Маша — в исполнении Марии Крамер — представала «как сестра Нины-«чайки» по судьбе, как темная вариация все той же темы moll, безнадежно тихая воительница малой жизни»248. Представляя мрачное отчаяние и муку безнадежной страсти, отрекшуюся, борющуюся женскую душу, актриса достигала трагической силы.
Отто Керри в роли Медведенко смог придать своему персонажу подлинность, играя маленького, раздавленного жизнью школьного учителя, человека с узким кругозором, однако обладающего прямотой и честностью — «образ точно из ансамбля Станиславского»249.
Дорн в исполнении Фреда Хеннингса представал «как тот, кто наслаждался и удовлетворен, смотрит и оценивает жизнь уже с высоты, полный спокойной мужественности, победитель порывов»250.
Декорации Тео Отто передавали «сполна свойственную «Чайке» атмосферу между мечтой и бытием», по замечанию О.М. Фонтаны251, атмосферу эпохи, создавали ощущение времени, «90-х годов, в которые пламя русской интеллигенции столь мощно разгорелось, что его отблески видны далеко в Западной Европе»252.
В мае 1963 г. «Чайка» была показана по венскому телевидению. Спектакль был подготовлен западногерманской второй программой Майнца и Австрийским телевидением. Режиссер Вольфганг Глюк сказал в интервью, что стремился «трагические события развернуть на комедийном фоне, отказавшись от характерной до сих пор для русских пьес, идущих на западных сценах, мрачности и меланхолии, и таким путем воплотить в «Чайке» новую разновидность внутреннего драматизма»253. Однако, как отмечает Хилде Рёдер, замысел «сыграть как имеющую двоякий смысл комедию, в которой трагическое вытекает из смешного, а смешное из трагического», не был реализован, и «Чайка» была показана как «печальная история разочарованных надежд, мнимого таланта, неисполненных желаний»254. «Ощипанная «Чайка»» — так называлась рецензия «Фольксштимме», в которой, в частности, отмечалось: «Как Чехов может быть сыгран современно, блестящий пример дает в советском фильме «Дама с собачкой» молодой актер Баталов. Такого наглядного образца, к сожалению, здесь не найдешь»255.
Значительным явлением в истории постановок «Чайки» в Австрии стал спектакль, поставленный Петром Шаровым на сцене «Народного театра» в Вене в феврале 1965 г.256 Свою концепцию режиссер сформулировал в одном из интервью: «Комедия, которая в своей сущности совсем не весела, но даже очень печальна, — для такой драмы нужен собственный стиль игры, не вмещающийся в традиции классического и эпигонского театра»257.
В спектакле Шарова выявлялись два идейно-художественных центра. ««Чайка» Чехова — двойная пьеса, — писал Кауэр, — это поэтически сконцентрированное изображение человеческого состояния, непрестанное размышление о смысле бытия, о ненасытной и потому неосуществимой любви... и дискуссия: что есть литература? Описание состояния и дискуссия, соединенные друг с другом в кульминации, в самом существенном касаются обеих тем»258.
В истолковании актерского ансамбля получал впечатляющее воплощение драматизм женских судеб. Чехов прочитывался как глубокий знаток женской души. «Не только «чайка» Нина, жертва охотника, не только прошедшая через все круги ада одиночества Маша, образы, которым Эрика Моттль и Мария Урбан придают трагическое горение, не только тщеславная дива Ирина, которая подавляет все, что есть вокруг нее, и которая, как бешеная, борется за свою позднюю любовь (блестящая роль Элизабет Эпп), но и пребывающая в тени, горюющая в своей маленькой любви к доктору Дорну Полина (Паула Пфлюгер) намного вырастают над привычным в театре: становится ощутимым, какой свет эта игра теней, тайна открывает», — замечает Кауэр259.
Особую идейную актуализацию обретал в интерпретации Клауса Хёнига образ Треплева — «писателя, чей мировой ужас «через двести тысяч лет» — мы эту пьесу со времени премьеры «Чайки» значительно сократили на 70 лет — столь чудовищно сбывается в Нине, «мировой душе». Этот Тассо сентиментального буржуазного мира <...> мерцающая судьба между попыткой самоубийства и смертельным выстрелом в конце, — портрет первого «потерянного поколения» (сколь многих должны мы еще потерять?)», — писал Кауэр260.
Критики отмечали, что Шаров сумел воплотить в спектакле чеховскую любовь к человеку, веру в лучшее будущее. При том, что спектакль получил очень высокую оценку, наибольший счет ему предъявил Бурно Фрей. Критерием глубины интерпретации чеховской пьесы стали для него слова Чехова о том, что лучшие из писателей реальны и пишут жизнь такой, какая она есть, однако каждая строка пропитана, как соком, сознанием цели. «Так и была создана «Чайка», но не сыграна, — замечает он, — Ощущаешь, как живут те, наверху, однако не то, что они должны жить иначе»261. Меж тем эта существеннейшая грань чеховской драматургии так и оставалась не раскрытой во многих спектаклях на протяжении целого ряда десятилетий. В данном случае причину такой переакцентировки критик, видел, в частности, в «микрофотографическом режиссерском стиле, который благодаря своей точности не оставляет места духу произведения»262.
Режиссерский стиль Шарова отличала «существенность незначительных второстепенных персонажей, каждого жеста, каждого слова, молчание, невысказанное». «Снова он держит нас в напряжении с помощью языка безмолвных моментов, виртуоз режиссерских пометок «пауза», которые Чехов так богато и со знанием рассеял в своем тексте: пианиссимо лейтмотива», — утверждал К. Каль263.
«Это был вечер славы для Чехова, для Шарова и для Народного театра», — писал Фридрих Торберг264. «Шаров достиг совершенства, которое в театре встречаешь не часто», — утверждал К. Каль265.
Первым спектаклем сезона 1977 г. в Бургтеатре была «Чайка»266, в которой на сцене театра дебютировал ряд известных актеров. Для критиков конца 70-х годов высокое литературное значение произведения несомненно. «Шедевр Чехова «Чайка», как известно, составил главу в истории мирового театра, в области литературной драматургии в не меньшей мере, чем в области представления и руководства актерами», — писал Гуго Гупперт267. И Ева Шеффер убеждена, что «никогда не прекратится обращение к этой пьесе, в течение десятилетий входящей в репертуар театров всего мира, давным-давно переведенной на многочисленные языки»268.
С лирически исповедальной задушевностью писал о своем отношении к «Чайке» писатель Дьердь Шебештьен: «Я люблю эту пьесу: длинные, бесцельные и временами молчаливые прогулки небольшой летней компании по берегу озера; трогательные чистые мечты молодой девушки; многие меланхолические монологи мужчин, которые еще в зрелые годы восхищенно странствуют по жизни и страдают от сомнительности их судьбы; жадный до жизни эгоизм большой актрисы, которая с животной легкомысленностью держится за завоеванное ею: за мужчину, за деньги, за карьеру. Я люблю темный бунт литературного юноши-дилетанта, ожесточенность его ложного художничества и его смелость отомстить жизни с помощью уничтожения жизни. Я люблю эту тишину долгих летних дней, это тихое жужжание и звук какой-нибудь мелодии вдали, эти празднично печальные отъезды в далекие города, в которых затем снова можно молчать и вздыхать и болтать о примечательных пустяках»269.
Однако источником для такого лиризма было субъективное понимание пьесы как вневременно рокового трагизма человеческого существования и самого человеческого существа из-за его извечной раздвоенности и невозможности изменить что-то в своей судьбе и характере. Поистине безрадостная человеческая комедия! Скорее даже нечеловеческая комедия. Такой она предстает и для Евы Шеффер — как «меланхолическая пьеса о надломленных душах, трагикомические сцены об отречении и разочаровании художественно одаренных молодых людей, которые разбились о рутину жизни старших и о непроницаемую стену»270. Не удивительно, что чеховские герои выглядят в глазах подобных критиков, взирающих на пьесу русского писателя сквозь призму абсурдности человеческого существования, оставляя чеховским героям лишь одухотворяющее, очеловечивающее их чувство — способность страдать, печалиться, как «равнодушные, тупые, очерствевшие или просто печально отцветающие люди, которые страдают от жизни, от несчастной любви, которые в разговорах, на прогулке, в игре лелеют скуку и мировую скорбь»271. В доминирующем мотиве чайки, «которую кто-то подстрелил — из подлости, как говорит один, или от скуки, как говорит другой», критик Пьеро Рисмондо видит символ, относящийся ко всем персонажам пьесы: «Все они «подстрелены». Они чахнут от своих ран или даже уже мертвы, даже если продолжают жить»272. И для Ренаты Вагнер «Чайка» — «может быть, самая прекрасная среди многих прекрасных пьес, в которой Чехов сказал много верного о труде и бытии писателя, о славе и бедности, об одиночестве, пустоте и потерянной жизни»273. Лишь немногие критики подходили к изображенным в пьесе человеческим драмам, трагикомедиям жизни чеховских персонажей не экзистенциально-отвлеченно, но социально-исторически, конкретно. Таков прежде всего подход Гуго Гупперта.
Впрочем, довольно обобщенная историческая конкретизация чеховской концепции человеческого существования у отдельных критиков отнюдь не противоречила характерному для западных интерпретаций стремлению к «универсальному» прочтению пьесы. Так, Пауль Блаха писал: ««Чайка» — пьеса о неисполнившемся существовании. О потраченной попусту жизни. В «Чайке» и во всех пьесах Чехова целая эпоха идет к концу. И — общество. Не так отчетливо, как в «Вишневом саде», не так одержимо прощанием, как в «Трех сестрах». Однако та же неизлечимая слабость людей, их скепсис»274. «Комизм происходящего не развеселит», — утверждает Шебештьен275. Так почему же Чехов назвал «Чайку» комедией? Над этим вопросом вновь задумались рецензенты. Дуглоре Пиццини писала: «Комедия? Пьеса, которая выводит на сцену страдающих, разочарованных бездеятельно оплакивающих свою личную нищету, свои неисполнившиеся надежды людей <...> которая, как все произведения Чехова, сигнализирует о неизбежном закате эры и касты, не имеющей силы выжить. Для Чехова этот спектакль заката должен носить комические черты, потому что он знакомит с настоящей нищетой. Неуемное честолюбие и тщеславие его сценических персонажей, их борьба за любовь и признание, их наслаждение речами и их неспособность действовать <...> должны казаться человеку, имеющему собственный взгляд, неизбежно гротескными»276.
Как видим, ответ на вопрос, почему «Чайка» названа Чеховым «комедией» в конце 70-х годов — в сравнении со спектаклем, поставленным за четверть века до того Б. Фиртелем, — дан иной, и свидетельствовал этот ответ не только о новой духовной ситуации интеллигенции, но и об ином понимании отношения Чехова к своим героям. Естественно, подобного рода интерпретации «жестокого» Чехова вытекали из режиссерской концепции Эрвина Аксера.
В постановке польского режиссера персонажи «Чайки» были «редкостно изолированы друг от друга, редкостно противостояли друг другу без какой-либо связи»277, как отмечала писательница Хилде Шпиль в своей рецензии. «Каждый несет с собой свою судьбу, свои раны, свою боль. Свои теневые стороны и отречения»278, — такова, по Паулю Блаха, формула жизни чеховских персонажей.
Э. Аксер поставил «Чайку» в Бургтеатре в духе иронической авторской характеристики пьесы: «<...> много разговоров о литературе, мало действия, пять пудов любви» (письмо А.С. Суворину от 21 октября 1895 г. — П. VI, 85). При этом он, как отмечал Хайнц Ханль, избежал опасности поставить «Чайку» «как тезисную пьесу, к чему могли бы склонить «речи о литературе», как оргию чувств, к чему приглашает множество несчастных Любовей»279. Называя имя польского режиссера, рецензенты упоминали, что он ученик известного деятеля театра Леона Шиллера, основатель «Варшавского современного театра», он, завоевавший славу знатока и интерпретатора Чехова, — в Вене, где он родился, дорогой гость, что на Западе он стал известен прежде всего своей инсценировкой «Дяди Вани» в 1973 г. в Мюнхенском Камерном театре. Необходимо было соотнести новую инсценировку с традицией Станиславского, которая уже за несколько лет до этого спектакля начала подвергаться пересмотру, ведь, как замечает П. Рисмондо, «снова и снова пытались освободиться от «модели Станиславского», от его натуралистически детализированной живописи настроения, против которой Чехов сам критически выступал»280. Тем более что «процесс освобождения театра Чехова от подражания Станиславскому не миновал и Бургтеатра»281. «Чайка» 1977 г. на сцене Бургтеатра была поставлена, как отметил Д. Шебештьен, «в манере разработанной Станиславским легендарной первопостановки»282. Шебештьен откликнулся на спектакль Аксера двумя рецензиями, во второй из них он уточнил свою мысль: по его словам, режиссер «хочет ни больше, ни меньше, как поставить на сцене «Чайку» Антона Павловича Чехова в стиле спектакля Московского Художественного театра, в котором автор принял активное участие»283. Однако такое мнение осталось единичным.
«Каким Чехов хотел видеть свою «Чайку» на сцене, он ясно сказал. Без ложного натурализма. Без густой «атмосферы». Конечно, не сентиментальной. С комическими чертами», — констатировала Д. Пиццини284, и именно в таком духе стремился поставить «Чайку» Аксер. Прежде всего он сделал все, чтобы его спектакль не походил на сенсацию. «Поскольку в нем нуждались столь долгое время, ожидали чудо-спектакль. Ни о каком чуде, однако, не может быть речи. Постановка Эрвина Аксера самородна — не более и не менее», — писал Виктор Райман285. «Аксер ничто не делает сенсационным», — утверждала Д. Пиццини286. «Тихая сенсация этого вечера состоит в том, что Эрвин Аксер отказался от любой пустой сенсации», — отмечал Д. Шебештьен287. Остаться верным Чехову, произведению, слову писателя, не навязывая зрителю своей интерпретации — в этом видели достоинство режиссера, ведь «зритель имеет право на то, чтобы воспринимать замысел автора и затем составить себе собственное суждение — без влияния сценических комментариев режиссера»288. «Аксер хочет позволить воздействовать слову», — утверждал Л. Шебештьен289.
Аксер не отказывался от передачи настроения. Ему «удалось передать атмосферу и жизнеощущение, которое определяет эту печальную комедию»290. Лишь один критик определил настроение спектакля как «осенне-меланхолическое»291. Большинство же отмечало его полифонизм. «В постановке Аксера можно смеяться; ведь он работает с утонченностью перехода от комического к трагическому и от трагического к комическому»292. При этом спектакль был совершенно лишен жалостливости, сентиментальности. И в этом была существенная, по мнению критиков, новизна в трактовке Чехова в Австрии 70-х годов.
Верным помощником Аксеру в реализации его концепции «Чайки» оказалась театральная художница Эва Старовейска. Ее декорации критики оценивали как мастерские, исполненные настроения. В серебристо-сером лесочке — небольшая сцена любительского театра, этот «погруженный в мечты ландшафт»293 передавал «скучную поэзию сосен на берегу озера вечером»294, «внушал представление о бесконечной русской широте»295, зримо воплощал «тоску», «нездоровую сельскую жизнь, выливающуюся в самоубийство и отчаяние»296. И скупо меблированный интерьер дома с легкими трещинами на стенах со столь просторными и высокими комнатами, что они рождали впечатление «эха» железнодорожного вокзала в жилых комнатах (чего не было, как замечает рецензент, на гастролях МХТа в Бургтеатре, который доказал, что Чехова можно играть и на большой сцене этого театра), передавал «трогательную, отжившую уютность»297 довольно разоренного старого имения Петра Николаевича Сорина. Такая сценография стремилась, по замечанию Шебештьена, к «истолкованию реальности и воздерживалась от какого-либо поверхностного натурализма»298.
«Найдем время для этого спектакля. Не только потому, что завершающий последний акт выстрел звучит в 10 ч. 45 м.», ведь спектакль шел три с четвертью часа, пьеса давалась в почти полном объеме — «поляк Эрвин Аксер решился на полную славянскую широту оригинала»299. «Это определенная мера внутреннего времени, которое требуется здесь от публики, для которой в «Чайке» слишком много молчат и произносят часто монологи, а незначительное оказывается неожиданно важным», — писал Д. Шебештьен300, поясняя в другой рецензии, что «это может иметь следствием расхождение между ритмом спектакля и темпом современности. Кто однажды захочет изменить ритм, тот должен извратить содержание. Ведь в ритме живой речи обнаруживается организм: удар пульса, дыхание и напряжение нервов»301. Другие рецензенты увидели в этом «модную болезнь режиссуры растянуть пьесу так, что она становится пространной. В век ракет переживаем мы в театре век почтовых карет. И при этом пьеса достаточно широко эпически развернута»302. Для этой пространности постановки было найдено слово: «На большом дыхании»303. Гуго Гупперт увидел в этом «отнюдь не безобидный недостаток и ложное решение режиссуры: максимально растянуть ход пьесы, абсолютизировать искусственные паузы и благодаря этому внести тяжелую диспропорцию, лишая ценности и воздействия одну из самых прекрасных театральных поэм мира»304. Однако, несмотря на длинноты, «это была все же интерпретация, которая измеряла и пластически изображала весь передний и задний фон развития чеховской драмы»305. В итоге «возникала картина, которая производит впечатление завершенной и одновременно растворяется в бесчисленных красках»306.
Актерский ансамбль получил различную, иногда противоположную оценку у критиков. Достоинством его было освобождение Чехова от привычного налета театральности. «Каждый понял, что пытался доказать режиссер: актер должен встретить текст Чехова с высокой мерой простоты, с полным отказом от удобных удовольствий, играть всхлипывая, рыча, шумя, смеясь. Текст Чехова больше, чем просто театр, он — встреча, связь, жизнь»307. «Просто и непосредственно действуя, актеры позволяют возникнуть миру Чехова»308.
Йозефин Платт передавала «нежное, девичье волшебство»309 Нины, ее трогательность, доброе доверие, захватывающе изображала ее «уязвимость и ранимость». И все же это была «маленькая чайка с надломленным крылом»310. У Йозефин Платт отсутствовало еще «последнее убедительное исполнение роли (пока она создает ее лишь на две трети)», «она еще не может сыграть решающую заключительную сцену»311. В конце пьесы это было «еще очень наивное существо начала пьесы — ни в коем случае не женщина, которая прошла сквозь ад»312. В исповеди Нины, в ее «умей нести свой крест и веруй» отсутствовало то «актерское чудо», которым потрясала зрителей 50-х годов Кэте Гольд. «И думаешь с грустью о призыве Бертольдта Фиртеля к Кэте Гольд: «Брось себя в мир и позволь распять». И Гольд позволяла себя распять. Однако не нужно мечтать о прошлом. И Йозефин Платт когда-нибудь будет потрясать зрителя»313. Мечтать о прошлом не нужно было не только по причине бесполезности этого занятия, но и потому, что настоящее выдвигало иную грань в понимании образа Нины. «Она в печальной картине — олицетворение надежды», — пишет Шебештьен314. Нина Йозефины Платт была «не столь эфирной, как многие ее предшественницы по роли»315, исполнительница выявляла силу ее духа: «Йозефин Платт играет смелую, взлетающую вверх под порывом свежего ветра «чайку», девушку, сильную по воле и наивную, молодую женщину, которая обладает достаточным мужеством для того, чтобы открыто сознаться в страсти»316. И все же наиболее критично настроенный к спектаклю Гуго Гупперт считал, что исполнение роли Нины Й. Платт «не позволяло ощутить хотя бы частичку внутренней жизни и порывов тогдашней изголодавшейся по новому молодой русской интеллигенции»317.
В спектакле Аксера Нина Заречная и Константин Треплев представали как «молодая пара любящих: мечтательная, наделенная смертельной тоской и приметной готовностью к борьбе за жизнь на краю истерии»318. Герхард Бекман вызывал интерес, впечатлял, даже вызывал восхищение как «молодой человек с обнаженными нервами. Ничто в его вспышках внешне не приземлено, все идет изнутри. Этюд редкой интенсивности настроения», — писала Рената Вагнер319. Это был «похожий на молодого Барро, пылкий, отчаявшийся Костя», «страстный, несчастливый писатель-юноша»320. Изображался прежде всего бунт отчаяния. «Становилось ясным, что трагизм Треплева в том, что его революционные тезисы проистекают из его отречения»321. Очевидно, что и критик и исполнитель роли воспринимают образ Треплева в свете молодежного движения конца 1960—1970-х годов. И.П. Рисмондо дает такое, опирающееся на З. Фрейда, толкование саморазрушительной «агрессивности» Треплева, которое вряд ли что объяснит в трагедии чеховского героя, как и в бунтарском метании молодых людей современной Европы: «Тот, кто подстрелил чайку, — начинающий молодой писатель. Тем самым он освобождается от своей агрессии по отношению к человеку, который имеет перед ним преимущество литературного успеха и который украл у него любовь начинающей молодой актрисы. Агрессия оборачивается в конце концов против него самого: он рвет свои рукописи и стреляется»322. Как отмечал Г. Гупперт, изображение роли Константина Треплева как «комплекса жертвы» лишало исполнение «поэтического импульса», а то, что ему оставалось, — «брюзгливая нелюдимость», вступало в противоречие с этим «мировоззренчески решающим» образом у Чехова323.
«Какое напряжение возникает здесь из контраста двух писателей! — воскликнул один из рецензентов спектакля и добавил: — Чехов вложил в обоих часть своей собственной личности»324. Исполнитель роли Тригорина — опытный актер Норберт Каппен, уже сыгравший Ивана Петровича Войницкого в Мюнхене в спектакле 1973 г., поставленном Аксером, рисовал своего героя «с тонким искусством характеристики». Режиссерский метод «душевной вивисекции», по мысли критика, «оправдал надежды и в Норберте Каппене»325. Тригорин в изображении Каппена представал самодовольным, но сомневающимся в себе писателем, лишенным привычного обаяния, устало медлительным, рассудительным: «образ незначительности, так, даже не любовник, так, даже не привлекателен, стареющий беллетрист, серый мещанин»326. «До сих пор Тригорина изображали в большинстве случаев как тщеславного, кокетничающего своей меланхолией человека. Совсем иначе у Каппена. И он — «подстреленный». И у него нет никаких иллюзий о себе самом. Прежде чем стать преуспевающим автором, он упустил свою молодость, попрошайничая в редакциях. Теперь, когда он стареет, он хочет наверстать упущенное в молодости. И терпит крушение»327.
Из других исполнителей внимание рецензентов привлекла Аннемари Дюрингер — Аркадина. Рыжеволосая, с локонами, все еще необычайно привлекательная, отдающаяся настроению, но и расчетливая, даже жестокая, когда речь идет об ее интересах, она представала в спектакле этаким «священным материнским монстром», по определению Хилде Шпиль. Сцена, в которой Тригорин просит Аркадину отпустить его, давала актерам великолепную возможность показать, как их герои душат свою попытку разрыва в оргии любви, лести и вымогательств. С блеском и наглядной пластичностью показывала актриса эгоизм своей героини.
Вольфганг Гассер, изображавший Дорна с его сухой саркастичностью, высокомерием, холодностью, представлял циника-врача в маске Чехова. Высотой своего роста выделяясь среди остальных актеров, он как бы выступал и в роли бесценного комментатора всего происходящего.
Таков «жестокий» Чехов 70-х годов в австрийском варианте, где эта жестокость смягчена чувством меры и такта.
Спектакль в целом оценивался как достопримечательное явление начавшегося венского театрального сезона. Даже Г. Гупперт, единственно оценивший постановку как неудавшуюся, отмечал, что такого рода постановку необходимо приветствовать как инициативу. И все же, думается, последнее слово в оценке спектакля принадлежит писательнице Хилде Шпиль, увидевшей на сцене Бургтеатра Чехова и его «Чайку», писателя и его произведение и оценившей такую возможность как «благодеяние».
5
10 апреля 1906 г. — дата премьеры «Дяди Вани», состоявшейся в «Интимном театре» Вены за несколько дней до гастролей МХТа в Бургтеатре. Рецензия «Нойе Фрайе Прессе» свидетельствует, что чеховские герои воспринимались в духе ходячих представлений о странной, пассивной «русской душе»: «Все эти философствующие люди мучат себя и других; как серые пятна, проходят они мимо друг друга, и ни один не может собраться с силами для дела; молодая, нуждающаяся в любви женщина становится причиной бед, даже не изменяя мужу»328. Этот зачин повторился затем неисчислимое число раз на протяжении нескольких десятилетий. Тем более, что вывод прозвучал вполне недвусмысленно: «Все эти сцены из грустной жизни можно понять как символ русского характера». О том, сколь поверхностно представляли себе австрийские критики и русский народ и его «деятельных людей» типа доктора Астрова, свидетельствует следующий пассаж: «Однако несколько поэтов и мечтателей — деятельные люди этого чудесного народа — сочиняют и мечтают, исходя из нищеты надежд». По мнению рецензента, спектакль «не мог быть справедливым к глубокому смыслу и единственному в своем роде, меланхолически странному настроению произведения», хотя в чем состоит этот «глубокий смысл» рецензент не обмолвился ни словом. Такова была «лиха беда-начало».
Затем почти четыре десятилетия пьеса не появляется на венских сценах. Однако именно «Дядя Ваня» был первой пьесой Чехова, поставленной в Вене после второй мировой войны. Она была поставлена Леоном Эппом 18 октября 1945 г., и ею открыл свой первый сезон театр «Инзель». Был использован перевод Артура Лютера. В главных ролях выступили Ханс Франк, Элфриде Кузманы, Ханс Бранд и Элизабет Эпп.
В 1967 г. пьеса шла на сцене Театра в Йозефштадте, и это был, по словам рецензента «Фольксштимме», «великий вечер Йозефштадта»329. Несомненная заслуга в этом принадлежала одному из выдающихся австрийских режиссеров Хайнриху Шницлеру, сыну известного писателя, классика национальной литературы, драматурга, пьесы которого при его жизни занимали значительное место в репертуаре этого театра.
«Шницлер постиг людей Чехова, которые даже не играют, но в эгоистических размышлениях изнуряют себя и лишь случайно, предугадывая ответ, ищут контакта друг с другом, любви, а это может кончиться лишь плохо, и плохо кончается», — писал Эдмунд Теодор Кауэр в «Фольксштимме». Вновь вставала проблема: как ставить и понимать Чехова. «Должно ли истолковывать Чехова как пессимиста, как описателя состояния почти безысходной ситуации конца, как это делалось десятилетиями и еще делается, или должно понять его как предшественника и пророка революции? Мы считаем интерпретацию Шницлера верной, именно в духе мысли Станиславского, которая характеризует не только Астрова, но также Чехова: не пессимист, не оптимист, но тот, кого окружающий его мир еще не изуродовал, фигура, которая и в зрителе может пробудить надежду, что не все еще потеряно».
В ансамбле интерпретаторов чеховских персонажей Кауэр выделил Эрика Фрая — Серебрякова, Ханса Хольта — дядю Ваню, Леопольда Рудольфа — Астрова.
«Дядя Ваня» в Академитеатре в сезон 1971/72 г.330 отмечен явным стремлением по-новому прочесть Чехова и его пьесу как политическую драму. К этому обязывали исторические события современности. Таким подходом отмечена была помещенная в программе к спектаклю статья западногерманского переводчика драматургии Чехова Петера Урбана «Доктор Астров и Леший. О работе Чехова над «Дядей Ваней»»331. Знакомя зрителей Бургтеатра с историей создания «Дяди Вани», показывая, что «Леший» относится к ранней драматургии и завершает ее, а «Дядя Ваня» находится между ранними пьесами и «Вишневым садом», выявляя существенные различия между «Лешим» — комедией, веселой пьесой — и «Дядей Ваней» — драмой, в которой автор отказался от таких сильных «решений», как самоубийство Войницкого, автор приходит к выводу о том, что «из двух пьес получилась одна политическая пьеса «Дядя Ваня». И тут же уточняет: «Политическая не в смысле вульгарной интерпретации — из Астрова так же трудно сделать революционера, как из неистовства Войницкого — политический акт». ««Дядя Ваня» — политическая пьеса, по моему мнению, — продолжает убеждать П. Урбан, — поскольку — и это совпадает полностью с отвращением Чехова ко всем высокопарным плакатным жестам — она в проникновенной манере помогает осознать состояние общества, представляя плененную заблуждениями, иллюзиями и мечтами, оцепеневшую в условностях и лжи, задушенную в тупости, глупости, отчуждении и материальной нужде жизнь или уже разрушенную жизнь, и пьеса дает возможность тому, кому все это представлено, обдумать, как все это изменить. То, что это должно быть изменено, — вне сомнений».
Трактовать Чехова в начале 70-х годов как меланхолика, культивировать соответствующую атмосферу его пьес было бы непростительным анахронизмом — это понимали все. Критика не скрывала того, что играть Чехова по-старому уже было невозможно, а как играть его по-новому, было неясно. «Нам неясно, как должно играть Чехова. Русскую атмосферу или социальное пророчество, настроение заката или параболу о смысле человеческого существования? В пользу чего мы всегда готовы принять решение, — это решение играть Чехова, и интенсивность усилий — свидетельство жизненной актуальности, современности его театра», — писал Ханс Хайнц Ханль332.
Рождалось понимание того, что прямое, непосредственное предвосхищение революции 1905 г. вряд ли можно было вычитать в драмах Чехова, и вряд ли были правы — замечала Д. Пиццини — те «толкователи, которые каждый раз, когда в пьесах Чехова слышен треск в балках русского общества, полагают услышать удары грома, возвещающего громы революции»333.
Дьердь Шебештьен начинал свою рецензию с недвусмысленного заявления о своей позиции: «За шесть лет до отчаянной, безрассудной, тщетной революции 1905 г. «Дядя Ваня» шел на московской сцене: «Сцены из деревенской жизни», полные недомоганий, гротескного горячего протеста, яростной хандры. Тишина здесь — лишь чувственно постижимая форма принуждения; отказались от изменения жизни, похоронили надежды, похоронили в живом теле самих себя. Какое дикое напряжение в этой хандре! Ничто Чехову так не чуждо, как чужда сладкая, душная, изнуряющая меланхолия. На многих сценах именно ей служат мессу, и именно в традиции Станиславского»334. Возложив вину за ложную традицию истолкования Чехова на Станиславского, Шебештьен предпочел и в протесте чеховских героев подчеркнуть его ненормальную болезненность, духовную смерть в примирении. Однако все это не столько характеризует чеховских героев, сколько выявляет ситуацию западной интеллигенции начала 70-х годов. Прочтение Чехова сквозь призму «театра абсурда» вряд ли открывало в нем что-то существенное.
«Безутешная глушь, изолировавшееся от потока жизни поместье, длинная ночь в жизни царской России»335 — что могло дать австрийцам 70-х годов такое истолкование чеховской пьесы?
«Суровость и оптимизм в отношении к будущему» начинают выдвигать на первый план в трактовке пьес Чехова, равно, как и понимание того, что «их суть — не настроение, но тенденция. И она остается законной еще сегодня, по истечении более чем семидесяти лет. Так понимает «Дядю Ваню» Линдтберг. И так актеры пытаются играть Чехова. Пытаются. Ибо это, несомненно, ново для них», — утверждал Готхард Бём336. Это новое прочтение было осуществлено лишь отчасти, актеры были «на пути к Чехову», да и венской публике, привыкшей к импрессионистическому Чехову, принять такую трактовку было нелегко. Отказаться полностью от передачи настроения режиссер не мог, и спектакль был воспринят отдельными рецензентами лишь в этом привычном ракурсе. «Великолепный, чрезвычайно культивированный спектакль Академитеатер исчерпывается главным образом тем, что он роскошествует в меланхолии», — писал Д. Шебештьен, разочарованный в спектакле, единственный из рецензентов отрицательно оценивший его в целом, и далее продолжает: — «Инсценировка аранжирует и предлагает старое салонное клише Чехова. Невыразимое остается также несформулированным. Смешное, дикое, гротескное подавлено сентиментальным. Отсутствует сила, уверенность стиля»337.
Этот традиционный аспект истолкования Чехова в спектакле Линдтберга для отдельных критиков и был едва ли не единственной мерой подхода к нему, что и порождало их сдержанное отношение к спектаклю. «Сцены из деревенской жизни» показывают праздность, саморазрушение умирающего общества: это на наших сценах тотчас ведет к мрачному живописанию, к трагизму. Как будто есть люди, которые с раннего утра до позднего вечера хандрят. Как будто у них год от года улыбка не трогает губ. Это так условно, так аранжированно, так выдуманно. Жизнь же не такова»338.
«Инсценировка Леопольда Линдтберга <...> приводит минорную тональность его пьесы к такому звучанию, что оно находит сильный отклик у публики», — пишет рецензент «Винер Цайтунг». И добавляет несколько ниже: — «Скупо применен забавно-потешный юмор, рассыпанный создателем столь многих мастерских гротесков и в этой серо-серой пьесе»339.
В спектакле Линдтберга были и другие стороны, которых нельзя было не заметить, ведь, как отмечал Отто Ф. Веер, речь у него шла «не о мелкой живописи, не о нежной меланхолии, но о резких контурах»340. Именно стремление режиссера охватить «контуры» чеховского произведения как многогранного целого, «контуры» русской действительности кануна XX в. было оценено критиками как «подступ к Чехову».
И все же спектакль, раздвоившийся между традиционным и современным прочтением Чехова, получил в большей мере одобрение, чем осуждение критиков. «Линдтберг — больше человек интеллектуально размышляющий, чем бескомпромиссно исполняющий. Может быть, он уступил, убоявшись предложить консервативной публике слишком «политическое» прочтение. Однако мы благодарны уже за каждый подступ. Коллектив на пути к Чехову нуждается в понимании, но не в порицании за то, что он не достиг своей цели»341.
Эту направленность новой интерпретации «Дяди Вани» критики уловили в ее частностях. «Никакой не импрессионистический Чехов, скорее грозовой, угрожающий», — заключал Отто Ф. Беер, видя эту примету в интерпретации актерами образов пьесы. Так, он писал об Иване Петровиче Войницком в исполнении Йозефа Майнрада: «В этом опустившемся деревенском владельце имения нет ничего трогательного, скорее нечто тревожное». «Ваня Й. Майнрада в этой концепции не безнадежно разочарованный, он развивает в своем горячем протесте тревожную силу, делая благодаря этому свой крах столь трагичным»342.
Критики, впрочем, резко разделились на два лагеря и в оценке исполнителей ролей чеховских героев. Одни из них (Д. Пиццини) настоятельно подчеркивали приметы слабости героя, «трагического, комического, отчаявшегося человека, без цели в жизни, возбуждающего такого рода сочувствие, в которое примешивается оттенок презрения»343. И хотя отмечалось, что Йозеф Майнрад «сохраняет в титульной роли высокий ранг своего изображения характеров», главным для Д. Шебештьена было то, что Войницкий представлялся как человек слабый, «настоящая тряпка»: «Майнрад предстает перед нами и на этот раз с блестящим психологическим искусством целиком как жалкий человек. Полный жалобной сентиментальности в своей влюбленности во вторую жену профессора, полный дикого невротического изнурения»344. Отдельные критики выдвигали в качестве главного в майнрадовском Войницком его прозрение. «И Йозеф Майнрад понимает, что в этой инсценировке важно, он играет дядю Ваню не как седовласого пьяницу, мягкую бездарь, но как человека, который познает, в чем заключена ценность жизни, хотя и слишком поздно, слишком поздно», — писал Г. Бём345. Лишь Г. Гупперт сумел увидеть в протесте чеховских героев нечто большее, чем индивидуалистический протест против судьбы: «В игре Йозефа Майнрада и Инге Конради по ту сторону от конвенций и клише олицетворяется масштабно изображенный горячий душевный протест дяди Вани и терпение некрасивой Сони, обогащая и смешивая друг с другом все цветовые тона изолированного, отчужденного отречения от любви и жизни. Для концепции этой постановки характерно то, что две «находящиеся в тени» фигуры (Войницкий и Соня. — Е.Н.) страстно борются против внутреннего одичания и разочарования»346.
Разноречивы были и оценки Сони в исполнении Инге Конради. «Слабый момент вечера: Инге Конради как Соня»347. И: «Лишь у Инге Конради верно все»348. Некоторые, очень немногие, не приняли манеру ее сценического поведения («Она жестикулирует с неприветливой порывистостью, какая уместна была бы у персонажей Нестроя, в остальном же слишком охотно прячется, стоя с опущенной головой, в монотонную стародевичью изоляцию»349), ее речевую манеру («декламирует механически, искусственно»350), ее трактовку финала пьесы («однако именно она впадает в заключительном монологе в мелодраму, купается в том сентименте, который в этот вечер был полностью исключен»351). «Бесконечное пианиссимо потусторонних надежд, в которые Соня в конце спасается бегством, слишком сильно подчеркнуто»352. Одним критикам Соня Конради показалась слишком молодой, другим красивой, вопреки Чехову, третьи считали, что она добилась наибольшей удачи в попытке по-новому играть Чехова «без какого-либо следа сентиментальности», «актриса, которую взволнованно слушают и которая в этот вечер дала прозвучать интонациям, надолго запомнившимся»353. «Инге Конради изображает сдержанную, мечтательную, горестную, словом убедительную Соню (именно в стиле сдержанного реализма)», — отмечал Д. Шебештьен354. «Очень чистой и ясной на протяжении всех трех актов остается Соня Конради в своем тихом отречении»355. В ней было верно все — «и скромное мужество, и преодоленное отчаяние»356, она была «настоящим во всем человеком»357. «Ее Соня имела силу взять несчастье на себя, как жертва грядущих поколений». Об этом свидетельствовал «потрясающий, однако совсем не слезливый или трогательный заключительный монолог»358.
Александр Троян — Астров добивался большой близости замыслу Чехова, создавая образ «человека дела среди инертных мечтателей, реалиста среди фантазеров»359. Единственное критическое замечание состояло в том, что он «также хорошо может встретиться в другой пьесе»360, что «в решающее мгновение он впал в актерскую рутину»361.
Серебряков в исполнении семидесятилетнего Пауля Хоффмана представал, совсем по Томасу Манну, «нулем, убежденным в своем достоинстве», в своей гениальности, «тщеславным, чванливым профессором, пустоцветом науки, мучащим семью пустословием, лишним человеком»362. Одним из средств характеристики персонажа актер избрал «величественный речитатив», что помогло ему создать «злую карикатуру на патетического филистера и одновременно продемонстрировать возможность комедийного стиля», как считает Д. Шебештьен363. Другие критики высказывали мнение, что актер «спасается от всех соблазнов создать карикатуру» и раскрывает роль «прилично и тонко»364, что Серебряков «во всей его противности» запечатлевался средствами «очень тонкого комизма»365. Пауль Хоффман, в молодости игравший роли Мефистофеля, Яго, Франца Моора, стремившийся в должности директора Бургтеатра (1968/72 гг.) к обновлению его традиций открытиями современного реализма, образом Серебрякова сам внес вклад в актерскую трактовку чеховской пьесы.
И, наконец, Соня Суттер в роли Елены Андреевны была «милой хищницей»366, с одной стороны, «хлопоча о мелодраматическом коварном блеске»367, с другой — «верно дозируя чуждость и дистанцию по отношению к образу»368.
И в итоговой оценке спектакля прозвучало то же разноречие голосов, что и в оценке его режиссерских и актерских интерпретаций. Прозвучали скептические голоса369, голоса осторожные370, возражающие невидимому оппоненту371 и, наконец, одобряющие спектакль372. Все это неудивительно: они показали, как непросто поставить нового Чехова и осознать его актуальную новизну. Спектакль вышел за пределы премьерного успеха, он шел на сцене в течение двух лет (30.04.1972—21.04.1974) 35 раз. Предварительная его постановка была осуществлена для Театра молодежи 29 апреля 1972 г. Чеховский текст звучал в переводе Петера Урбана, опубликованном в 1973 г. в цюрихском издательстве Диогенес373.
6
Постановки «Трех сестер» на сценах венских театров до 1945 г. немногочисленны и случайны. В 1921 г. актеры МХТ показывают эту пьесу на сцене «Нойе Винер Штадттеатра»; в 1928 г. в театре «Комёди» состоялась австрийская премьера пьесы, был использован перевод Августа Шольца. Робин Роберт дебютировал в театре как режиссер. В главных ролях выступили Лотта Мосхатахер, Вера Шпакова, Фрида Шанц. Естественно, спектакль сразу же был сопоставлен со спектаклем МХТа и сравнения этого не выдержал, он не смог передать «человеческую подлинность и силу настроения драмы в той же мере»374.
28 октября 1940 г. пьеса была поставлена на сцене Театра в Йозефштадте. В то время директором театра был Хайнц Хилперт, который возглавлял еще и Дойче Театр в Берлине. Воспользовавшись заключением договоров между СССР и Германией, Хилперт позволил поставить пьесу Чехова и в Берлине и Вене, что не могло не поразить и зрителей, и немногочисленных критиков, писавших о спектакле (если можно назвать их так, поскольку театральная критика, как и критика литературная, художественная, была как таковая упразднена в фашистской Германии и в павшей жертвой аншлюса Австрии и заменена т. н. «отчетами» о спектаклях).
В программе, вышедшей к спектаклю375, были помещены фотографии Чехова вместе со Львом Толстым, Книппер-Чеховой — Машей, Германовой — Ольгой, Кржижановской — Ириной, находившиеся в Театральной коллекции Национальной библиотеки Вены, помещены были также театральный рассказ «Скандал» в переводе Рихарда Хоффмана из сборника «Хмурые люди», вышедшего в 1924 г. в Вене, статья о творческой и сценической истории пьесы из книги Нины Андрониковой-Тумановой «Антон Чехов»376, изданной в 1937 г. в Лондоне. Критики были в полном замешательстве: «Выдержать пьесу можно лишь благодаря превосходному представлению», — писал анонимный критик журнала «Тонфильм, Театр, Танц»377; «Почему пьеса Чехова снова пришла на сцену? — вопрошал другой, и давал поистине анекдотический ответ: — Чтобы показать нам, что за актеров имеем мы в Йозерштадте»378. В распоряжении режиссера Ханса Тимига были такие выдающиеся исполнители, как Паула Веселы — Маша, Герда Маурус — Ольга, Винни Маркус — Ирина, Рудольф Штайнбёк — Тузенбах, а также Вильма Дешингер, Антон Эрдхофер, Эрик Фрай, Ханс Хольт. В спектакле господствовало меланхолическое настроение. Его передавали и декорации Отто Нидермозера, из которых особенно впечатляло в четвертом акте занимавшее значительную часть сценического пространства большею дерево с буйно разросшимися ветвями над домом с террасой.
После второй мировой войны «Три сестры» вновь пришли на сцену «Винер Фолькстеатер» в 1956 г. Режиссер Петр Шаров изложил в связи со спектаклем свою концепцию творчества писателя. «Антона Павловича Чехова я считаю — и не только в масштабах русской литературы — неповторимым и единственным в своем роде явлением. Поэт сегодня оценен, признан и по заслугам удостоен во всем мире. Могу лишь добавить, что, по моему мнению, тайная сила Чехова, который как художник и человек был одинаково чудесным, заключалась прежде всего в его независимом духе и в его воле к правде, которые позволяли ему почувствовать величайшие глубины жизни, без чего не может быть истинного поэта, творца. К тому же у Чехова, мастера слова, — простота и точность поэтического выражения. Благодаря им он оказывается настоящим продолжателем Пушкина и Лермонтова». Особенно настоятельно Шаров утверждал идею оптимизма Чехова, вступая в открытый спор с традиционным западным толкованием русского писателя. «Существо и вся природа Чехова излучают постоянно радость и оптимизм, и это отражается ясно в его рассказах и театральных пьесах. Когда мы, русские, говорим или думаем о нем, мы улыбаемся <...> Сам я Чехова лично не знал. Лишь однажды, еще учеником Московского Художественного театра, я мог тайно наблюдать за ним во время репетиции «Вишневого сада» и слышал, как он смеялся, глядя на импровизацию актера. Для русских непонятно, почему Чехова в Европе всегда неверно понимали и считали его пессимистом. Из-за этого особенно его театральные пьесы интерпретировали неверно <...> Чехов стал понятием мировой литературы, а его слава еще значительнее, благодаря тому, что мы все еще мечтаем о прекрасном и ищем лучшей жизни. И я переживаю радость и счастье, ибо я слышал его смех!»379
Следование Венского Народного театра традиции Станиславского передовая австрийская критика оценивала положительно. «Три сестры» в Народном театре — реалистический Чехов, почти скалькированный в гриме и декорациях по образцу мастера. То, что стало возможным столь доподлинно и живо воссоздать тот спектакль 1901 г. <...> — это для Вены — событие и урок», — писал критик «Фольксштимме». «Проникновением в национальный характер чеховской драматургии спектакль обязан П. Шарову, режиссеру школы Станиславского»380.
Несомненно, на оценку «Трех сестер» критиками не могла не повлиять шаровская концепция оптимистического Чехова. «Оптимистическая пьеса на мрачном фоне», — писал о спектакле Кауэр381. Западногерманский критик Вальтер Венцель, замечая, что «очень многое должно еще измениться, пока жизнь на этом свете обретет смысл для всех», с безапелляционной категоричностью заявлял, что «Три сестры» — «это пролог русского большевизма, и отрицать это может лишь совсем близорукий. Здесь у Чехова, где никто не говорит о партийной политике, мы близки к истокам русского переворота»382. Такое прямолинейное навязывание чеховской драматургии тенденций, совершенно ей чуждых, искусственная ее «политизация» предпринимались, впрочем, и в 70-е годы (см. выше истолкование «Дяди Вани»), однако мало содействовали подлинному понимаю пьес писателя.
Представление о пьесе как произведении эпическом, не драматическом, натуралистически-импрессионистическом, а не реалистическом, встречающееся у австрийских критиков, выразил О.Б. (Отто Брейха?) в рецензии, опубликованной в «Нойес Эстеррайх»: «Это широкое повествование, русский роман, перешедший на сцену, катящий свои воды, ленивый, серый поток. Кажется, вода еле движется, берег полог и расплывается вдали. Поток отражает землю и небо: редкие группы деревьев, облака, звезды. Отражение усиливает впечатление неподвижности — это всегда та же самая картина». И далее: «Пьеса — острая, без ретуши, фотография общества и жизни в небольшом русском городке рубежа веков. Это натурализм чистейшей воды, с импрессионистическими чертами и переходами. Все это оказывает очень поэтическое воздействие, и в каждом слове видно, что написано это гениальным поэтом — великим рассказчиком, не драматургом»383. Такое объяснение мало что объясняло, а вопросы оставались. «Откуда исходит огромное воздействие, которого Чехов, этот антидраматург, достиг в последнее время в Америке, а также в недавних сезонах в Париже? Что может сотворить на подмостках такая пьеса, как «Три сестры», в которой вообще ничего не происходит? А ведь это произведение, написанное вопреки опыту театра со времен античности!»384 Поставивший эти вопросы критик К.М. Гримме не в состоянии дать ответа на них.
Режиссерский метод и стиль П. Шарова получил следующее, довольно подробное описание: «П. Шаров ставит спектакль в темпе замедленной съемки. Он дает не собранность и сконцентрированность, но расширение, даже протяженность (вспомним о вневременной широте русского ландшафта). Нерусский режиссер и заведующий репертуаром извлек бы самое существенное, удалил бы все несущественное. Для Шарова же важно каждое слово Чехова, как самое святое — он все разыгрывает широко и «повествовательно», доминируют душевная среда и панорама, атмосфера, в особенности в чудесно сыгранной (с музыкой) волшебно-магической сцене, когда в сумерках появляются маски животных и, хихикая, исчезают. Шаров — выдающийся деятель театра старой русской школы, и было интересно и поучительно после многих лет снова познакомиться с Чеховым, верным партитуре, подлинным, сыгранным в манере Станиславского. Краткие, сжатые редакции западноевропейских режиссеров нам, конечно, милее. Они оставляют сильное впечатление (вспомним мастерскую постановку «Чайки» Бертольдта Фиртеля), не калеча при этом Чехова и не синкопируя его спокойную, задумчивую мелодию»385.
Даже у критиков, которые в основном принимали концепцию «оптимистического» Чехова, сам характер их размышлений свидетельствовал о том, что такое прочтение Чехова не было им душевно близко, хотя они и могли принять его сознательно, чисто умозрительно. «Такой взгляд может быть многократно подтвержден фактами его жизни и творчества, не только постановкой Шаровым «Трех сестер». Среди безотрадности рождаются скупые слова о счастье грядущих поколений, однако сами персонажи на сцене, образы, с которыми во многом идентифицируются зрители, предстают как нечто иное, как боль. Страдание и отречение. Взгляд, обращенный к небесно-голубому будущему, которое иногда приоткрывается в непроницаемом облаке судьбы, позволяет ощутить современное состояние как еще более невыносимое, ибо нет ничего ужаснее, чем эта разочарованность и надежда на неизвестность»386. «Единственное развитие, которое изобразил Антон Чехов, — от надежды на самого себя к надежде на грядущее, — подводит итоги К. Каль. — Единственное оптимистическое признание, которое Чехов предлагает посетителю театра, — признание в том, что все это не должно оставаться таким, каким оно есть». И вывод: «Однако этот поблекший от времени «оптимизм» не укрепил и не поднял дух ни у кого»387.
Иными критиками смех Чехова воспринимался сквозь призму «черного юмора», все более укреплявшегося в послевоенной литературе. «Чехов представляет для русских людей эту безнадежность серой жизни на сером фоне с юмором; для западного европейца это — юмор с отрицательным оттенком», — пишет Р.Х. (Рихард Хоффман?)388.
В резко отстраненном, неприглядном свете представали в глазах рецензентов персонажи чеховской пьесы, совершенно тем самым исключавшие у них доброе отношение к себе. «Место действия, — пишет Р.Х., — скучный уездный русский город (у Чехова губернский, см. XIII, 118. — Е.Н.), духовная пустыня, кладбище живых трупов». «Сплошь мечтатели, фантасты, пьяницы, глупцы, лентяи, лодыри, загубленные жизни, несчастные, маленькие души. Они постоянно говорят о работе, о светлом будущем, однако никто не работает. Ничегонеделание как форма и содержание жизни. Сплошная обломовщина. (В пьесе много пьют и изобильно всхлипывают. А также много и довольно туманно философствуют)», — таков чеховский мир в глазах О.Б.389 «С совершенством обрисовано здесь внутреннее лишенное всякой опоры общество, которое сохраняется уже более для вида, — пишет К.М. Гримме. — Возникают совершенные образы персонажей, которые сами в случайно сказанных словах разоблачают свою сущность. Этот мастерский натурализм прозрачен. Писатель проявляет себя в незначительном. Меня восхищает все это, однако я устал после второго часа игры. Отсутствует увлекающая сила, ведущая проблема. Те, кто хотел бы мечтать, ведомые писателем, особенно ценят Чехова. И их немало в наше механизированное время»390.
«Выдающимся триединством» (по словам Венцеля) были в Народном театре исполнительницы ролей трех сестер Элизабет Эпп, Марта Вальнер и Мария Урбан. Это были «три женские жизни, которые не осуществились; существования, которые не подтвердились; судьбы, с самого рождения отмеченные фатумом. Их трансцендентность, их отказ от жизни имеют музыкальный симптом; музыка Шопена, Чайковского, народная песня и хор с пляской, даже тривиальный военный марш — глубиннейшие уходы этих людей. Чехов дает русскую душу в материализации внутренней музыки, построенной на контрапункте трех сестер — любви. Любовь ко всему — тональность Moll»391. Актрисы «смогли уже в первые десять минут (которые соответствуют одной странице текста) сделать зримым, стоя друг против друга, рядом друг с другом, что они сестры, из одной семьи. Сердечны и нежны друг к другу. Несказанно далеки друг от друга. Совершенно одиноки»392.
В исполнении Элизабет Эпп Ольга, учительница по профессии, приходила в отчаяние от низости, равнодушия своего окружения; преждевременно постаревшая, без мужа и без перспектив на замужество, самая тихая, смиренная, скромная, терпеливая среди них. Это была «anima pia et Candida*, истинно христианская душа»393; внутренне сдержанная, она оказывалась внутренне самой богатой из сестер, раскрытая с помощью тончайших душевных светотеней и тонов; именно она, разочарованная, усталая, была самой решительной, не дающей судьбе разбить ее, верующей и убеждающей представительницей новой надежды.
Маша в исполнении Марты Вальнер представала как женщина с большой, страстной, мечтательной душой (роскошная, чувственная, она напоминала одному из критиков Грушеньку Достоевского), она возвышалась до строптивого протеста, расточая свою любовь вечно философствующему Вершинину. Игру Вальнер критики оценивали как «великое достижение»; «помимо внутренней интенсивности переживаний и динамического излучения, высочайший художественный ранг — проникновение в национальное и подлинность в человеческом», как явление «незабываемое» — «настолько она подлиннее, человечнее, проблематичнее, чем была в свое время в Бургтеатре Веселы»394.
Ирина Марии Урбан — впечатлительна, нежна и хрупка, ей не позволено даже скромное счастье, свой путь она находит в труде.
Харри Фусс (Андрей Прозоров) оказывал сильное воздействие, выявляя всю полноту признаков моральной болезни. Наталья Ивановна — в исполнении Хилде Сохор — мещанка, выскочка, пошлая, низкая, грубая, способная любого припереть к стене, рядом с благородными образами старого общества оставляла гнетущее впечатление.
Виктор Гшмайдлер, исполняя роль Кулыгина, рисовал слабовольного человека и неврастеника, довольствующегося философией «ничево», своим убогим, смешным существованием, демонстрировал «психопатологический трагикомизм (таков юмор Чехова) рогатого супруга»395. Воинствующе философствующий фантаст в мундире полковника — Вершинин, сыгранный Отто Вегерером, оценивался как совершенное исполнение чеховского персонажа. Йозеф Хендрикс с чрезвычайной тонкостью и двойственностью рисовал образ по-смешному неловкого, нежизнеспособного барона Тузенбаха как, может быть, самый близкий писателю образ. Теодор Григ играл смертельно-печального, сварливо сердечного, трогательного полкового врача Чебутыкина, представляя его в двойном свете трагического и гротескного.
Декорации Отто Нидермозера, с занавесями, рюшами и плюшевой мебелью, пытались передать атмосферу умирающего века, были исполнены настроения, исторически верны, как и костюмы Макси Чунко, верные, вплоть до последней пуговицы на мундире. Они поддержали П. Шарова в его стремлении к подлинности стиля, подчеркнули обстоятельность инсценировки, замечательно хорошо передали окружающий героев мир.
На сцене Народного театра пьеса шла в новом переводе Лео Ботаса, обработанного для театра Ирене Ронге, — «единственная новая венская постановка Чехова, в которой ни один критик не нашел недостатков перевода»396.
Этот четырехчасовой спектакль имел огромный успех. В 1957 г. он был показан на гастролях в Гамбурге и на Рурском фестивале в Реклингхаузене, став его высшим достижением и «чистой и большой победой реалистического, исполненного настроения, слегка меланхолического, однако все же указывающего в будущее театрального искусства»397. Этот спектакль вошел в историю немецкоязычного театра как «первая по-настоящему успешная постановка «Трех сестер»», как «может быть, самая прекрасная среди традиционных постановок Чехова»398.
«Непоколебимый, как большая, редкая удача, просветленная также благодаря дистанции времени, встает в памяти передо мной образцовый спектакль «Трех сестер»: Петр Шаров поставил их двадцать лет назад в Народном театре, — писал Пауль Блаха. — Ни одна из последующих интерпретаций не сравнится с ней: и вызвавшая большое внимание версия Рудольфа Нёльте (умная, аналитическая, неруссифицированная) указывает другие пути, однако не лучшие. Со среды есть снова «Три сестры», которые воспринимаются вместе с легендой о Шарове (которая была легендой о Станиславском). Это «Три сестры» Отто Шенка в Академитеатр»399. Премьера состоялась в июне 1976 года.
Чем была примечательна новая интерпретация чеховских «Трех сестер»? Для ряда критиков пьеса важна была как «картина уходящего общества», «уже утратившего какой-либо смысл»400, как картина «предреволюционной летаргии общества, которое уже ничего не могло поделать с собой, отчаянного бегства от давящей узости провинциального русского города, который лишь благодаря военному гарнизону обретает мишурный блеск, краха всех иллюзий, всех ожиданий, всех человеческих связей»401. Эта пьеса кануна русской революции 1905 г. тем не менее оценивалась критиками как «истинно русская пьеса — по отношению ко времени и жизни, была увидена таковой и по отношению к судьбе, которой подчиняются, когда не могут овладеть ею»402. Ведь Чехов в ней «большую человеческую тоску воплощает в славянской тоске»403. Какими же кажутся чеховские герои критикам? «Все они одиноки, несчастливы и живут мимо своего существования: то в воспоминаниях, то в неисполнившихся страстных желаниях. В доме Прозоровых празднуются день рождения и масленица, однако каждый праздник лишь пролог к новому несчастью. Большой пожар, отъезд военных из провинциального города увеличивают еще больше пустоту в жизни трех сестер, заставляют растаять их последние надежды. В пьесе Антона Чехова нет веселых людей, нет счастья. Она отражает умирающую эпоху. В драме почти нет действия, в четырех актах тихое нарастание отчаяния»404. «Они стоят беспомощно на краю жизни, люди в «Трех сестрах» Чехова <...> Они живут воспоминаниями и мечтами о будущем, неспособные действовать, осуществить свои мечты, придать форму своей жизни. Что-то от этой парализованности, этого бессилия и в инсценировке Отто Шенка в Академитеатр. Лишь когда происходит познание крушения, когда открыто прорывается отчаяние, спектакль обретает плотность, интенсивность и завершенность, из вечера прекрасных моментов получается необычный, трогательный вечер»405. «От акта к акту усиливается тональность moll, прежде чем история закончится полной безнадежностью. Все это мастерски сформировано Шенком»406. И этот мертвый, беспросветный мир приписан Чехову, как приписана чеховским героям позиция стоицизма как единственно достойная человека: «Они живут, живут реально, странствуют, удивляясь, импровизируя каждое мгновение, стремясь из хаоса в порядок и снова попадая в хаос, поднимаясь затем к собственному Я, — такими создал их Антон Чехов и теперь представил на сцене Отто Шенк»407 — пишет Д. Шебештьен. Кажется, больше всего критиков занимала проблема: чеховские герои и время, изживание времени их жизни в трехмерности и слиянности прошлого, настоящего и будущего. Тот же Шебештьен, утверждавший, что чеховские герои живут реально, замечает: «Загадочная реальность всех этих образов с увлекательной силой заклинивается на грани жизни и мечты»408.
Однако этот спектакль ценен был тем, что в нем появлялись новые для австрийского театра ноты в истолковании Чехова, позволившие такому критику, как Ульф Бирбаумер, увидеть в О. Шенке «своего рода венского Станиславского, который, как и мастер Московского Художественного театра, познал, что эти люди не только влачат повсюду за собой свою боль, но, напротив, ищут веселости, смеха и окрыленности; они хотят жить, а не вести растительное существование. В этих «Трех сестрах» имеют место не только грусть, отречение, тоска и меланхолия, но и юмор и смех. При всей скуке, при всей склонности к безделью, к ощущению ненужности, диагностирует д-р Чехов волю к труду, к жизни и к любви. По меньшей мере тоску по ним; Тоску по изменению, символом чего является Москва, Москва детства. Светлая пьеса, потому что здесь звучит не только мелодия элегического прощания и тщетного стремления к счастью <...> Бодрая музыка, Москва — это намного конкретнее, чем могли знать сестры»409.
Это была постановка, которая удивительным образом в глазах одних критиков (Гупперта) сближала Шенка со Станиславским, а других (Шебештьена) — отдаляла его от русского режиссера.
Было ли истолкованием пьесы Чехова Отто Шенком осуществлено в натуралистически-веристском духе, как об этом говорил в своей рецензии Фриц Вальден: «Отто Шенк инсценировал пьесу в том стиле веризма, в котором каждое движение, каждый взгляд и каждый жест, каждая пауза и каждый шорох должны подчиняться лишенному сострадания колесному передаточному механизму роковой причинности, прежде чем из него высвободится слово поэта, которое потребует нашего сочувствия»410. Спектакль вряд ли давал основания для подтверждения модной в 70-е годы концепции «жестокого» Чехова с его якобы фаталистически бесчувственным детерминизмом, неумолимой и безысходной зависимостью всех проявлений человеческого духа от лежащих вне человека сил. И сам образ Чехова, высвобождающегося с помощью поэтического слова из пут этой безрадостной и бесчеловечной причинности и ждущего сочувствия к своему слову, — что может сказать современности этот стилизованный под д'аннунцианский модернизм образ Чехова, как далеко он уводит от подлинной сути писателя!
В истолковании пьесы главенствовал тончайший аналитический психологический метод режиссера. Для Пауля Блахи О. Шенк, заявивший о себе в постановке пьес Шекспира как интерпретатор жизненного, энергичного, интеллектуального начала в театре, социального сочувствия (в постановке австрийского драматурга Эдена фон Хорвата) в своем первом опыте интерпретации Чехова «обнаруживает себя как режиссер сложных душевных ситуаций»411. «Отто Шенк, реалист, родовспомогатель психологической правды, точный аналитик реальной жизни, нигде не склоняется к расплывчатому символизму, он ведет актеров к наиболее возможной естественности: каждое действие, каждое движение, каждый перелом мотивированы, исходя из души, из поведения персонажей», — утверждал Ульф Бирбаумер412.
Этот преимущественно психологический метод прочтения пьесы Чехова имел наряду со многими достоинствами, быть может, и некоторые издержки: оптимистическое звучание пьесы, по мнению Гупперта, оказывалось приглушенным, даже элиминированным в финале. Однако Пауль Блаха, напротив, увидел в спектакле не только страдания чеховских героев, но и их оптимистическую веру в будущее, «их веру в светлую, новую, трудовую жизнь как нечто само собой разумеющееся, совсем естественное»413.
Сильной стороной спектакля являлся характерный для Бургтеатра актерский ансамбль. «Персонажи играют, как в оркестре, из которого звучит то один, то другой голос»414. Критики особо выделили прежде всего исполнительниц ролей сестер. «Совершенное сценическое олицетворение Ольги Элизабет Орт, Маши Гертрауд Йессенер и Ирины недавно открытой Йозефины Платт», — отмечал Г. Гупперт415.
Ольга в изображении Элизабет Орт выглядела сдержанной, сильной в своих чувствах, исполненной теплой человечности. Она представала в спектакле как самый скромный и трогательный образ. Непривлекательная внешне, замученная, смертельно усталая женщина, «учительница, изгнанная из нереализованной женственности в нелюбимую профессиональную карьеру. Э. Орт изображала этот переход с гнетущей подлинностью»416. Она раньше всех покорялась судьбе, но и могла «освободиться от своего просветленного отречения в любое мгновение»417.
Гертрауд Йессенер в роли Маши была впечатляюща в своей необычайно интенсивной и выразительной лихорадочной импульсивности. Ведущая бездумное существование, разочарованная и полная отвращения к своему браку, она стремится к любви как к последней возможности спасения. Эту жажду любви Маши и ее трагический исход Гертрауд Йессенер давала почувствовать уже при первом прикосновении руки Вершинина в мастерски аранжированной сцене у пианино. Погружаясь в любовь, она расцветает. Прощание с Вершининым приводит в смятение все ее чувства. «С трудом сохраняя силы, почти оцепенев, стоит она против любимого под буками. Из этого колеблющегося постоянно между депрессией и задором существа вырывается крик, точно вырвана вся ее жизнь из тела»418. «Ее горячий протест в конце, когда любимый должен уехать, проявляется, как бурная гроза, и проходит, впрочем, так же быстро, как гроза»419. Теряя близкого ей человека, с отчаянием погружается она в свою боль, вплоть до самоотречения, когда из мира мук можно перейти в мир безумия.
Ирина Йозефины Платт, тогдашней «новой звезды, надежды театра»420, тихая, рано созревшая, предвидящая несчастье, обладала волшебством юности и ее верой, волей к жизни. «Сурово привлекательная, она твердо стоит на колеблющейся почве»421, «самая искренняя из чеховских персонажей, в которой экзальтация и отречение живут рядом друг с другом»422, она оставляла впечатление, что «однажды сможет поехать в Москву, в город, в полную смысла жизнь»423.
«Трем сестрам Сильвия Лукан противопоставляла характерную Наталью»424, «единственную, которая берет себе все, что она хочет»425, «эволюционируя от терпеливо посторонней до тирана семьи»426. С. Лукан в роли Наташи показалась Ф. Вальдену поразительной еще и потому, что вызывала острое сочувствие к прислуге, которую терроризирует и «от которой постоянно ощущает угрозу своему инстинкту собственницы»427.
Критики выделяли также великолепный «окружающий сестер мужской мир»428. Это был «печальный, глядящий в далекое будущее Вершинин — Клаусюрген Вуссов; не сердцеед, не галантный офицер, но очень мягкий, очень порядочный человек»429. Это был впечатлительно-мечтательный, совершенно несентиментальный, почти сухо-ироничный Тузенбах Вольфганга Хюбша, сыгравшего потрясающую сцену прощания, давшего зрителю ощутить «ужасную неуверенность хрупкого, принесенного в жертву смерти молодого человека»430. Это был Йоганнес Шауэр — Чебутыкин, «военный врач, потопивший свою гиппократову клятву в алкоголе»431, тихий, углубленный в себя, мечтательный, когда-то веселый философ, теперь погрузившийся в добродушное мудрствование. Это был и Курт Совинетц — учитель Кулыгин, чья безграничная супружеская любовь, хотя и не согревает, но все извиняет, чья «печальная глуповатость усилена до захватывающей трагикомедии»432.
«На долю самого старшего поколения Бургтеатра достались два великолепных чеховских персонажа»433. Это было «чудо Адриенны Гесснер как беспомощной смиренной седой няни и Филиппа Цески как старого сторожа, который благодаря своей глухоте лишь один не горюет, потому что он уже не понимает мира»434, — таковы для Ф. Вальдена «два великих старика театра — переполненные добротой, смиренно служащие души из простого, теплого, уютного мира»435. Однако, по свидетельству У. Бирбаумера, эти персонажи были не только умилительны в своей смиренной скромности. Это были «трогательно беспомощная и одновременно почти агрессивно обвиняющая бедная Анфиса Адриенны Гесснер. Филипп Цеска — почти глухой и все же всезнающий сторож Ферапонт»436.
В художественном оформлении спектакля (декорации Рольфа Глиттенберга) критики особо выделяли осенний сад последнего акта, задний фасад дома сестер с летними тенистыми деревьями, великолепными красными буками, вызвавшими аплодисменты, залитый ярким солнечным светом парк. Декорации Р. Глиттенберга, писал Г. Гупперт, «постигают и истолковывают очень метко сценический лиризм Чехова и оригинальность построения его драматургии»437. О том, какую концептуальность несла в себе сценография спектакля, сказал Ульф Бирбаумер: «Глиттенберг загораживает пространство, позволяет ему «зарастать» мебелью и кустарниками бука. Он сужает эмоции, не оставляет чувствам никакого вольного пространства, рисуя al fresco**. И даже искусная режиссура света не может передать глубину пространства так, как его впечатляюще показывали Нёльте или Крейча. Очень широкая, но мелкая сцена Академитеатра препятствует во всяком случае этому»438.
Итак, критика оценила постановку О. Шенка как значительное явление искусства, имевшее заслуженный успех.
7
Впервые «Вишневый сад» был поставлен в Вене 12 октября 1916 г. в театре «Нойе Винер Бюне» его директором Эмилем Гайером. Это была первая постановка пьесы в странах немецкого языка. Спектакль готовился с большой тщательностью. Как отмечал рецензент «Нойе Фрайе Прессе», на него было затрачено «немало усилий и труда, художественной воли и пчелиного усердия, однако чувствуешь себя весьма пристыженно, что не можешь хвалить безоговорочно, как охотно сделал бы это»439. «Вишневый сад» выглядел в глазах рецензента этой газеты символом «старой России, уже давно одряхлевшей, обремененной воздушными мечтами о весне, кратковременной в суровом климате страны»440. В спектакле вишневый сад, точно живой человек, сплетался с образами обитателей имения, они были связаны друг с другом, взаимоотражались друг в друге: «Цветущие вишневые деревья заглядывают в высокие окна, наблюдая, как госпожа Раневская после долгого отсутствия возвращается домой, чтобы снова найти себя <...> И старые вишневые деревья в саду, точно люди, — они принадлежат имению и их характеры имеют нечто причудливо связующее и разветвленное». И нерасторжимым единством судьбы были связаны вишневый сад и его владельцы: «Вишневые деревья будут срублены, выкорчеваны, как все люди, которые стоят рядом друг с другом и которых объединяет одно — мечта о весеннем цветении вишен вопреки климату, в котором они живут». Венский театр вычитывал в пьесе Чехова близкую ему меланхолическую мелодию прощания с уходящей эпохой. ««Вишневый сад», — писал рецензент «Ди Цайт», — исполнен задушевно пылкой, болезненно мучительной любви к старой, борющейся за освобождение от самой себя России, влюбленной в саму себя и столь несказанно страдающей от самой себя»441. Это был спектакль «без ощущения специфики русского настроения». И «картина жизни обедневших благородных людей <...> их слуг и соседей, нежно оттененная и нарисованная нежнейшими психологическими красками», как характеризовал ее Альфред Польгар442, была, несомненно, близка австрийцам.
Это ощущение уходящей эпохи, способ раскрытия судеб чеховских героев соответствовали видению мира в австрийском искусстве начала века: «Все это набросано очень тонко, прозрачными, небольшими, тонкими штрихами и все же столь точно, что рисунок можно проверить, посыпав его мукой: мучная русская миниатюрная живопись»443.
Этот импрессионизм в понимании Чехова имел и свою оборотную сторону. На пути постижения чеховского драматизма австрийскому театру пришлось преодолевать немалые препятствия. В пьесе находили «отсутствие драматизма»444, «единого драматического движения»445, пьесу даже оценивали как «драму для чтения в истинном смысле слова»446. Ошибку спектакля критики видели в том, что в нем был «драматизирован вишневый сад, стало быть, настроение». Оно «преобладало вплоть до пресыщения, каждая фраза нагружена настроением, неясные фигуры чистого настроения вращаются вокруг друг друга вместо того, чтобы знакомиться друг с другом, растворяя красочность сцен в сером цвете»447. Это исключительное следование одной из граней театрального новаторства МХТа будет продолжено затем во множестве постановок «Вишневого сада» и других чеховских пьес на немецком языке, где будет абсолютизироваться изолированность героев, погруженных волей режиссеров целиком и полностью в свои настроения. «Публика взята в плен с самого начала своеобразным настроением, затем она устает от этого настроения, и многие не стали дожидаться, когда топоры застучат по стволам вишневого сада. И все же эта сцена была весьма впечатляющей»448. «Это здесь представлено, конечно, не очень развлекательно, однако столь захватывающе освещено, что ставший нетерпеливым зритель в конце концов все же чувствует, что потерял вечер у великого писателя»449. Публика вела себя на протяжении всего спектакля в разные моменты по-разному. «Утомляет постоянный недостаток чего-то и усиление, интенсивное развитие; однотонные сумерки, что плавают вокруг людей и вещей, действуют наркотически», — утверждал А. Польгар450.
Рецензенты выделяли исполнителей двух ролей — Раневской и Лопахина. Эллен Нойштедтер «представляла помещицу, живущую в Париже. Превосходная во всем духовном и интеллектуальном, она не справлялась там, где речь идет об элегантном и общепринятом»451. Лопахин, по Польгару, в исполнении Эрнста Шталь-Нахбаура был весьма «живой фигурой, олицетворявшей крестьянина-силача»452.
Отметив, что из сценических произведений Чехова на немецких сценах имела прочный успех только одноактная пьеса «Медведь», рецензент «Ди Цайт» писал, что лишь с чеховскими спектаклями МХТа «перед нами предстало художественное откровение сдержанной драматической силы, которое скрывалось, за казалось бы, лишенными действия описаниями. В свое время весь Берлин был полон разговоров о драматической мощи пауз в «Дяде Ване», поставленном Станиславским». Этот впечатляющий опыт русского режиссера и пытались воплотить в спектакле венского театра. Достаточно было вспомнить об ироническом замечании Польгара в связи с широко разыгранными паузами: «Каждая драгоценная минута длится драгоценную четверть часа»453.
31 января 1927 г. «Вишневый сад» был поставлен на «Литературной сцене» венского «Союза по содействию литературно-драматическому искусству» в театральном зале «Пан» в Римергассе. В критике он не нашел почти отклика, поскольку это был «внутренний» спектакль, на котором, впрочем, присутствовал, как сообщила официальная «Нойе Фрайе Прессе», федеративный президент Хайниш. Пьеса давалась в переводе Рихарда Хоффмана, в «тщательно нюансированной режиссуре» Рудольфа Р. Ринского. Рецензент «Нойе Фрайе Прессе» исходил в оценке пьесы из мифических представлений о «русском человеке», который для него немыслим был без мечтательно-мистического: ««Вишневый сад» обнажает это меланхолически русское настроение и в нем расцветает та душевная нежность, которая так редкостно контрастирует с известной смутностью и быстро вспыхивающей порывистостью русской души»454. В этом спектакле вишневый сад символизировал «матушку Русь, которая может омолодиться, однако не может освободиться от древних воспоминаний». Исторический смысл и значение пьесы представали для рецензента поэтически-загадочными, расплывчатыми: «В том, что колеблется между сценами, в связи вещей и людей и великого тайного мирового целого, которое здесь просвечивает, исполненное предчувствий, обнаруживается одновременно поэтическое и национальное начало этого своеобразнейшего произведения». Рецензент считал, что «можно и должно добиться воздействия, каким обладали русские во время их гастролей в Вене, играя в нежной и очень деликатной манере», и что «как раз это и удалось «Литературной сцене»». Режиссер пошел по пути создания «завершенно простых сценических картин», ансамблевой игры. В ансамбле отмечены исполнительница роли Раневской Колар-Кластерски, представлявшая «русскую помещицу с любезным очарованием той внешней и внутренней грации светской дамы, которая при этом кажется еще сама приглушает — в стиле целого — театральный наигрыш»; дополняла ее Аня (Пфейффер) «привлекательнейшей, искренней, девичьей, нерутинной задушевностью», Варя (Миклозих), которая «вызывала интерес своей симпатией, прочувствованной суровостью».
18 апреля 1948 г. состоялась премьера «Вишневого сада» в «Театре в Йозефштадте». Это было нелегкое для австрийского театра время, и рецензент «Эстеррайхише Фольксштимме» отметил как достоинство театра обращение к «одной из самых тонких и ценнейших пьес мировой литературы», к столь сложной по содержанию и форме пьесе, как «Вишневый сад», и его доверие к публике в то время, как «многие директора пытались преодолеть кризис театра с помощью «проходного» репертуара»455.
В характеристике Чехова как «великого русского реалиста и фанатика правды 80-х годов, неумолимого борца против филистерства, бюрократизма и общественной лжи, непоколебимого пророка лучшего будущего», в характеристике «Вишневого сада» как изображения «конца русской феодальной системы», «предчувствия и жажды новой России, чей вишневый сад — ее богатство — принадлежит народу», — в этой «картине русских отношений в конце XIX в.» — намечен ясно выраженный исторический, социологический подход, очевидно, не без влияния советского чеховедения того времени.
Характеризуя «драматическую манеру» Чехова как чередование трагикомедии и нежнейшей лирики, выявление внутреннего переживания, которое требует от актера способности с большой полнотой проникнуть в свою роль, рецензент выделяет в ней как главное метод изображения человека. Это «всегда и прежде всего люди раздвоенные, полные противоречий, смешные вплоть до гротеска, беспомощные в жизни <...> Взгляд, отдельный жест выдает часто всю их судьбу, немая сцена говорит больше, чем иное слово. Это придает своеобразную привлекательность пьесе, в которой утверждающее начало, несмотря на меланхолию, является решающим».
Однако как раз «оптимистическое начало и вера в будущее» слишком мало были разработаны в постановке Макса Кальбека, несмотря на сцены «непосредственного и сильного воздействия». Рецензент отмечал, что спектакль имел успех благодаря замечательным изобразительным достижениям таких актеров, как Дагни Сераес (Раневская), Аглая Шмид (Аня), Карл Цехелл (Петя), Густав Вальдау (Фирс), особо выделив Карла Парилу, который «создал из Лопахина мастерскую картину характера».
Через двенадцать лет спектакль был поставлен в год столетия со дня рождения А.П. Чехова на сцене Академитеатр в режиссуре Йозефа Гилена456.
Пьеса в этом спектакле прочитывалась прежде всего как отражение истории. В изображении Гилена возникала «нежная пастельная картина предреволюционной России». «За сценой в конце звучат удары топора, думается об увесистых ударах топора великой русской революции. Однако у Чехова есть лишь неопределенное предчувствие будущего»457.
Рецензент «Фольксштимме» указывал на необходимость многомерного подхода к раскрытию концепции истории у Чехова. «То, что Чехов, что живая русская интеллигенция 1900 г. ожидали, на что надеялись и чего требовали от будущего, не может быть выражено однозначно»458.
Для такого же критика, как Эдвин Роллетт привлекательным было в данной постановке то, что «все обольстительное волшебство старого стиля жизни класса помещиков, которые теперь скорее вяло ожидают своего конца, освещено еще раз»459.
«Вишневый сад» представлял безмолвие умирающего старого мира. «Много тишины заключено в этой пьесе, — писал Пауль Блаха. — Три часа тишины, три часа сумерек, бренности и расслабленности. Солнце всходит и солнце заходит, лепестки цветов падают бесшумно, и надежды исчезают безвозвратно, и горстка людей, горстка провинциальных «господ», уступает бездеятельно. Три часа угасания старого времени. Рапсодия упадка, симфония безнадежности и слабости, это — все. Просто живая картина, полотно меланхолии, остановка любого действия. Публика однако тихо сидит на стульях, сцена и зрительный зал, пьеса, режиссура и актеры сплавились до того единства чувств, которое наступает очень редко. Слышно падение шпильки. Театр победил. Поэзия. Поэзия. И режиссер. И ансамбль»460.
Такая односторонняя, хотя и впечатляющая интерпретация получала у критиков обоснование, поскольку они пытались истолковать «Вишневый сад» как парадигму существования буржуазного мира и вывести отсюда успех пьесы во всем мире. Так, Хайнц Киндерманн, отметил, что «почти у всех народов временами наблюдается закат целой прежде задававшей тон группы, закат в расцвете красоты — в России это сопровождалось революциями и последовавшими за ними радикальными переворотами»461.
Йозеф Гилен, как отмечал Кауэр, «избежал искушения дешевого символизма, жертвой которого становились столь многие режиссеры, ставившие Чехова. Он также, и это должно быть подчеркнуто, отказался от того, чтобы погрузить пьесу в переперченную «экзотику» и через сверхстилизацию русского умалить ее всеобщность. Конечно, люди в «Вишневом саде» — русские, русские 1900-х годов, однако вишневые сады во всех странах — вишневые сады, а осень во всех странах — осень»462.
Исторически-социальный аспект получил в спектакле ясное раскрытие, ему режиссер отдал предпочтение перед экзистенциалистским истолкованием. «Для Йозефа Гилена <...> видимо, неважно показать парадоксальность человеческого существования. Он позволяет увидеть ее лишь мимоходом. Он поставил себе целью показать «Вишневый сад» прежде всего как драму смены времен. Исключительно как драму между уходящим миром и новым, идущим ему на смену. Благодаря этому «Вишневый сад» получает больше светлых и позитивных черт, чем прежде <...> Социальная структура нашла отчетливое выражение в инсценировке. Отчетливее, чем прежде, и без сентиментальности»463, — утверждал О.М. Фонтана. И осуществлено это было не ценой упрощения, ибо, как писал Эрик Г. Викенберг, «здесь не нужна была никакая дешевая расстановка по местам и никакое обращенное назад пророчество»464.
Исполнение роли Раневской вызвало восхищение критиков, отмечавших, что Кэте Гольд явила здесь актерское искусство высочайшей степени, что она великолепна, незаменима в этой роли, являя блестящее достижение в каждом слове и в каждом жесте, что «образ Раневской будто специально написан для нее»465. «Поскольку Чехов не знал ее (Кэте Гольд. — Е.Н.), — писал Ханс Вайгель, — стало быть роль была написана не для нее, мы должны поверить в чудо, что провидение с особой любовью сотворило Кэте Гольд исключительно, специально для того, чтобы эта роль и она постепенно все ближе и ближе подошли друг к другу, а встретившись, обрели удивительное сходство. Такое чудо, как это, нужно не анатомировать, но лишь с благодарностью зафиксировать»466. К. Гольд представляла гранд-даму, любезную, далекую от действительности, впечатлительную, ранимую; почва уходила у нее из-под ног, она терпела крушение, но ничего не меняла, не изменяла себе самой, уверенная в безупречности своего мира. «Нервное беспокойство, одиночество среди многих, окружающих ее людей, несерьезное легкомыслие и скольжение над пропастью, восклицания об утрате родины, переигрывание, а в следующее мгновение — взгляд в пустоту и тотчас любезная улыбка — актерский шедевр, поэтический и прелестный сценический образ», — писал Х. Киндерман467. «Нужно видеть этот разрушенный жизнью, при этом все еще детский облик, с ужасом раскрытые, похожие на пустые впадины глаза!» — восклицал О. Брейха. Конечно, это была венская Раневская: «вибрация русской души здесь нисколько не ощущается: не все, что Гольд — блестяще»468. В этой «парафразе из Чехова» для австрийцев заключалась и «своя собственная проблема: высокомерная беззаботность по отношению к жизни, которая проявляется вплоть до легкомысленного желания жить одним днем»469, что нашло многократное отражение в австрийской литературе.
Гаев в изображении Роберта Линднера был очаровательно бесполезен, устало небрежен в своей ненужности, иронично высокомерен. В венском Гаеве было «слишком много от бонвивана». И напоминал он больше гофмансталевского героя, чем чеховского. Актер играл русского «человека с трудным характером»470.
Лопахина играл Хайнрих Швайгер, в молодости выступавший в ролях невротических юношей, созревший теперь до характерного актера. С большой жизненной верностью и проникновенностью представлял он разбогатевшего плебея с его деловитостью и энергией, полного сил, брутального внешне и легко умиляющегося и трогательного. Тончайшая социальная характеристика автором этого образа не была понята рецензентами, увидевшими в Лопахине «нувориша»471, «маленького человека»472, «выскочку и спекулянта»473, «крестьянина», «денежного человека»474, даже «пролетария»475. Ясно, что эти определения во многом смещали акценты в образе чеховского персонажа. Лишь один из тринадцати рецензентов мог констатировать следующее: «Прелестно в изображении Швайгера то, что лучшее в Лопахине снова и снова лучезарно прорывается наружу, так что понятно, когда студент Трофимов по-братски обнимает его»476. Критики особо выделяли третий акт и сцену с Лопахиным, «которая благодаря Х. Швайгеру обретает мыслимое и желанное величие»477, сцена, в которой Лопахин «в своем неистовом торжестве пытался избежать неизбежного поражения»478. «Когда он наконец покупает вишневый сад, у нас он давным-давно завоевал бы целую лавровую рощу»479.
Ева Цилхер представляла Шарлотту Ивановну «как гувернантку, окруженную гротескным волшебством клоунского существования: номер варьете в мире Ничево»480. И эта трагикомическая фигура иллюстрировала картину заката, и она тщетно искала смысл своей жизни, выставляла напоказ свое одиночество, «враждебно демонстрируя обществу свою испорченную жизнь, не вступая в спор с этим обществом»481.
Фирс и Яша составляли в спектакле контрастное двуединство. «Среди многих контрастов этой пьесы контраст между двумя лакеями — особой важности: Михаэль Яниш, молодой, неописуемой наглости и дерзости, и Гюнтер Хенель, великолепный, похожий на призрак, смешной и тревожный одновременно, дряхлый, трогательный пережиток прошлого»482.
Трофимов никогда не выглядел на сценах австрийских театров положительным героем в полном смысле слова. Характерно суждение О.М. Фонтана: «Опустившийся студент, чьи надежды на будущее Чехов сопровождает иронией и скепсисом, становится почти плакатным возвестителем нового социального строя. Конечно, он чистый безумец. Однако то, что он безумец, мешает ясности и воспринимается чуть ли не как розыгрыш, когда Чехов позволяет ему, не занятому никаким трудом, проповедовать труд как всеисцеляющее средство»483. Утверждалось, что Чехов, возлагая надежды на предающегося праздности мечтателя-студента, которого он видел насквозь, вступал в противоречие с самим собой: «Писатель мог бы научить нас надежде, и его, как всех русских, томит страстная мистическая жажда ожидаемого с нетерпением царства справедливости, но его знание мира и людей вступают в противоречие с этой жаждой»484. Критики единодушно высоко оценивали исполнение острохарактерной роли «вечного студента» Эрихом Ауэром, который был великолепен и человечески жив в этой роли.
В представлении отдельных критиков и образ Ани раздваивался, скорее принадлежал миру прошлого, чем будущего. «Йоханна Матц играет молодую дочь Анну, и ей нельзя сделать большего комплимента, чем этот: она существует весьма правдоподобно как дочь Кэте Гольд», — писал Ханс Вайгель485, намекая на ее духовное родство с матерью. О.М. Фонтана отмечал, что актриса передавала «радость надежды и безусловность молодости. Веришь ее ясности, которую Чехов приписывает ей одной-единственной из персонажей в трагикомедии»486. Критик «Арбайтер Цайтунг» назвал ее роль «единственной сконструированной»487 в спектакле. «Единственный ошибочный компонент, капля Марлитт в бокале Чехова — Иоханна Матц как семнадцатилетняя Аня, — писал Кауэр. — Действительно нужно быть столь молодой, столь великолепно молодой, чтобы верить студенту Трофимову и его видениям»488.
Декорации Иты Максимовны в оценке критиков были вкладом в спектакль, создавали его зримую атмосферу, впечатляли, воздействуя «лирической тонкостью и переведенной в зрительный ряд меланхолической мелодией»489. И все же вишневые деревья, присутствующие во всех актах, показались такому взыскательно-придирчивому критику, как Ханс Вайгель, чрезмерностью. «Мы знали уже до того, как выглядят вишневые деревья. То, что мы смотрим через окно комнаты на вишневые деревья, — в порядке вещей. То, что деревья на протяжении всего спектакля вставлены в раму, благодаря стилизованному цветению вишен, — крайность, которую мы готовы воспринять. То, что «гостиная» третьего акта оклеена обоями с вишневыми цветами, заходит слишком далеко. То, что «поле» второго акта как таковое не узнается и ему недостает всей широты, потому что нам снова показывают, как выглядят вишневые деревья, может основательно испортить нам аппетит к этой достойной любви ягоде»490. А непримиримо настроенный к спектаклю критик «Тиролер Тагесцайтунг» считал даже, что «выразительную пьесу Чехова доконала бесцветная декорационная живопись Иты Максимовны (и невозможная обстановка комнат)»491. За исключением резко критического выступления рецензента этой газеты, спектаклю в целом давалась высокая оценка.
Спектакль, поставленный на сцене Бургтеатра в 1983 г. (премьера состоялась 27 февраля, прошло 38 представлений)492, носил явно полемический характер. В соответствии с опытом нового прочтения Чехова и в рецензиях заявлено о тех акцентах в понимании пьесы, которые до 80-х годов оставались в тени или почти не заявляли о себе. Спектакль Бургтеатра резко разделил критиков. Одни из них в категоричной форме не принимали его, другие стремились дать ему объективную оценку, тех же, кто безоговорочно мог бы принять спектакль, — не было. Столь накаленной атмосферы вокруг чеховского спектакля ни в истории Бургтеатра, ни в истории австрийского театра еще не было. Вокруг пересмотра традиционного сценического образа Чехова и его персонажей буквально кипели страсти, запальчивость которых обязывала прямо и неприкрыто выразить свое отношение к инсценировке режиссера и директора театра Ахима Беннинга. Рецензии показывают, как мучительно трудно было отказаться от заботливо взлелеянного, с величайшей художественной тщательностью культивированного в Вене элегически-меланхолического образа Чехова.
Спектакль оказался свободным от ряда наслоений и традиционных клише. «Уже то, что венский Бургтеатр теперь не интерпретирует Чехова как «русского Шницлера», не говоря уже о том, чтобы роскошествовать в «безбрежной славянской душе», — преимущество новой постановки «Вишневого сада» Ахима Беннинга»493, — писал Артур Вест. «Отменены в этом спектакле меланхолия, мировая скорбь, грусть, которые в некоторых постановках Чехова легко превращались в мелодраму», — утверждала Ева Шеффер494.
Новизна постановки Ахима Беннинга в том и состояла, что он рискнул в Вене, где традиции истолкования Чехова в духе театра настроения были особенно сильны, поставить «Вишневый сад» как «комедию, местами даже фарс». Постановка, как отмечает Артур Вест, «учитывала тот факт, что Чехов не в последнюю очередь был также творцом метких характерных юморесок, использовавшим гротескно-потешные заголовки»495. По словам Ханса Хайнца Ханля, в спектакле Беннинга царила веселость отчаяния. «Это была самая шумная постановка «Вишневого сада» с пароксизмами язвительных улыбок и оргиями криков. Актеры здесь постоянно спотыкаются и падают. Взрослые люди сидят на качелях. Царит театральность, и все сделано для того, чтобы показать, что мы смотрим комедию»496.
Справедливости ради критики вынуждены были признать, что Беннинг в шокировавшей их постановке не подменял Чехова, а исходил из текста писателя. «Беннинг позволяет персонажам буйно разрастаться, как бы экранизирует текст, однако не отклоняется от него, — констатирует Людвиг Плакольб. — Беннинг поступает последовательно и справедливо по отношению к тексту, без честолюбия дополнений и изобретений»497.
Критики еще могли принять «Вишневый сад» Беннинга как комедию, но как фарс — избави боже! «Там, где Беннинг позволяет комедии превратиться в фарс, где он думает достичь юмористического воздействия с помощью «действия», позволяя актерам по-дурацки падать, — там режиссер отрекается от пьесы», — категорически утверждал Курт Виммер498. «Все же Беннинг слишком демонстративно указывает на это (на то, что «Вишневый сад» — комедия — Е.Н.), позволяя подчеркнуть подчеркнутое, для чего подходят, однако, не все четыре акта одинаково, подавно не все персонажи. Ибо они переживают — признак действительно настоящей комедии — каждый собственную трагедию и трагедию все вместе. Комедия в том, что они (и как и почему) не выросли до трагедии <...> Не только вишневый сад, все поколение здесь вырубается, цветущие деревья и люди. Беннинг дает это отчетливо познать <...> передает трагический гротеск переживших себя», — пишет Артур Вест499, пожалуй, глубже всех критиков понявший замысел А. Беннинга.
То, что режиссер своей трактовкой включался в поиски «нового Чехова», осуществлявшиеся в 70-х — начале 80-х годов во многих странах мира, было сразу же отмечено рядом критиков. «Ахим Беннинг конденсирует множество идей, которые он сам или другие до него (Стрелер, Штайн) применяли», — отмечает К. Виммер500.
В новом прочтении Чехова важно было избежать опасности спекулятивно осовремененного подхода к нему. Как утверждает Виктор Райман, «Беннинг отказался, хотя он был близок к этому, от какой-либо дешевой актуализации (например, показать Чехова как родоначальника зеленых)»501. А от такого искушения не удержался, впрочем, один из рецензентов (Курт Виммер) наивно писавший: «И то, что тогда обозначали как предреволюционную ситуацию, может быть теперь снова. Только с другими предзнаменованиями: борьба за деревья и свободное время ведется сегодня с формулами: «зеленые» и «альтернатива»»502.
«Гигантское красное полотно вместо привычного занавеса — типичная достопримечательность этого вечера. Вместе с другими красными плотнищами окутывает оно также просцениум, панорама должна быть как бы перечеркнута, сцена приближена к зрителю. Затрата, однако, несравненно большая, чем эффект», — иронически заключает Ирмгард Штайнер503. Ну как тут не вспомнить бессмертную блоковскую старушку, сокрушавшуюся о том, что висит такой «огромный лоскут». «Превышающий огромные размеры ярко красный сценический занавес в Большом доме на Ринге устрашил иных. Однако уже после первых сцен стала ясна отрадно точная, ясно продуманная режиссерская концепция, которая очень хорошо служит писателю и включает «комедию»», — отмечала Мария Г. Викенберг504. Этот гигантский красный занавес, покрывавший все пространство сцены, ниспадавший косо в зрительный зал, изымая из обращения первые четыре ряда, уже один не мог не привести в неописуемое возбуждение, прямо-таки ярость иных критиков. Куда ведь как привычнее был бы белый цвет, ведь по традиции вишневый сад ассоциировался с белым, сплошным белым садом, с дамами в белых платьях, с морозом вместо весеннего цветения. Как симфонию в белом поставил пьесу Дж. Стреллер. Одни критики предпочли вообще не заметить красного занавеса и не обмолвиться ни словом о нем, другие высказали предположение (совсем в духе гоголевского «Ревизора»), что он для того, чтобы «обойти запрет на поднятие занавеса»505, третьи без обиняков назвали это «гигантской ошибкой», поспешив заметить: «Очень хитро думать рядом с русской революцией (которая произошла лишь через пятнадцать лет и без связи с Чеховым) о вишневом саде <...>»506.
Очевидно, не будет ошибкой считать, что заостренной кульминацией спектакля был третий акт, сцена бала. Она была поставлена в духе мейерхольдовской трактовки507. А. Беннинг писал в «Замечаниях к пьесе»: «Бал, танец на вулкане, пляска мертвых». И далее: «В то время как решается судьба имения и его обитателей, этот дом — место игр — становится также сценой бессмысленных бесед»508. Такая трактовка вызвала множество возражений критиков.
Для Отто Ф. Беера «уже сама декорация необычайно расточительна: двухэтажный бальный зал, в котором зритель тотчас замечает пышность, превосходящую дефицит федерального театра. Внизу отчаявшаяся Раневская, нетерпеливо ожидающая, что произойдет при продаже с аукциона ее имения, вверху беспрерывные танцы и деятельность, много музыки...»509. «Грубо разыгранное отчаяние убивает настроение тихого отцветания, души умирают, исходя криком», — пишет Ирмгард Штайнер510. И даже Давид Аксман, близкий к пониманию замысла Беннинга, считал, что режиссер отошел здесь от Чехова: «<...> почти естественно, что спектакль в третьем акте приходит к самому сильному и самому яркому воздействию <...>»; «как в декадентски больное праздничное опьянение в имение Любови Андреевны Раневской вторгается новый пролетарский (!) владелец, богатый купец Лопахин; как настроение бала оборачивается опьянением погребальной пляски; как терпит крушение старый порядок, бессильный, бездуховный, порядок-сон — в этой печально-смешной пляске смерти хорошо ощущается Беннинг, ибо он позволяет блистать и шуметь, и бушевать, и пронзительно кричать, здесь он в своей стихии, ну да. Но где же Чехов? Остался на расстоянии»511. Однако какой Чехов — элегически-ностальгический? А Чехов, написавший «комедию, местами даже фарс»? Если его не взять в расчет, то неизбежно покажется, что «пьеса почти грозит ускользнуть от режиссера, становится водевилем. Бег в пустоте усиливается до пароксизма»512. Одни критики упрекали режиссера в утрате связи с реальностью513, в полном отсутствии фантазии514, в том, что комедия здесь превращается в оперу515. Другие могли спокойно констатировать: «Ему удался паноптикум, полный характерных образов, которые вывернули внутреннее наружу»516, и это определение не противоречит суждению режиссера, который прочитал третий акт как ночь исповедей (см. его «Заметки к пьесе»). И лишь один критик связал эту сцену с началом пьесы (правда, отрицая и ту и другую трактовку) — со «сновидческой сонатой призраков»517, в которой Лопахин, засыпающий при почти затухающей керосиновой лампе, скрывающей место действия во тьме или полусвете, падает с кресла, испуганно пробуждаясь от тревожного сна.
Чрезвычайно сложная задача добиться органичного слияния разнородных элементов пьесы в высшее единство, очевидно, не была решена и Ахимом Беннингом: это была, по словам Артура Веста, «очень впечатляющая, однако не очень целостная инсценировка»518.
Режиссерская концепция Беннинга нашла отражение в сценическом оформлении спектакля Хербертом Каппльмюллером, бывшим и художником по костюмам. В первом акте перед зрителями представала пробуждающая воспоминания, слишком захламленная детская. Во втором акте — широкое запущенное поле, на котором персонажи кажутся маленькими и затерянными, с широким горизонтом и угасающим светом, и такая деталь, как карусель, давала возможность показать, как стойко защищается от повзросления общество, которое с большим прилежанием занимается бездельем, прогуливаясь у берега, где утонул сын Раневской, — эта картина под открытым небом напомнила сцену из поставленных Беннингом горьковских «Дачников», «где на необычайной широте сцены Бургтеатра была размещена если не вся Россия, то все же существенная часть ее»519. И хотя прозвучали замечания о том, что художник «допускает развеселые спекуляции об архитектурных свойствах имения Раневской»520, что «предписанное место действия фантастически преображено»521, отмечалось также, что «сценическое оформление адекватно концепции спектакля»522, что «персонажи в декорациях Херберта Каппльмюллера нашли идеальное пространство для своего раскрытия»523, что «сценическое оформление, очень значительное, также исполнено настроения и в то же время помогает разоблачению персонажей»524.
Концепция Беннинга выразилась и в истолковании ролей пьесы. Раневская в исполнении Эрики Плухар была нетрадиционна: «нет помещицы с анархическим сердцем, живущей своими настроениями. Ни следа от великой расточительницы любви, жизни и денег, только театральщина. Ничего от восхищения уходящим классом, которому ничем не поможешь»525, — такова Раневская начала 80-х годов. Конечно же, Раневская, которая временами была «похожа на марионетку и переигрывала»526, была нова и не для всех критиков приемлема.
Эрика Плухар представляла свою героиню как женщину с прошлым, которая напрасно возвращалась в дом своей юности. Она прожила пять лет в Париже, и там, очевидно, променяла свою русскую задушевность и женскую восприимчивость на светскую экзальтированность с налетом мировой скорби. Это красивая женщина, уже с душком полусвета, эмоциональная, вольная в своих порывах, обнимающая того, кто ей нравится, она может сидеть на корточках и, разочарованная, произносить самой себе монолог. Разрываясь между надеждами и опытом, притязаниями и смирением, она пребывала в иллюзиях и не понимала того, что не только вишневый сад и имение, но и все общество находятся под угрозой заката.
И Гаев в исполнении Хельмута Лонера представал непригодным для жизни, смешной фигурой, «старой бабой», франтом, страшащимся труда, сверхвоспитанным декадентом, рыцарем печального образа, произносящим патетические проповеди добра и общественного самосознания, паразитом, столь приличным в своей бесполезности, что он кажется даже симпатичным, — уже одно его присутствие на сцене давало зрителям почувствовать неизбежность заката поместного дворянства. Конечно же, такое изображение приближающееся к карикатурному, устраивало не всех критиков. «Такой выдающийся актер, как Хельмут Лонер, — писала Карин Катрайн, — доносит на столь нежно зарисованного автором персонажа, как Гаев: кажется, он потешается над этим жадно глотающим леденцы господином, на которого его старый слуга смотрит как на дрянного мальчишку, который со страстью возносится в сферу громких слов, в то время как в голове у него лишь один бильярд. Но едва ли здесь выявлено актером, сколь старомодно поведение его персонажа, сколь бессмысленно прожил он свою жизнь, сколь смешон и трагичен он одновременно»527. В спектакле Гаев, как утверждал Х.Х. Ханль, неожиданно был приближен и в чем-то отождествлен с Яшей: «Это была прелестная идея — показать близкое родство опустившегося дяди-аристократа (Хельмут Лонер в остро зарисованной карикатуре) с вульгарным лакеем как две разновидности одной и той же бесполезности»528.
Чредой прошли перед зрителем Варя (Хилке Рутнер), сдержанная, сердито-плоская и незначительная, отрекшаяся от жизни, сыгравшая в сцене с Лопахиным, делающим ей предложение, драму в драме; Симеонов-Пищик (Фриц Гриб), погрязший в долгах сосед-помещик, преувеличенно шумный, ходячий апоплексический удар; Епиходов (Рудольф Юзит), клоун, олицетворение неудачника; Яша (Карлхайнц Хакль), неописуемо наглый, прожорливый, «с циничной брутальностью эксплуатирующий истерическую готовность к любви Дуняши» (А. Беннинг), коварно льстиво-клейкий лакей-парвеню, второй после Лопахина, «он знает, что будущее принадлежит ему и берет себе все, что ему нравится»529; Шарлотта Ивановна (Мареса Хёрбигер) — гротескная гувернантка, у которой комическое обретает трагические черты и наоборот, когда она поет детскую песенку узлу, похожему на ребенка, становится ясным, в чем ее самое большое горе; и, наконец, Фирс (Аттила Хёрбигер), старый слуга, так и не одолевший перехода от крепостного права к свободе, время идет поверх него, а он присматривает озабоченно за бессмысленными поступками других, символ старого времени, символ забытой верности и сознания традиции, нашел в актере идеального исполнителя. «Достаточно того, что он стоит на сцене, — утверждал Виктор Райман. — Потому что едва ли есть кто-то рядом с ним, от кого исходило бы столько излучения»530. «Когда он, примирившись с судьбой, ложится умирать, становится ясно, как великий изобразитель человека незабываемо представляет совсем немногими, однако очень верными штрихами тихую трагедию»531. «И все эти дружески настроенные, чувствительные, философствующие, мечтательные, печальные, влюбленные и нелепые люди, которые уходят из этого мира, оставляют след бесчеловечности, — писал А. Беннинг. — Теперь он знает, что о нем забыли и не могут уже вернуться. Сил у него больше нет. Он ложится и смотрит неподвижно на стеклянную дверь. Он зябнет и свертывается в клубок»532.
Интересную трактовку образа Лопахина давал Хайнц Крекамп, многообещающий дебютант Бургтеатра, новичок в Вене. Он представлял мягкого, сильного, неуклюжего человека, исполненного неуверенности, переживавшего отчаяние от того, что его готовность помочь высокомерно и непринужденно игнорировалась, — сочный характер человека грубого внешне и внутренне интеллигентного, который ничего не мог поделать со своей сентиментальной мечтательностью. В своем победном опьянении он стыдился перед проигравшими, его триумф больше пугал его, чем по-настоящему радовал, он понимал, что он не принесет ему счастья. «То, как он выражает глубоко скрытое, едва осознаваемое отношение к Раневской, которая утешала его ребенком после побоев отца, тонкая реакция, печальная примиренность, то, как он расцветает, выражая симпатию студенту Трофимову, — все это относится к самым прекрасным моментам этой инсценировки и позволяет забыть незатейливый, банально шумный взрыв радости после покупки вишневого сада», — пишет Карин Катрайн533. Театр находил по отношению к Лопахину ту критическую дистанцию, которая обнаруживала, что его деятельность столь же бессмысленна, что и деятельность уходящего класса. «Лопахин, который возвещает своей персоной новое время, — пишет Курт Виммер, — сам заражен вирусом бессмысленности: в то время как другие хотят заполнить своими мечтами внутреннюю пустоту, сын бывшего крепостного спасается бегством в бешенство работы. Лопахин неистовствует против бессмыслицы тем, что увеличивает деньги»534.
Образы представителей нового мира — Пети Трофимова и Ани — оказались в спектакле бледными. И режиссер, и исполнитель, и критики единодушны в своем спектическом отношении к «вечному студенту». Все они подчеркивали, что верящий в прогресс Трофимов, изнуряющий себя в теориях, занятый «развлекательным философствованием, которому он беспрепятственно предается как опытный идеологический конферансье», как пишет Беннинг, утопичен в своих надеждах. «Часто достаточно детали, и знаешь о персонажах решающее: когда студент Трофимов, единственный предчувствующий будущее развитие, приходит в отчаяние, оттого что он не нашел своих резиновых калош, понимаешь, что и он не представитель общества будущего», — утверждал В. Тусвальднер535. «Падчерицей режиссуры», по словам Артура Веста536, оказалась и талантливая молодая актриса Йозефин Платт, уже имевшая опыт исполнения ряда чеховских ролей. Она не вызвала заметного интереса критики.
При всех противоречиях, свойственных спектаклю А. Беннинга, несомненно одно, — его «Вишневый сад» стал переломом, открыл новую страницу в сценической истории чеховских пьес в Австрии, поставил австрийский театр перед задачей глубокого прочтения драматургии Чехова.
Австрийский театр ищет своего Чехова, стремясь максимально приблизиться к нему. И Чехов открыт навстречу новым исканиям.
«Всегда, когда в Вене играют Чехова, думаешь о редкой метаморфозе этого театрального города. На рубеже веков венцы получали удовольствие от двух-трех его грубо бурлескных одноактных пьес; пьесы на весь вечер не были в их вкусе; Чехова как театрального писателя они просмотрели. «Чайка» 1909 г. успеха не имела. «Дядя Ваня» десятью годами позже остался без отклика — и 21 последующий год прошел без Чехова, прежде чем первая венская постановка «Трех сестер» имела успех, основанный на имени автора.
А сегодня? Сегодня чеховский вечер в Вене — доброе и надежное дело. Сегодня Вена играет Чехова так великолепно, так одушевленно, слаженно и прекрасно, так самоотверженно и впечатляюще, как ни один другой театральный город на Западе <...> Это высочайшее мастерство специалистов, это мировой класс»537.
Слова эти, сказанные критиком Паулем Блахой еще в 1960 г., подтверждают высшие достижения театральной венской чеховианы, о которой и шла речь в данном обзоре538.
* * *
История восприятия Чехова в Австрии свидетельствует о росте его известности и углубляющемся внимании к нему, о признании выдающейся роли его в развитии австрийской культуры. Если слава Чехова в Австрии первоначально уступала славе Тургенева, Достоевского, Толстого, Горького, то после второй мировой войны возникли предпосылки к тому, чтобы Чехов стал вровень с ними.
Чехов неотъемлем от австрийской культуры. Уже столетие слово Чехова звучит на немецком языке. Это столетний путь понимания близости между Чеховым и австрийской литературой. К художественному опыту русского классика обращались десятки австрийских писателей, переводчиков, критиков, ученых, режиссеров и актеров, художников театра и иллюстраторов книг разных поколений, и Чехов помогал им обрести свое неповторимое лицо или укрепиться на своих художественных позициях. История восприятия Чехова в Австрии далека от завершения. Чехов и «несть ему конца...» Понимание неисчерпаемости художественного мира Чехова — главный итог австрийской — и в целом мировой — чеховианы.
Дядя Ваня. Вена, Академитеатер, 1972. Постановка Л. Линдберга. Елена Андреевна — С. Зуттер, Войницкий — Й. Майнрад
Дядя Ваня. Вена, Академитеатер, 1972. Постановка Л. Линдберга. Соня — И. Конради, Марина — Х. Вагенер
Дядя Ваня. Вена, Академитеатер, 1972. Постановка Л. Линдберга. Астров — А. Троян, Елена Андреевна — С. Зуттер
Дядя Ваня. Вена, Академитеатер, 1972. Постановка Л. Линдберга. Елена Андреевна — С. Зуттер, Серебряков — П. Хоффман
Дядя Ваня. Вена, Академитеатер. 1972. Постановка Л. Линдберга. Астров — А. Троян, Соня — И. Конради
Дядя Ваня. Вена, Академитеатер, 1972. Постановка Л. Линдберга. Войницкий — Й. Майнрад, Соня — И. Конради
Три сестры. 1-е действие. Вена, Академитеатер, 1976. Постановка О. Шенка
Три сестры. Вена, Академитеатер, 1972. Постановка О. Шенка. Ирина — Я. Платт, Вершинин — К. Вуссов, Прозоров — Х. Зеебёк
Три сестры. Вена, Академитеатер, 1972. Постановка О. Шенка. Вершинин — К. Вуссов, Прозоров — Хю Зеебёк, Ольга — Э. Орт
Три сестры. Вена, Академитеатер, 1972. Постановка О. Шенка. Вершинин — К. Вуссов, Соленый — Р. Мелихар, Маша — Г. Йессерер
Три сестры. Вена, Академитеатер, 1972. Постановка О. Шенка. Тузенбах — В. Хюбке, Ирина — Й. Платт
Три сестры. Вена. Академитеатер. 1976. Постановка О. Шенка. Ольга — Э. Орт. Кулыгин — С. Совинец, Маша — Г. Йессерер
Три сестры. Вена, Академитеатер, 1976. Постановка О. Шенка Ольга — Э. Орт, Маша — Г. Йессерер
Вишневый сад. Вена, Бургтеатер, 1983. Постановка А. Беннинга. Шарлотта — М. Хербигер, Раневская — Э. Плухар, Варя — Х. Рутнер
Вишневый сад. Вена, Бургтеатер, 1983. Постановка А. Беннинга. Раневская — Э. Плухар, Лопахин — Х. Крекамп
Вишневый сад. Вена, Бургтеатер, 1983. Постановка А. Беннинга. Фирс — А. Хёрбигер, Лопахин — Х. Крекамп
Примечания
*. Душа тихая и чистосердечная (лат.).
**. в стиле фресковой живописи (итал.).
1. Виноградская И. Жизнь и творчество К.С. Станиславского: Летопись. М., 1971. Т. 2. С. 20—24.
2. Станиславский К.С. Из записных книжек: В 2 т. М., 1986; Немирович-Данченко В.И. 1) Из прошлого. М., 1938; 2) Рождение театра: Воспоминания, статьи, заметки, письма. М., 1989.
3. См.: Русское слово. 1906. 17 апреля; Шик Н.Б. О драматургии Чехова (Отклики зарубежных современников) // Чеховские чтения в Ялте: Чехов и театр. М., 1976; Junemann A. Gastspiel 1906: Das Moskauer Künstlertheater in Wien // Mitteilungsblatt der Fachsektion der Österreichisch-Sowjetische Gesellschaft N 20. Wien, 1963. S. 9—16.
4. Тэзи А. 1) Йозеф Кайнц и Московский Художественный театр. (От нашего венского корреспондента) // Утро России. 1910. 14 сентября; 2) Первые дебюты МХТ за границей // Слово. Париж. 1923. 25 декабря; Шварц В. Йозеф Кайнц. Л., 1972. С. 175—176.
5. Wiener Mittags Zeitung. 12. April. 1906.
6. Fremdenblatt. Wien. 17. April. 1906.
7. Wiener Arbeiter Zeitung. 17. April. 1906.
8. См. примеч. 5.
9. Das Vaterland. 17. April. 1906.
10. Beurteilung der Dissertation des cand. phil. Pavel Bercov über «Die Spiegelung der russischen Zustände am Ende des XIX. Jahrhunderts in Čechovs Werken». Wien, 26. Mai. 1923. Цитируется рукописный отзыв на диссертацию П.Н. Беркова «Отражение русской ситуации в конце XIX в. в произведениях Чехова», защищенную в Венском университете в мае 1923 г. Хранится в библиотеке Венского университета.
11. См. примеч. 9.
12. См. примеч. 6.
13. Neue Freie Presse. 17. April. 1906.
14. См. примеч. 6.
15. Ibid.
16. См. примеч. 13.
17. Mell M. Russisches Theater (Gastspiel des Moskauer Künstlertheaters im Stadttheater) // Wiener Mittags Zeitung, 12. April. 1921. In: Max Mell als Theaterkritiker. Eingeleitet und herausgegeben von Margaret Dietrich. Wien, 1983. S. 306.
18. Mell M. Op. cit. S. 307.
19. Mell M. Gastspiel des Moskauer Künstlertheater // Mell M. Op. cit. S. 309.
20. Ibid. S. 307.
21. Ibid. S. 307.
22. Ibid. S. 308.
23. Ibid. S. 308.
24. Ibid. Сохранилось также свидетельство интереса к гастролям артистов МХТ у Карла Крауса: «Ради русских даже я пошел бы в театр». — Kraus K. Briefe an Sidonie Nadhemy von Borotin. 1913—1936. München, 1974. Bd. 1. S. 488 (Brief v. 5/6. Februar 1921). Корреспондентка Крауса делится впечатлениями от «Дяди Вани» и «Трех сестер», увиденных во время гастролей мхатовцев в Аграме.
25. Musil R. Moskauer Künstlertheater // Prager Presse. 24. April. 1921. In: Musil R. Gesammelte Werke in neun Bänden hrsg. von Frisé A. Bd. 9. Kritik. Reinbek bei Hamburg, 1978. S. 1476.
26. Ibid. S. 1476.
27. Ibid. S. 1478.
28. Ibid. S. 1479.
29. Ibid. S. 1479.
30. Ibid. S. 1478.
31. Musil R. Le Paquebot Tenacity // Musil R. Bd. 9. S. 1561.
32. Sontheimer I. Die russische Bühnenwerke in Wien in den Jahren 1884—1914. Diss. Maschinenschrift Wien, 1945. S. 45:
33. Neues Wiener Tagblatt 22. März. 1901.
34. Находится в фонде Йозефа Ярно (1866—1932), актера, режиссера и директора в 1899—1920 гг. Театра в Йозефштадте.
35. Southerner I. Op. cit. S. 41.
36. Tschechow A. Ein Heiratsantrag. Schwank in einem Aufzug, für das Theater bearbeitet von Luise Flachs. Berlin, 1901. Издание это не зафиксировано в списке прижизненных переводов в ПСС Чехова в 30 т. (см. XI, 443). Л. Флакс-Фокшеняну была замечена русской критикой довольно рано как переводчица прозы писателя («Ариадна», «Попрыгунья», «Припадок», «Володя большой и Володя маленький»), вошедшей в том: Tschechow A. Russische Liebelei / Aus dem Russischen übersetzt v. L. Flachs-Fokscheneanu. München, 1897. 267 S. См.: Вестник Европы. 1897. Ноябрь. С. 442—444 (автор рецензии З. Венгерова); Северный вестник. 1897. Ха 9.
37. Österreichische Volkszeitung. 22. März. 1901.
38. Neues Wiener Tagblatt 22. März. 1901.
39. См. примеч. 37.
40. Еще раз «Предложение» было успешно поставлено на сцене Театра в Йозефштадте 16 декабря 1905 г.
41. Kraus K. Antworten des Herausgebers. Habitue // Die Fackel. Wien. V. Jahr. Nr. 142. 1903. S. 23.
42. Xaac B. (Willi Haas) — критик и публицист, издатель еженедельного журнала «Die literarische Welt» (1925—1933); восхищение деятельностью Крауса сменилось у него пожизненной враждой (см. его воспоминания «Die literarische Welt». 1957).
43. Kraus K. Abendsohne und Morgenblatt // Die Fackel. Wien. XIII. Jahr. Nr. 321/322. 29. April. 1911. S. 8. Что касается «Медведя», то он был поставлен в Вене впервые в йозефштадтском театре на литературном вечере 6 ноября 1903 г. и затем шел шесть раз. Жанр его был определен переводчицей как гротеск (Tschechow A. Der Bär. Groteske in einem Aufzug. Übertragen v. Luise Flachs. Berlin, 1902). Преобладание гротеска в переломные периоды истории австрийской литературы несомненно; в начале XX в. его мастерами выступают Артур Шницлер, Густав Мейринк, Альфред Кубин, Оскар Кокошка, Франц Кафка и др., что порождало желание воспринять произведение «чужой» литературы сквозь привычную жанровую призму. Юмор «Медведя» критики сравнивали с юмором Ганса Сакса (Österreichische Volkszeitung. 7. November. 1903). Отмечалось, что ирония получила в пьесе «многогранное выражение» (Neue Freie Presse. 7. November. 1903). Постановка оценивалась положительно: «Пьеса была сыграна весело и с большим воодушевлением» (Österreichische Volkszeitung. 7. November. 1903). Венская Freie Volksbühne свой второй сезон открыла постановкой русских пьес: 4 августа 1907 г. были даны «Предложение» и «Медведь». В конце сезона «Медведь», пользовавшийся наибольшим успехом, был возобновлен 28 мая 1908 г.
44. «Предложение» шло на второй сцене Бургтеатра — в Академитеатре в том же переводе Л. Флакс-Фокшеняну. Последнее представление состоялось 5 февраля 1932 г., всего прошло восемь спектаклей. Премьере были посвящены рецензии: 1) Geyer S. Burgtheater-Silvester // Die Stunde. 3. Jan. 1932; 2) L.U. Die Silvesterpremiere im Burgtheater // Wiener Mittags Zeitung. 2. Jan. 1932; 3) Ullmann L. Gogol aus Marzipan. Russischer Silvester im Burgtheater. Tschechow: «Ein Heiratsantrag» — Gogol: «Die Heirat» // Allgemeine Zeitung. 3. Jan. 1932; 4) h. l. Russischer Silvester im Burgtheater // Extrablatt. 2. Jan. 1932; 5) St. Heiratsgeschichten zu Silvester // Montagblatt. 4. Jan. 1932; 6) E.D. Burgtheater. «Ein Heiratsantrag» von Tschechow, «Die Heirat», drei Akte von Nikolaj Gogol // Tagblatt. 1. Jan. 1932; 7) Lucka E. Russen im Burgtheater // Neueste Nachrichten. 2. Jan. 1932; 8) F.R. Russischer Lustspielabend im Burgtheater // Arbeiter Zeitung. 3. Jan. 1932; 9) Bauer J. Silvester im Burgtheater // Morgen. 4. Jan. 1932; 10) Decsen E. Silvester im Burgtheater // Tagblatt. 2. Jan. 1932; 11) Auernheimer R. Jahreswechsel im Burgtheater // Neue Freie Presse. 3. Jan. 1932; 12) Sassmann H. Burgtheater Premiere: Anton Tschechow «Ein Heiratsantrag», Nikolaj Gogol «Heirat» // Journal. 1. Jan. 1932; 13) B. Russischer Lustspielabend im Burgtheater // Reichspost. Wien. 3. Jan. 1932; 14) Liebstoeckl H. Silvesterspuk im Burgtheater // Montags Zeitung. 3. Jan. 1932; 15) — ch. Burgtheater. «Ein Heiratsantrag». «Die Heirat» // DeutschÖsterreichische Tagezeitung. 5. Jan. 1932; 16) i st. Der russische Abend des Burgtheaters // Volkszeitung. 2. Jan. 1932; 17) о. st. Burgtheater // Wiener Zeitung. 3. Jan. 1932; 18) r. g. Silvester des Burgtheaters // Tag. 2. Jan. 1932.
45. См. примеч. 44 (14).
46. См. примеч. 44 (4).
47. См. примеч. 44 (3).
48. См. примеч. 44 (6).
49. См. примеч. 44 (11).
50. См. примеч. 44 (13).
51. См. примеч. 44 (1).
52. См. примеч. 44 (2).
53. См. примеч. 44 (5).
54. См. примеч. 44 (15).
55. См. примеч. 44 (8).
56. См. примеч. 44 (16).
57. См. примеч. 44 (17).
58. См. примеч. 44 (2).
59. См. примеч. 44 (6).
60. См. примеч. 44 (18).
61. См. примеч. 44 (10).
62. См. примеч. 44 (10). Здесь же отмечено, что «безобидный сюжет и тема «Предложения» имеют некоторое родство с блестящей пьесой Мольнара «Рулетка». Венгерский драматург Ференц Мольнар (1870—1952) — автор развлекательных комедий, пользовался и поныне пользуется успехом у австрийского зрителя. Характерно, что у австрийских критиков чеховские одноактные миниатюры нигде не называются водевилями. Австрия была той страной, где музыкально-комические драматические жанры получили широкое развитие, где знали толк в водевиле. На наш взгляд, отнесение одноактных пьес Чехова к жанру водевиля, ставшее аксиомой в отечественных работах, нуждается в пересмотре; во всяком случае нельзя не видеть, что в них отсутствует специфическая примета этого синтетического жанра — куплеты, исполняемые под музыку, танцевальные номера, без чего не может быть водевиля.
63. См. примеч. 44 (11).
64. См. примеч. 44 (8).
65. См. примеч. 44 (13).
66. См. примеч. 44 (18).
67. См. примеч. 44 (1).
68. См. примеч. 44 (9).
69. См. примеч. 44 (1).
70. См. примеч. 44 (14).
71. См. примеч. 44 (13).
72. См. примеч. 44 (1).
73. См. примеч. 44 (1).
74. См. примеч. 44 (2).
75. См. примеч. 44 (10).
76. См. примеч. 44 (18).
77. См. примеч. 44 (13).
78. См. примеч. 44 (11).
79. См. примеч. 44 (17).
80. См. примеч. 44 (11).
81. См. примеч. 44 (1).
82. См. примеч. 44 (10).
83. См. примеч. 44 (13).
84. См. примеч. 44 (18).
85. См. примеч. 44 (10).
86. См. примеч. 44 (10).
87. См. примеч. 44 (17).
88. См. примеч. 44 (11).
89. См. примеч. 44 (2):
90. См. примеч. 44 (10).
91. См. примеч. 44 (13).
92. См. примеч. 44 (3).
93. См. примеч. 44 (15).
94. См. примеч. 44 (7).
95. См. примеч. 44 (15).
96. См. примеч. 44 (8).
97. См. примеч. 44 (13).
98. См. примеч. 44 (8).
99. См. примеч. 44 (17).
100. См. примеч. 44 (5).
101. Гоголь Н.В. Собр. соч.: В 8 т. М., 1984. Т. 2. С. 146.
102. См. примеч. 44 (10).
103. Спектаклю посвящены рецензии: 1) Blaha P. Ein kräftiger Hauch von russischer Poesie // Express. 7. Febr. 1959; 2) Weigel H. Der in jeder Hinsicht unnütze Platonow. Gestern im Akademietheater: Russischfranzösisch-deutschsprachige Tschechow-Premiere «Dieser Platonow...» // Kurier. 7. Febr. 1959; 3) Fontana O.M. Tschechow: Von der Paradoxie der Liebe // Die Presse. 8. Febr. 1959; 4) Kindermann H. Ein Revolverkugel für den armen Don Juan // Österreichische Neue Tageszeitung. 8. Febr. 1959; 5) Rollett E. Des schwachen Sünders Höllenfahrt // Wiener Zeitung. 8. Febr. 1959; 6) Waiden. «Dieser Platonow...» // Arbeiter Zeitung. 8. Febr. 1959; 7) Weiser P. Ein Anfang und ein Ende // Salzburger Nachrichten. 9. Febr. 1959; 8) b. Tragische Komödie im Akademietheater // Wiener Montag. 9. Febr. 1959; 9) Dr. J. Don Juan aus Woinitzewka // Das kleine Volksblatt. 8. Febr. 1959; 10) dur. Tod einer schönen Seele // Die Wochen-Presse. 14. Febr. 1959; 11) E.W. Ein Don Juan aus Altrussland // Wiener Montag. 9. Febr. 1959; 12) O.B. Die Tragiekomödie vom russischen Don Juan // Neues Österreich. 8. Febr. 1959; 13) Huppert H. Anfechtbares Tschechow-Erbe // Volksstimme. 9. Febr. 1959. Auch: Huppert H. Theaterleben (III). Notizen // Die Weltbühne. Berlin, 1959. 1. April. Nr. 13. S. 413; 14) E.F. «Dieser Platonow» oder «Der unnützliche Platonow» // Tagebuch. Wien. 1959. März. Jg. 14. S. 12. 15) Torberg F. Dieser Platonow (1959) // Torberg F. Das fünfte Bad am Thespiskarren. Theaterkritiken. Bd. 2. München; Wien, 1967. S. 446—447.
104. См. примеч. 103 (9).
105. См. примеч. 103 (6).
106. См. примеч. 103 (1).
107. См. примеч. 103 (7).
108. См. примеч. 103 (6).
109. См. примеч. 103 (13).
110. См. примеч. 103 (1).
111. См. примеч. 103 (8).
112. См. примеч. 103 (10).
113. См. примеч. 103 (14).
114. См. примеч. 103 (13).
115. См. примеч. 103 (15).
116. См. примеч. 103 (3).
117. См. примеч. 103 (1).
118. См. примеч. 103 (14).
119. См. примеч. 103 (10).
120. См. примеч. 103 (2).
121. См. примеч. 103 (6).
122. См. примеч. 103 (6).
123. См. примеч. 103 (13).
124. См. примеч. 103 (13).
125. «Платонов, этот Дон Жуан поневоле, — писал Хайнц Киндерман, — собственно зеркальный образ слишком мягкой славянской души, ее отдачи всем влечениям, ее пламенного самопожертвования и мгновенного раскаяния в содеянном, потому что другое влечет еще больше, и снова забвение — ради еще одного нового, пока влюбленные не становятся требовательными, а загнанный в угол, столь часто сам себя проклинавший и снова все же самому себе сострадающий, не погибает от этого» — 103 (4). Столь же причудливо охарактеризован Платонов Вальденом: «Шарлатан поневоле, бессознательный мститель своего подавленного сословия, комичный в своей демонии Дон Жуана, трагичный как эротический Гансвурст, Фигаро славянской пассивности — живой буревестник революции, как и его французский коллега с парикмахерскими приборами, но еще больше — меланхолический больной сыч, в любом случае — смешная птица» — 103 (6). Говоря о поведении чеховского персонажа и о его исповеди-самобичевании в последнем акте инсценировки, Петер Вайсер давал ему такое абсурдное объяснение: «Это звучит как поэтическая исповедь о себе самом, и на самом деле этот Платонов может быть автопортретом Чехова» — 103 (17). И это пишет критик, который все же понимает, что Платонов «постоянно пребывает в борьбе с самим собой и проигрывает эту битву с самим собой постоянно, потому что он труслив, тщеславен, эгоистичен». А затем, спохватившись, оправдывается: «Насколько и в какой мере это автопортрет — не скажешь, пьеса ведь существует в обработке Квентена». В лучшем случае в Платонове видели критику Чеховым «русской души»: «Смелость Чехова в том, что он не идеализирует этого интеллигента, но что он в нем жестоко издевается над тем, что пытался объяснить, — над так называемой «русской душой», переполненной «любовью ко всем» и эта «душа» охарактеризована как паразитическая, как опухоль, которая цепляется за гнилой ствол, и этот Платонов с его пассивностью, с его слабостью, с его неспособностью противостоять женским чарам — не противник, но продукт окружающего общества» — 103 (11). «Мы ощущаем меланхолические удары пульса позавчерашней Евроазии, — писал Пауль Блаха, — рапсодию слабости, подавленности, самообвинений, сентиментальности. Мелодраму меланхолической перестрелки с условностями, с банальным, с непоследовательностью. Имеет значение лишь одно страстное желание — «новой жизни». И болезненное мечтательство — о чем-то невыразимо, недостижимо добром, чему опьянение и женщины принесены как жертвенные дары разочарованного саморастерзания» — 103 (1).
126. Предвидя, что в связи с постановкой «Платонова» вновь возникнут кривотолки о «русской душе» — благо спектакль давал на это какие-то основания, — Гуго Гупперт в острополемическом пассаже вскрывал социально-политическую подоплеку живучести этого мифа: «Откуда эта неутолимая жажда Запада и его влечение к так называемой «русской душе», которая непременно должна быть смесью из мечтательности и слабости? Не оттого ли, что верят в таинственную волю, в мнимую энергию и силу западной души? И приятно лгут и успокаивают иллюзией: там, где восходит солнце, имеешь дело с народом, пьющим водку, носящим закрытые рубашки с кушаком, бренчащим на балалайке и в лучшем случае пляшущим в присядку. От этого самообмана давно уже исцелились военные и министры. Театральный люд и кинодельцы продолжают болеть им. О ты, вечная, непостижимая, однако, надо надеяться, кроткая, как овечка, «русская душа»!.. За этот излюбленный реквизит на этот раз ухватился Академитеатр. Дело было в том, чтобы открыть «редкого» Чехова. Но ведь Чехов сам составил свое собрание сочинений и исключил из него пьесу «Платонов» и комедию «Леший» как незрелые. Почему же кто-то хочет быть умнее автора? Потому что находящиеся для выбора в распоряжении драматические шедевры «Чайка», «Дядя Ваня», «Три сестры» и «Вишневый сад» сопротивляются их влечению к «русской душе» и весьма способствуют социально-критическому постижению того, что разрушающиеся формы жизни старой России должны вскоре потонуть и наступят ожидаемые с нетерпением лучшие времена» — 103 (13).
127. См. примеч. 103 (15).
128. Действительно, через полтора десятилетия во Франкфурте-на-Майне Петер Урбан сделает первый полный перевод первой пьесы Чехова (и всех остальных его драматических произведений). См.: Čechov A. Platonov. Stock ohne Titel / Übersetzt und herausgegeben von Peter Urban. Zürich, 1974.
129. Сказано безапелляционно: сценическая и экранная история «Платонова» была «и интересной, и плодотворной», о чем свидетельствуют пятичасовой спектакль Дж. Стрелера или «Неоконченная пьеса для механического пианино» Никиты Михалкова. Спектаклю Академитеатра могла нанести ущерб такая невинная по видимости «модернизация», как смещение времени действия. Если для автора пьесы это была его современность — конец 70-х годов, то в зарубежных постановках это время не соблюдалось. Так, уже Рене Фюлеп-Миллер в своей «обработке для современной сцены» после перечня действующих лиц, указывая точно по Чехову место действия пьесы, уже от себя определяет его время как 40-е годы XIX в. См.: Tschechoff A. Der unnütze Mensch Platonoff / Bearb. René Fülöp-Miller. München, 1928. S. 5. По-видимому, жизнь России 1870-х годов ассоциировалась в его сознании с аналогичными процессами в австрийской истории, завершением которых стала революция 1848 г. Через несколько десятилетий, в постановке 1959 г. в Академитеатре события были перенесены в 1890 год, что порождало уже ассоциации с «концом века». О том, какая путаница царила в представлениях отдельных рецензентов о времени действия первой пьесы писателя, свидетельствует следующее суждение: «Чехов перенес написанное в 1881 г. произведение с добрым замыслом на тридцать лет назад, следовательно, во времена «Бесов» Достоевского; именно сорок лет для общественного круга этой трагикомедии служат мерилом и масштабом» — 103 (12).
130. Редакция Поля Квентена была подготовлена для Жана Вилара, режиссера спектакля и исполнителя заглавной роли в нем. В этой редакции венская постановка была первой на немецком языке в послевоенные годы. Адаптация Квентена исполнялась затем в Вюртембергском Государственном театре Штутгарта в 1959 г., в театре г. Бонна в сезон 1964/65 г., пока в марте 1973 г. в Базельской Комедии, в декабре того же года в Театре Конкордия в Бремене «Платонов» не был поставлен в переводе П. Урбана. В 1977 г. он шел в Шаушпильхаузе Дюссельдорфа уже в переводе Карела Крауса.
131. См. примеч. 103 (3).
132. См. примеч. 103 (4).
133. См. примеч. 103 (8).
134. См. примеч. 103 (13).
135. См. примеч. 103 (4).
136. См. примеч. 103 (3).
137. См. примеч. 103 (5).
138. См. примеч. 103 (14).
139. См. примеч. 103 (12).
140. См. примеч. 103 (12).
141. См. примеч. 103 (1).
142. См. примеч. 103 (6).
143. См. примеч. 103 (5).
144. См. примеч. 103 (9).
145. См. примеч. 103 (13).
146. См. примеч. 103 (9).
147. См. примеч. 103 (2).
148. См. примеч. 103 (12).
149. См. примеч. 103 (1, 12).
150. См. примеч. 103 (8).
151. См. примеч. 103 (3).
152. См. примеч. 103 (5).
153. См. примеч. 103 (9).
154. См. примеч. 103 (7).
155. См. примеч. 103 (11).
156. См. примеч. 103 (14).
157. См. примеч. 103 (1).
158. См. примеч. 103 (11).
159. Имеется в виду комедия Иоганна Непомука Нестроя (1801—1862) «Der Zerrissene» (1845).
160. См. примеч. 103 (4).
161. См. примеч. 103 (12).
162. См. примеч. 103 (2).
163. См. примеч. 103 (8).
164. См. примеч. 103 (5).
165. См. примеч. 103 (5).
166. См. примеч. 103 (3).
167. См. примеч. 103 (3).
168. См. примеч. 103 (3).
169. См. примеч. 103 (3).
170. См. примеч. 103 (14).
171. См. примеч. 103 (10).
172. См. примеч. 103 (4).
173. См. примеч. 103 (7).
174. См. примеч. 103 (3).
175. См. примеч. 103 (13).
176. См. примеч. 103 (12).
177. Спектаклю посвящены рецензии: 1) Kauer. Burgtheaterstudiö mit Tschechows «Iwanow» eröffnet // Volksstimme. 31. März. 1965; 2) Fontana O.-M. Jeder ist ein Opfer seiner Umgebung // Salzburger Nachrichten. 31. März. 1965; 3) Schreyvogl F. Ein erster Versuch // Wiener Zeitung. 31. März. 1965; 4) Plakolb L. Das neue «Studio des Burgtheaters» könnte überzeugen. Tschechows kaum gespielter «Iwanow» im Akademietheater. Eine gelungene Aufführung // Oberösterreichische Nachrichten. 31. März. 1965; 5) Rismondo P. Gehversucht des Burgtheaterstudios. Debüt im Akademietheater mit Anton Tschechows Frühwerk «Iwanow» // Die Presse. 31. März. 1965; 6) Basil O. Ein lebender Leichnam von Tschechow // Neues Österreich. 31. März. 1965; 7) Waiden. Studiopremiere: Weder Sieger noch Besiegte // Arbeiter Zeitung. 31. März. 1965; 8) Jürg Dr. Das Schwerste ist immer der Anfang // Volksblatt 31. März. 1965; 9) Blaha P. Iwanow der Schreckliche // — Kurier. 1. April. 1965; 10) Lothar E. Der erhabene Betrüger // Express. 31. März. 1965; 11) Thun E. Die Feuertaufe bestanden. «Iwanow» von Anton Tschechow // Wochenpresse. 3. April. 1965; 12) Vogel M. Spielzeit mit slawischer Dominante // Oberhessische Presse. Marburg. 1. April. 1965; 13) Wickenburg E.G. Experimente an der Wien // Die Welt. Hamburg. 3. April. 1965; 14) Neues aus Wien. Studio des Burgtheaters kunsthistorisches Museum und zweimal Erotik // Stuttgarter Nachrichten. 3. April. 1965; 15) Kahl K. Traurige Helden. Studio von und nach Tschechow // Stuttgarter Zeitung. 8. April. 1965; 16) Vogel M. Das Burgtheater und sein Kind. Studiogrundung und österreichische Tschechow-Erstaufführung in Wien // Bonner Rundschau. 10. April. 1965; 17) Kahl K. Rebellen ohne Kraft. Tschechow «Iwanow». Studio des Burgtheaters // Theater heute. Velber bei Hannover. 6. Jg. 1965. Nr. 5. S. 51—52.
178. См. прим. 177 (2). «Почему же не выбран один из молодых или самых молодых критически настроенных советских драматургов — Ильин, Шварц, Зорин, Шейнин — или один из классиков советской сатиры — Маяковский, Ильф и Петров, — непостижимо, — восклицал Отто Базиль. — В то время как русский человек находится в космосе, экспериментальная сцена сервирует нам скучное дело 1887 года!» — 177 (6). «Старый Бургтеатр в случае со студией остался верен самому себе. Бегство в прошлое руководит прагматизированным авангардом храма муз», — язвил другой критик — 177 (9). И даже Эрнст Лотар, режиссер, поставивший в Бургтеатре «Платонова», на этот раз выступивший в роли рецензента, бросил камешек в Чехова, заявив, что «Иванов» из семи пьес Чехова — самая слабая. «К тому же трижды Чехов в одном сезоне — это уж слишком!» — 177 (10), считал Отто Базиль, имея в виду, что, кроме «Иванова», в Вене шли «Чайка» и спектакль по «Шведской спичке». «Славянская доминанта, мощная, как еще никогда до этого, определяет весь венский сезон. В репертуаре оперных театров премьеры Дворжака, Чайковского и Шостаковича, на драматических сценах переливается красками Чехов во всех его гранях — и это не единственный славянский автор, — замечал критик из ФРГ, приходя к выводу, что «глубокий смысл заключен в том, что Вена свою славянскую доминанту иногда разыгрывает высоко, поскольку роль законного моста между Востоком и Западом соответствует ведь с точностью важному культурно-географическому месту Вены в сегодняшнем мире» — 177 (12).
179. См. примеч. 177 (5).
180. См. примеч. 177 (1).
181. См. примеч. 177 (9).
182. См. примеч. 177 (6).
183. См. примеч. 177 (10).
184. См. примеч. 177 (1).
185. См. примеч. 177 (8).
186. См. примеч. 177 (9).
187. См. примеч. 177 (11).
188. См. примеч. 177 (10).
189. См. примеч. 177 (4).
190. См. примеч. 177 (11). Актуальность «Иванова» критики видели и в том, что «Иванов имел мужество для своего времени — времени еврейских погромов — жениться на еврейке» — 177 (15). «Несколькими штрихами Чехов — задолго до того, как позорные погромы царских времен приняли в Германии гигантские размеры, — набрасывает трагедию еврейской женщины, смертельно отделенной непостижимой анонимной подлостью окружающих от своего мужа, нееврея» — 177 (1).
191. См. примеч. 177 (6). Георг Тракль (1887—1914) — один из создателей австрийского экспрессионизма, выразивший в своих стихотворениях предчувствие конца, гибели.
192. См. примеч. 177 (2).
193. См. примеч. 177 (8).
194. См. примеч. 177 (3).
195. См. примеч. 177 (5).
196. См. примеч. 177 (5).
197. См. примеч. 177 (1). Примечательно, что никто из критиков не вспомнил об Алессандро Моисси, знаменитом австрийском актере, первом исполнителе роли Иванова на сцене берлинского Дойче Театер (Каммершпиле) в 1919 г. К сожалению, в содержательной монографии С. Бушуевой «Моисси» (М., 1986) ничего не говорится об этой роли актера, пусть и не главной в его творчестве.
198. См. примеч. 177 (6).
199. См. примеч. 177 (3).
200. См. примеч. 177 (2).
201. См. примеч. 177 (1).
202. См. примеч. 177 (7).
203. См. примеч. 177 (8).
204. См. примеч. 177 (10).
205. См. примеч. 177 (8).
206. См.: Krause H.-H. Die vorrevolutionären russischen Dramen auf der deutschen Bühne. Grundzüge ihrer deutschen Bühneninterpretationen im Spiegel der Theaterkritik. Emstetten, 1972. S. 103.
207. P.Z. Gastspiele des Berliner Hebbel-Theater // Neue Freie Presse. 17. Juni. 1909. Далее до следующей сноски — цитаты из данного источника.
208. Спектаклю посвящены рецензии: 1) Fontana O.-M. Ein Drama wie Chopins Musik // Die Presse, 17. Mai. 1952; 2) Grimme K.-M. Tragikomödie der unerfüllten Hoffnungen. — Ein Abend grosser Schauspielkunst // Neue Wiener Tageszeitung. 16. Mai. 1952; 3) Loos P. Tschechow: «Die Möwe» // Der Abend. 15. Mai. 1952; 4) Rollett E. Tschechows «Möwe». Premiere im Akademietheater // Wiener Zeitung. 16. Mai. 1952; 5) Mühlbauer H. Seelengemälde in elegischen Farben. Anton Tschechows Dichtung «Die Möwe» erstaufgeführt // Wiener Kurier. 15. Mai. 1952; 6) R.H. Akademietheater: «Die Möwe» // Die Presse. 16. Mai. 1952; 7) G.K.B. Anton Tschechow: «Die Möwe» Weltpresse. 15. 1952; 8) O.B. Akademietheater: «Die Möwe» // Neues Österreich. 16. Mai. 1952; 9) Dr. J. Elegie auf das Leben // Volksblatt. 16. Mai. 1952; 10) Bayr R. Des Lebens bittere Komödie // Salzburger Nachrichten. 21. Mai. 1952; 11) Jen. Komödie kleiner Verhältnisse — Tragödie grosser Leidenschaft // Österreichische Volksstimme. 17. Mai. 1952; 12) Hoffman R. Anton Tschechows «Möwe» // Österreichische Zeitung. 16. Mai. 1952; 13) Viertel B. Anton Tschechow: «Die Möwe» // Programmheft des Akademietheater Wien. Auch: Viertel B. Schriften zum Theater. Berlin, 1970; 14) Torberg F. P.S. zum einer späten Premiere // Wiener Kurier. 23. Mai. 1952. Auch: Torberg F. Das fünfte Rad am Thespiskarren // Theaterkritiken. München; Wien, 1967. Bd. 2.
209. См. примеч. 208 (5).
210. См. примеч. 208 (12).
211. См. примеч. 208 (14).
212. См. примеч. 208 (11).
213. См. примеч. 208 (1).
214. См. примеч. 208 (13).
215. См. примеч. 208 (13).
216. См. примеч. 208 (7).
217. См. примеч. 208 (5).
218. См. примеч. 208 (3).
219. См. примеч. 208 (9).
220. См. примеч. 208 (10).
221. См. примеч. 208 (11).
222. См. примеч. 208 (6).
223. См. примеч. 208 (13).
224. См. примеч. 208 (7).
225. См. примеч. 208 (1).
226. См. примеч. 208 (13).
227. См. примеч. 208 (10).
228. См. примеч. 208 (6).
229. См. примеч. 208 (12).
230. См. примеч. 208 (9).
231. См. примеч. 208 (8).
232. См. примеч. 208 (3).
233. См. примеч. 208 (10).
234. См. примеч. 208 (14).
235. См. примеч. 208 (11).
236. См. примеч. 208 (2).
237. См. примеч. 208 (7).
238. См. примеч. 208 (7).
239. См. примеч. 208 (6).
240. См. примеч. 208 (3).
241. См. примеч. 208 (14).
242. См. примеч. 208 (4).
243. См. примеч. 208 (10).
244. См. примеч. 208 (8).
245. См. примеч. 208 (9).
246. См. примеч. 208 (10).
247. См. примеч. 208 (4).
248. См. примеч. 208 (4).
249. См. примеч. 208 (4).
250. См. примеч. 208 (6).
251. См. примеч. 208 (1).
252. См. примеч. 208 (7).
253. «Die Möwe» im Fernsehen // Volksstimme. 5. März. 1963.
254. Röder H. Otto und gerupfte «Möwe» // Volksstimme. 21. Mai. 1963.
255. Ibid.
256. См. информационную заметку: «Чайка» в Вене // Иностранная литература. 1965. № 7. С. 271. Петр Федорович Шаров родился в 1886 г. в Перми, в 1905—1910 гг. изучал в Петербурге юриспруденцию и актерское мастерство у В.Э. Мейерхольда, в 1910 г. по окончании университета стал актером МХТ и ассистентом Станиславского. Эмигрировал в 1919 г. в 1922—1932 гг. был главным режиссером Дюссельдорфского Шаушпильхауз и преподавал в актерской школе Луизы Дюмон. Ставил оперы Чайковского, Мусоргского, пьесы Чехова, Гоголя и других русских драматургов в ряде стран Европы.
257. Kauer. Wie die «Möwe aufflog // Volksstimme. 3. Febr. 1965 (интервью с П.Ф. Шаровым).
258. Kauer. Peter Scharow inszeniert Tschechows «Möwe» // Volksstimme. 2. März. 1965.
259. См. примеч. 258.
260. Ibid.
261. Frei B. Wiener Premieren. Tschechow im Volkstheater // Tagebuch. 1965. April. N 4, 10. Jg. S. 14.
262. Ibid.
263. См. примеч. 258.
264. Torberg F. Das fünfte Rad am Thesiskarren. Theaterkritiken. München; Wien. Bd. 2. S. 442—443.
265. Kahl K. Traurige Helden. Studie von und nach Tschechow // Stuttgarter Zeitung. 8. April. 1965.
266. Спектаклю посвящены рецензии: 1) Hupper H. Eine flügellahme Möwe // Volksstimme. 16. Okt. 1977; 2) Hahnl G. Der Verzicht erstickt das Leben // Arbeiter Zeitung. 16. Okt. 1977; 3) Steiner 1. Kunstvoll gepflegter Weltschmerz // Volksblatt, 17. Okt. 1977; 4) Rismondo P. Grosser Tschechow gross gespielt // Die Presse. 17. Okt. 1977; 5) Pizzini D. Komödie des Scheitems // Wochenpresse. 19. Okt. 1977; 6) Blaha P. Monate auf dem Lande // Kurier. 16. Okt. 1977; 7) Sebestyén G. Schwüle stille langer Sommertage // Wiener Zeitung. 16. Okt. 1977; 8) Sebestyén G. Ein Wiedersehen mit Tschechow, wie er war // Salzburger Nachrichten. 17. Okt. 1977; 9) Vagner R. Elegischer Möweflug // Vorarlberger Nachrichten. 28. Okt. 1977; 10) Reimann V. Wie im Zeitalter des Postkutsche // Kronen Zeitung. 16. Okt. 1977; 11) Kellermayr A.E. Szenen am «Sehnsucht» — See // Kleine Zeitung. 16. Okt. 1977; 12) Schäffer E. Schauspieler versuchen, Menschen zu beschreiben // Neue Zeit. 17. Okt. 1977; 13) Beer O.F. Urfaust und Ur-Möwe // Süddeutschzeitung. 5. Nov. 1977; 14) Spiel H. Tschechow Bahr und Wedekind // Frankfurter Allgemeine Zeitung. 2. Jan. 1978; 15) Echter Tschechow // Die Bühne. 1977. H. 11.
267. См. примеч. 266 (1).
268. См. примеч. 266 (12).
269. См. примеч. 266 (7).
270. См. примеч. 266 (12).
271. См. примеч. 266 (3).
272. См. примеч. 266 (4).
273. См. примеч. 266 (5).
274. См. примеч. 266 (6).
275. См. примеч. 266 (7).
276. См. примеч. 266 (5).
277. См. примеч. 266 (14).
278. См. примеч. 266 (6).
279. См. примеч. 266 (2).
280. См. примеч. 266 (4).
281. См. примеч. 266 (11).
282. См. примеч. 266 (7).
283. См. примеч. 266 (8).
284. См. примеч. 266 (5).
285. См. примеч. 266 (10).
286. См. примеч. 266 (5).
287. См. примеч. 266 (8).
288. См. примеч. 266 (7).
289. См. примеч. 266 (7).
290. См. примеч. 266 (5).
291. См. примеч. 266 (10).
292. См. примеч. 266 (2).
293. См. примеч. 266 (7).
294. См. примеч. 266 (11).
295. См. примеч. 266 (14).
296. См. примеч. 266 (11).
297. См. примеч. 266 (14).
298. См. примеч. 266 (7).
299. См. примеч. 266 (8).
300. См. примеч. 266 (8).
301. См. примеч. 266 (7).
302. См. примеч. 266 (10).
303. См. примеч. 266 (6).
304. См. примеч. 266 (1).
305. См. примеч. 266 (13).
306. См. примеч. 266 (10).
307. См. примеч. 266 (12).
308. См. примеч. 266 (7).
309. См. примеч. 266 (3).
310. См. примеч. 266 (14).
311. См. примеч. 266 (2).
312. См. примеч. 266 (9).
313. См. примеч. 266 (10). Последняя фраза представляет игру слов («Auch Josefin Platt wird bald Plat sein»).
314. См. примеч. 266 (7).
315. См. примеч. 266 (5).
316. См. примеч. 266 (8).
317. См. примеч. 266 (1).
318. См. примеч. 266 (8).
319. См. примеч. 266 (9).
320. См. примеч. 266 (15).
321. См. примеч. 266 (2).
322. См. примеч. 266 (4).
323. См. примеч. 266 (1).
324. См. примеч. 266 (3).
325. См. примеч. 266 (13).
326. См. примеч. 266 (11).
327. См. примеч. 266 (4).
328. Neue Freie Presse // 11. April 1906. Далее цитаты до следующей сноски из этого источника.
329. Kauer E.Th. In der Josefstadt: Anton Tschechows «Onkel Wanja» // Volksstimme. 4. Nov. 1967. Далее цитаты до следующей сноски из этого источника.
330. Спектаклю посвящены рецензии: 1) Huppert H. «Ein müßiges Leben kann nicht rein sein». Anton Tschechows «Onkel Wanja» im Akademietheater // Volksstimme. N 102. 3. Mai. 1972; 2) Hahnl H. Schwierigkeiten, Tschechow zu spielen // Arbeiter Zeitung. 3. Mai. 1972; 3) Sebestyén G. Schwüle, ermattemde Melancholie // Kronenzeitung. 2. Mai. 1972; 4) Böhm G. Auf dem Weg zu Tschechow: «Onkel Wanja» im Akademietheater bemüht sich um ein neues Image des Dichteis // Presse. 2. Mai. 1972; 5) Pizzini D. Im Sinne des Dichters. «Onkel Wanja» von Anton Tschechow // Wochenpresse. 3. Mai. 1972; 6) Blaha P. Theater des Dekors und Müßiggangs // Kurier. 2. Mai. 1972; 7) Koselka F. Tschechows Mollton findet Ausklang // Wiener Zeitung. 3. Mai. 1972; 8) Jürg H. Tschechow — ganz neu // Freiheit. Nr. 21, 19. Mai. 1972; 9) Beer O. Unheimlicher Tschechow // Süddeutsche Zeitung. 9. Mai. 1972; 10) KHR. Szenen aus dem stillen Landleben // Kronenzeitung. 29. April. 1972; 11) Rischbieter H. Die Wahrheit der Konventionen. Tschechows «Waldschrat» in Hedelberg. «Onkel Wanja» in Wien // Theater heute. Hannover. 1972. 6. Juni. Nr. 6. S. 18—19.
331. Urban P. Doktor Astrow und der Waldschrat. Zu Tschechows Arbeit am «Onkel Wanja» // Akademietheater, Saison 1971/72, H. 8. Далее цитаты до следующей сноски из этого источника. Об Иване Петровиче Войницком П. Урбан пишет, что он «сам олицетворяет эту не желающую оканчиваться, посредственную, разрушенную жизнь». «Дядя Ваня знает, что он уже не может жить так дальше, однако он продолжает жить, у него нет выбора и нет надежды, что когда-нибудь это будет по-иному».
332. См. примеч. 330 (2).
333. См. примеч. 330 (5).
334. См. примеч. 330 (5).
335. См. примеч. 330 (7).
336. См. примеч. 330 (4).
337. См. примеч. 330 (8).
338. См. примеч. 330 (6).
339. См. примеч. 330 (7).
340. См. примеч. 330 (9).
341. См. примеч. 330 (4).
342. См. примеч. 330 (2).
343. См. примеч. 330 (5).
344. См. примеч. 330 (7).
345. См. примеч. 330 (4).
346. См. примеч. 330 (1).
347. См. примеч. 330 (11).
348. См. примеч. 330 (2).
349. См. примеч. 330 (11).
350. См. примеч. 330 (6).
351. См. примеч. 330 (9).
352. См. примеч. 330 (7).
353. См. примеч. 330 (5).
354. См. примеч. 330 (3).
355. См. примеч. 330 (9).
356. См. примеч. 330 (2).
357. См. примеч. 330 (5).
358. См. примеч. 330 (4).
359. См. примеч. 330 (5).
360. См. примеч. 330 (6).
361. См. примеч. 330 (2).
362. См. примеч. 330 (6).
363. См. примеч. 330 (3).
364. См. примеч. 330 (11).
365. См. примеч. 330 (7).
366. См. примеч. 330 (1).
367. См. примеч. 330 (2).
368. См. примеч. 330 (8).
369. См. примеч. 330 (2, 3).
370. См. примеч. 330 (11).
371. См. примеч. 330 (5).
372. См. примеч. 330 (2, 8).
373. Čechov A. Onkel Wanja. Szenen aus dem Dorfleben in vier Akten / Übersetzt und hrsg. von Peter Urban. Zürich, 1973.
374. Neues Wiener Journal. 15. Sept. 1928.
375. Blätter des Theaters in der Josefstadt, Spielzeit 1940/41. H. 3.
376. Andronikowa-Toumanova N. Anton Chekhov. The Voice of Twiligth Russia. London, 1937.
377. Tonfilm, Theater, Tanz, o. O. u. o. J. Цит. по: Bednarz K. Theatralische Aspekte der Dramenübersetzung. Dargestellt am Beispiel der deutschen Übertragungen und Bühnenarbeitungen der Drama Anton Čechovs. Wien, 1969. S. 199.
378. Ibid.
379. Scharoff P. Anton P. Tschechow // Volkstheater, Spielzeit 1955—1956. H. 10. S. 2.
380. R.H. Die russische Humor ist grau. Im Volkstheater: «Drei Schwestern» von Tschechow // Wiener Zeitung. 6. März. 1956.
381. Kauer. Tschechow im Geiste Stanislawskis. «Drei Schwestern» im Volkstheater // Volksstimme. 6. März. 1956.
382. Wenzel W. Tschechow — Höhepunkt der Ruhrfestspiele. Das Gastspiel der Wiener Volkstheater // Deutsche Woche. München. 1957. 24. Juli. Nr. 30. S. 13.
383. Volkstheater O.B.: «Drei Schwestern» // Neues Österreich. 6. März. 1956.
384. Grimme K.M. Ersticktes Leben, ohnmächtige Träume. Russischer Regisseur inszeniert im Volkstheater Tschechow // Österreichische Neue Tageszeitung. 6. März. 1956.
385. См. примеч. 383. Принципиальное истолкование П. Шаровым «оптимистического» Чехова было принято критиком О.Б. с оговорками: «Шаров борется, впрочем, во всех мыслимых странах в течение долгого времени за оптимистический взгляд на чеховский театр. И его музыкальная интерпретация временами искрится оптимизмом и юмором, но это — не огонь, не пыл. В этом отношении Шаров как истолкователь Чехова ничего не прибавил к своей славе» (см. примеч. 383). Подчеркивалось различие западного и русского режиссерского подхода к пьесе. Чехов ставится на сцене Народного театра таким, утверждал К.М. Гримме, «каким развивает дальше натурализм Московского Художественного театра его бывший член. Получается принципиальное отличие от нашей манеры игры — Шаров разрыхляет пьесу, он вносит много светлого, радостного в происходящее на сцене, все мрачное, тягостное оттеснено на второй план. В целом же все происходящее, вплоть до мельчайших подробностей, мастерски инструментовано, при этом казалось бы случайное, несущественное больше всего содействует общему впечатлению» (см. примеч 384).
386. Kahl K. Optimismus auf weite Licht // Arbeiter Zeitung. 6. März. 1956.
387. Ibid.
388. См. примеч. 380.
389. См. примеч. 383.
390. См. примеч. 384.
391. См. примеч. 380.
392. См. примеч. 381.
393. См. примеч. 382.
394. См. примеч. 380. Ошибка: Паула Веселы играла роль Маши в Театре в Йозефштадте в 1940 г. В Бургтеатре «Три сестры» до этого времени не были поставлены.
395. См. примеч. 380.
396. Bednarz K. Op. cit. S. 119.
397. См. примеч. 382.
398. См. примеч. 396.
399. Спектаклю посвящены рецензии: 1) Huppert H. Tschechows «Drei Schwestern» in Akademietheater: Kein Sänger der Traurigkeit; 2) Walder F. Kreisstadtinfemo und Brandstätte // Arbeiter Zeitung. 19. Juni. 1976; 3) Sebestyén G. Triumf des poetischen Realismus // Wiener Zeitung. 19. Juni. 1976; 4) Kathrein K. Heimatslos in-ihrer Gegenwart // Presse. 18. Juni 1976; 5) Blaha P. Traum von einer neuen Welt // Kurier. 18. Juni. 1976; 6) Steiner I. Leise Verzweiflung // Vilksblatt. 18. Juni. 1976; 7) Reimann V. Ein Stück gegen Zeit und Leben // Kronenzeitung. 18. Juni. 1976; 8) Tritz Unfall rettete sie die Vorstellung // Kronenzeitung. 21. Juni. 1976; 9) Birbaumer U. Elegischer Abschied unter Blutbuchen // Salzburger Nachrichten. 18. Juni. 1976; 10) Derman. Drei Schwestern, die nicht ihr Leben dürfen. — apa-Kulturdienst. Wien. 17. Juni. 1976; 11) Pi. Spiel vom unerreichbaren Glück // Die Welt der Frau. 26. Juni. 1976.
400. См. примеч. 399 (11).
401. См. примеч. 399 (10).
402. См. примеч. 399 (7).
403. См. примеч. 399 (2).
404. См. примеч. 399 (6).
405. См. примеч. 399 (4).
406. См. примеч. 399 (7).
407. См. примеч. 399 (3).
408. См. примеч. 399 (3).
409. См. примеч. 399 (9).
410. См. примеч. 399 (2).
411. См. примеч. 399 (5).
412. См. примеч. 399 (9).
413. См. примеч. 399 (5).
414. См. примеч. 399 (7).
415. См. примеч. 399 (3).
416. См. примеч. 399 (10).
417. См. примеч. 399 (3).
418. См. примеч. 399 (9).
419. См. примеч. 399 (7).
420. См. примеч. 399 (7).
421. См. примеч. 399 (9).
422. См. примеч. 399 (10).
423. См. примеч. 399 (2).
424. См. примеч. 399 (3).
425. См. примеч. 399 (10).
426. См. примеч. 399 (7).
427. См. примеч. 399 (2).
428. См. примеч. 399 (2).
429. См. примеч. 399 (3).
430. См. примеч. 399 (3).
431. См. примеч. 399 (2).
432. См. примеч. 399 (2).
433. См. примеч. 399 (10).
434. См. примеч. 399 (2).
435. См. примеч. 399 (2).
436. См. примеч. 399 (9). Выступая на последнем представлении, восьмидесятилетняя А. Гесснер совершила поистине подвиг. Утром 19 июня «мим Бурга упала в своей квартире, получив зияющую рану на затылке. Несмотря на это тяжелое ранение головы, она после того как ей была оказана врачебная помощь во флорисдорфской больнице, заявила, что не может испортить последнее представление, и в тот же вечер выступила в спектакле» — 399 (8).
437. См. примеч. 399 (1).
438. См. примеч. 399 (9).
439. Neue Freie Presse. 13. Okt. 1916.
440. Ibid.
441. Die Zeit. Morgenblatt. 13. Okt. 1916. Далее до следующей сноски цитируется по данному источнику.
442. Die Schaubühne. 12. Jg., Bd. 2. S. 417—418.
443. См. примеч. 439.
444. Österreichische Volkszeitung. 13. Okt. 1916.
445. См. примеч. 442.
446. Neue Wiener Tagblatt 13. Okt. 1916.
447. Ibid.
448. См. примеч. 439.
449. Ibid.
450. См. примеч. 446.
451. См. примеч. 439.
452. См. примеч. 446. Актер исполнял роль Лопахина также на «Народной сцене» (Берлин) в октябре 1918 г.
453. См. примеч. 446.
454. Neue Freie Presse. 31. Jan. 1927. Далее до следующей сноски цитируется по данному источнику.
455. E. Tschechows «Kirschgarten» in der Josefstadt // Österreichische Volksstimme. 18. April. 1948. Далее до следующей сноски цитируется по данному источнику.
456. Спектаклю посвящены рецензии: 1) Kauer. Dichter der Wende. Tschechows «Kirschgarten» im Akademietheater // Volksstimme. 16. Mai. 1960; 2) h.h.h. <Hahnl H.H.> Ein Tschechow-Fest im Akademietheater // Arbeiter Zeitung. 17. Mai. 1960; 3) H.Z. Tschechows «Kirschgarten» // Neue Front. 28. Mai. 1960; 4) Dr. J. Melancholie einer untergehenden Welt // Volksblatt. 17. Mai. 1960; 5) Kindermann H. Das Schauspiel vom Untergang Alt-Russlands // Österreichische Neue Tageszeitung. 17. Mai. 1960; 6) Rollett E. Zwischen Requiem und Komödie // Wiener Zeitung. 17. Mai. 1960; 7) Weigel H. Viele Kirschen verderben den Garten. Das Unzulängliche der «Kirschgarten» — Inszenierung Gielens wird Ereignis durch Käthe Gold // Illustrierte Kronen-Zeitung. 17. Mai. 1960; 8) О.В. Gewitterschwüle unter alten Kirschbäumen // Neues Österreich. 17. Mai. 1960; 9) Weiser P. Ein melancholischer «Kirschgarten» // Kurier. 16. Mai. 1960; 10) Blaha P. Josef Gielens grossartige Schaubühne der Seele // Express. 17. Mai. 1960; 11) Fontana O.M. Tragiekomödie zwischen den Zeiten. Tschechowes «Kirschgarten» blüht in Wiener Akademietheater // Salzburger Nachrichten. 16. Mai. 1960; 12) Togberg F. Ein Garten voll mit reifen, edlen Früchten. Josef Gielens Inszenierung von Tschechows «Kirschgarten» im Akademietheater // Presse. 17. Mai. 1960. Auch: Tugberg F. Das fünfte Rad am Thespiskarren. Theaterkritiken. München; Wien, 1967. Bd. 2. S. 444—445; 13) Wickenberg E.G. Wiener Akademietheater; «Der Kirschgarten» // Tiroler Tageszeitung. 23. Mai. 1960.
457. См. примеч. 456 (3).
458. См. примеч. 456 (1).
459. См. примеч. 456 (6).
460. См. примеч. 456 (10).
461. См. примеч. 456 (5).
462. См. примеч. 456 (1).
463. См. примеч. 456 (11).
464. См. примеч. 456 (13).
465. См. примеч. 456 (5).
466. См. примеч. 456 (7).
467. См. примеч. 456 (5).
468. См. примеч. 456 (8).
469. См. примеч. 456 (13).
470. См. примеч. 456 (5). Название пьесы Гуго фон Гофмансталя «Der Schwierige» (1921).
471. См. примеч. 456 (3).
472. См. примеч. 456 (5).
473. См. примеч. 456 (8).
474. См. примеч. 456 (10).
475. См. примеч. 456 (11).
476. См. примеч. 456 (8).
477. См. примеч. 456 (7).
478. См. примеч. 456 (1).
479. См. примеч. 456 (10).
480. См. примеч. 456 (7).
481. См. примеч. 456 (11).
482. См. примеч. 456 (6).
483. См. примеч. 456 (11).
484. См. примеч. 456 (13).
485. См. примеч. 456 (5).
486. См. примеч. 456 (11).
487. См. примеч. 456 (2).
488. См. примеч. 456 (1). Марлитт (Eugenie Marlitt, 1825—1887) — автор многочисленных развлекательных романов, печатавшихся в «журнале для семейного чтения» «Gartenlaube», рассчитанном на буржуазную невзыскательную публику.
489. См. примеч. 456 (8).
490. См. примеч. 456 (7).
491. См. примеч. 456 (13).
492. По данным, сообщенным нам заведующей литературной частью Бургтеатра д-ром Сузанной Цагнер в письме от 25 февраля 1985 г.
Спектаклю посвящены рецензии: West A. Ein Zeitalter wird abgeholzt // Volksstimme. 1. März. 1983; 2) Hahnl H.H. Hochgeputschte Melodramatik // Arbeiter Zeitung. 1. März. 1983; 3) Steiner I. Viel Unkrant in der Seelenlandschaft // Volksblatt. 1. März. 1983; 4) Kathrein K. Fleckerlteppich nach Art des Hauses // Die Presse. 1. März. 1983; 5) Thun E. Ein Mann sieht Rot // Wochenpresse. 1. März. 1983; 6) Axmann D. Geschlägerte Poesie // Kurier. 1. März. 1983; 7) Plakolb L. Ungereimtes, unglückliches Leben // Salzburger Nachrichten. 1. März. 1983; 8) Thuswaldner W. Einblick in russische Seelen // Salzburger Nachrichten. 1. März. 1983; 9) Wickenberg M.G. Atmosphäre ohne Pause // Die Welt. 2. März. 1983; 10) Wimmer K. Kampf um Bäume und Muße // Kleine Zeitung. 1. März. 1983; 11) Reimann V. Weihrauch und russische Seele // Kronen Zeitung. 1. März. 1983; 12) Schäffer E. Den Morgen durch ein Stück gewiesen // Neue Zeit. 1. März. 1983; 13) Schneider M. Interessanter «Kirschgarten» ohne alle Patina an der Berg // Süd-Ost-Tagepost. 2. März. 1983; 14) Beer O.F. Eine Oper von Tschechow // Süddeutsche Zeitung. 8. März. 1983.
493. См. примеч. 492 (1).
494. См. примеч. 492 (12).
495. См. примеч. 492 (1).
496. См. примеч. 492 (2).
497. См. примеч. 492 (7).
498. См. примеч. 492 (10).
499. См. примеч. 492 (1).
500. См. примеч. 492 (10).
501. См. примеч. 492 (11).
502. См. примеч. 492 (10).
503. См. примеч. 492 (3).
504. См. примеч. 492 (9).
505. См. примеч. 492 (4).
506. См. примеч. 492 (5).
507. В.Э. Мейерхольд писал Чехову 8 января 1904 г.: «В третьем акте на фоне глупого «топотанья» — вот это «топотанье» нужно услышать — незаметно для людей входит ужас. Вишневый сад продан. Танцуют. «Продан». Танцуют. И так до конца». — Литературное наследство. Т. 68. Чехов. М., 1960. С. 448. См. комментарий Э.А. Полоцкой — XIII, 576.
508. Benning A. Notizen zum Stück // Anton Pawlowitsch Tschechow. Der Kirschgarten. Burgtheater. Saison 1982/83. H. 4.
509. См. примеч. 492 (14).
510. См. примеч. 492 (3).
511. См. примеч. 492 (6).
512. См. примеч. 492 (7).
513. См. примеч. 492 (3).
514. См. примеч. 492 (4).
515. См. примеч. 492 (14).
516. См. примеч. 492 (8).
517. См. примеч. 492 (4).
518. См. примеч. 492 (1). Враждебно настроенная к спектаклю А. Беннинга К. Катрайн упрекала режиссера в эклектизме: «Так чрезмерно возвышенное следует за избитыми, банальными затеями, досадно необязательное за прекрасными и великими местами, актеры играют в ужасающем стилистическом и языковом хаосе, который, кажется, в одном случае обязан этим Нестрого, в другом — Хорвату, в третьем — французскому фарсу» — 492 (4). Впрочем, такой упрек прозвучал только из уст этого критика, остальные видели в Беннинге самобытного и значительного художника.
519. См. примеч. 492 (14).
520. См. примеч. 492 (4).
521. См. примеч. 492 (12).
522. См. примеч. 492 (7).
523. См. примеч. 492 (8).
524. См. примеч. 492 (13).
525. См. примеч. 492 (2).
526. См. примеч. 492 (11).
527. См. примеч. 492 (4).
528. См. примеч. 492 (2).
529. См. примеч. 492 (13).
530. См. примеч. 492 (11).
531. См. примеч. 492 (14).
532. См. примеч. 508.
533. См. примеч. 492 (4).
534. См. примеч. 492 (10).
535. См. примеч. 492 (8).
536. См. примеч. 492 (1).
537. Blaha P. Josef Gielens grossartige Schaubühne der Seele // Express. 17. Mai. 1960.
538. Автор обзора выражает глубокую благодарность за помощь в работе над ним проф., члену АН Австрии, председателю Комиссии по литературоведению АН Австрии, декану Института славистики при Венском университете Гюнтеру Вытженсу, директору Бургтеатра Ахиму Беннингу и заведующей литературной частью Бургтеатра д-ру Сузанне Цаглер, Петеру Урбану — переводчику, сотруднику «Издательства авторов» во Франкфурте-на-Майне, д-ру Вольфгангу Ф. Шварцу из Саарландского университета, советнику по вопросам культуры Посольства Австрии в СССР д-ру Леопольду Мелихару. Особая признательность Австрийскому федеральному театральному союзу и г-же Кристине де Гранси за предоставленные в наше распоряжение фотографии, часть которых воспроизводится в данной книге.
| Предыдущая страница | К оглавлению | Следующая страница |