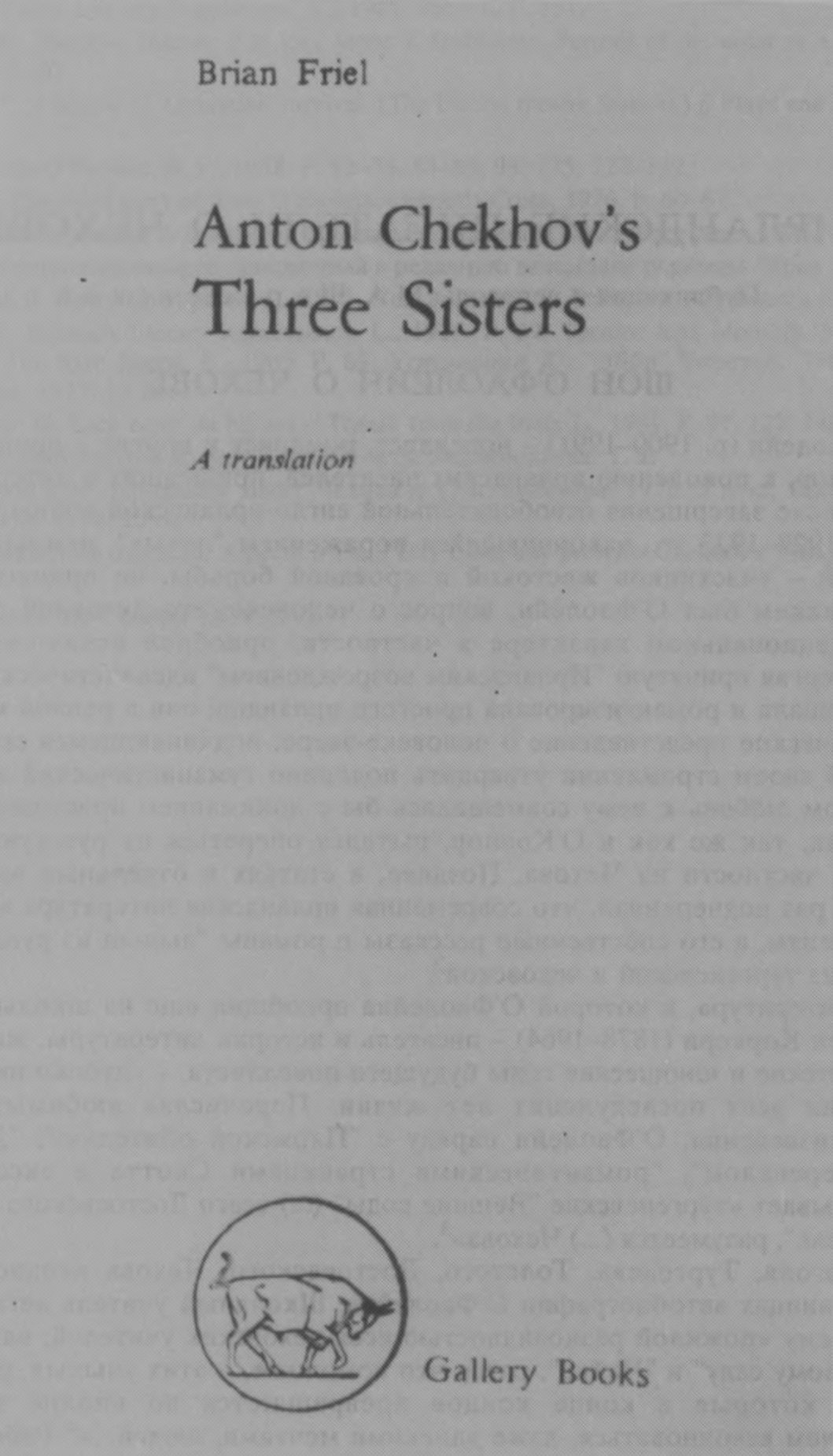Шон О'Фаолейн о Чехове
Шон О'Фаолейн (р. 1900—1991) — новеллист, романист и критик — принадлежит, как и Фрэнк О'Коннор, к поколению ирландских писателей, пришедших в литературу в первое десятилетие после завершения освободительной англо-ирландской войны 1919—1921 гг. и гражданской 1922—1923 гг., закончившейся поражением «левых», демократических сил. Для писателей — участников жестокой и кровавой борьбы, не принесшей желанных результатов, каким был О'Фаолейн, вопрос о человеке, его духовной сути вообще, о ирландском национальном характере в частности, приобрел исключительно важное значение. Отвергая принятую «Ирландским возрождением» идеалистическую концепцию, которая возвышала и романтизировала простого ирландца, они в равной мере отклоняли и натуралистическое представление о человеке-звере, подчиняющемся своим животным инстинктам. В своем стремлении утвердить подлинно гуманистический взгляд на человека, в котором любовь к нему совмещалась бы с пониманием присущих ему недостатков, О'Фаолейн, так же как и О'Коннор, пытался опереться на русскую классическую литературу, в частности на Чехова. Позднее, в статьях и отдельных высказываниях1, О'Фаолейн не раз подчеркивал, что современная ирландская литература многим обязана русским писателям, а его собственные рассказы и романы «вышли из русской традиции», прежде всего из тургеневской и чеховской2.
Русская литература, к которой О'Фаолейна приобщил еще на школьной скамье его учитель Дэниел Коркери (1878—1964) — писатель и историк литературы, живший в Корке, где прошли детские и юношеские годы будущего новеллиста, — глубоко интересовала его на протяжении всех последующих лет жизни. Перечисляя любимых писателей и любимые произведения, О'Фаолейн наряду с «Пармской обителью», «Дон Кихотом», «Грозовым перевалом», «романтическими страницами Скотта и эксцентрическими Диккенса» называет «тургеневские «Вешние воды» <...> всего Достоевского <...> «Мертвые души» и «Шинель», разумеется <...> Чехова»3.
Имена Гоголя, Тургенева, Толстого, Достоевского, Чехова неоднократно встречаются на страницах автобиографии О'Фаолейна. Школьный учитель английского языка Шин кажется ему «пожилой разновидностью всех чеховских учителей, какими мы знаем их по «Вишневому саду» и «Чайке», разве что помоложе, — этих унылых, разочарованных неудачников, которые в конце концов превращаются во вполне довольных, не способных ничем взволноваться, даже далекими мечтами, людей...»4 Работая некоторое время разъездным агентом, что давало возможность познакомиться с бытом и нравами ирландской деревни, О'Фаолейн, который «только что с наслаждением прочитал гоголевские «Мертвые души»... мечтает о том, чтобы написать их ирландский вариант»5. Свое вступление в литературный кружок «Клуб двадцати» (названный так по числу членов) он отмечает докладом о Льве Толстом — докладом, в работе над которым «осознал всю бездну незнания своего предмета»6, а первый роман, вышедший в 1933 г., «в знак восхищения Тургеневым»7 называет «Гнездо простых людей» («A Nest of Simple Folk» по аналогии с «A Nest of Gentle Folk», как озаглавлено по-английски «Дворянское гнездо» в переводе Констанс Гарнетт).
Художественный дар О'Фаолейна, как и О'Коннора, наиболее полно и плодотворно реализовался в «малом жанре», ставшем ведущим в ирландской литературе середины века. Естественно, что в свете тех задач, которые ставили себе молодые ирландские прозаики, их новелла была в основном психологической: она раскрывала и анализировала внутренний мир человека, взаимоотношения между людьми, выявляя скрытые пружины их психологической совместимости и несовместимости, причины их одиночества.
Образцом современной психологической новеллы для О'Фаолейна с самого начала стали рассказы Чехова. «Чехов — вот кто главный maitre О'Фаолейна, — приходит к выводу исследователь его творчества американский литературовед Пол А. Дойл. — Чехов был особенно по душе О'Фаолейну прежде всего тем, что он был Реалистом, который «не изменяя поэзии, настроению, поэтическому чувству, оставался верен обыденной жизни»»8. «Подобно Чехову, О'Фаолейн по существу оптимист. Он верит в человечество, несмотря на все присущие человеку преступления и безрассудства; он выступает за человека, хотя и сознает, что как сам человек непостижим, так и его проблемы неразрешимы, что беды и трагедии преследуют его на каждом шагу, что жизнь загадочна, и тем не менее ее надо изучать. Художник ищет ответ, даже, когда нет ответа. Лучшие рассказы О'Фаолейна, — заключает свое исследование П.А. Дойл, — дают ему право на титул ирландского Чехова»9.
В теоретической работе о новелле «Short Story» (вышла в Лондоне в 1948 г.), в которой О'Фаолейн обобщил свой опыт в «малом жанре», он постоянно ссылается на Чехова. Исходя из того, что художественное произведение, в особенности новелла, в силу необходимой конденсированности создается «не просто в результате владения техническими приемами»10, а является прежде всего выражением мироощущения художника, его личности, О'Фаолейн посвящает первую часть своей книги трем крупнейшим новеллистам предшествующего века — Доде, Мопассану и Чехову, определившим, по его мнению, три основных направления современной новеллистики. Доде стоит в начале истории неоромантической новеллы (глава о нем имеет подзаголовок «Романтик, которому не дали договорить»), Мопассан — натуралистической (главе о нем дан подзаголовок «Безжалостный реалист»). Чехов — создатель новеллы психологической, цель которой не только раскрыть, но и гуманизировать человеческие отношения (отсюда подзаголовок «Моралист всегда и во всем»). Во второй части книги, в которой О'Фаолейн рассматривает поэтику современной психологической новеллы, широко использованы примеры из рассказов Чехова «Хористка», «Тина», «Соседи», «Дама с собачкой» и ряда других11, а рассказ «Крыжовник» оценивается как «один из самых совершенных во всей мировой литературе»12.
Проводя различие между традиционной short story, основанной на остром сюжете или анекдоте, и современным психологическим рассказом, которому отдается несомненное предпочтение, О'Фаолейн восклицает: «Рассказы таких мастеров, как Чехов или Генри Джеймс, можно перечитывать и перечитывать: каждый ход в них — это игра на великом инструменте, имя которому человеческая природа и который и должен звучать в любом настоящем рассказе, длинном или коротком, — звучать многообразно, сложно, противоречиво, изощренно, интересно и неожиданно»13.
Ниже приводится (с некоторыми сокращениями) глава «Антон Чехов (моралист всегда и во всем)» из книги О'Фаолейна «О новелле» (O'Faolain S. The Short Story. L., Collins, 1948. P. 76—97).
Шон О'Фаолейн. Антон Чехов (Моралист всегда и во всем)
«...русские же беллетристы глупее читателя, герои их бледны и ничтожны, третируемая ими жизнь скудна и неинтересна. Русский писатель живет в водосточной трубе, ест мокриц, любит халд и прачек, не знает он ни истории, ни географии, ни естественных наук, ни религии родной страны, ни администрации, ни судопроизводства... одним словом, чёрта лысого не знает».
Из письма Чехова к Суворину от 15 мая 1889 г.
«Кто ничего не хочет, ни на что не надеется и ничего не боится, тот не может быть художником».
Из письма Чехова к Суворину от 25 ноября 1892 г.
Прежде чем сесть за эту книгу, я перечитал чеховские рассказы. Начал я почему-то с «Верочки». Я читал этот рассказ много лет назад, и у меня сохранилось впечатление, что это томно-романтическая милая вещичка с «атмосферой» и чудесным лунным пейзажем — картиной окутанных туманом полей, — и ничего больше. Перечитав «Верочку», я в который раз убедился, что надо читать ровно столько, сколько успеешь перечитать в течение каждых десяти следующих лет, потому что первый раз — в молодости — получаешь удовольствие, второй — в зрелые годы — извлекаешь урок, третий — в старости — находишь утешение или предаешься отчаянию. Перечитав «Верочку», я обнаружил совсем другой рассказ.
Вы помните «Верочку»? В юности я вынес из этой новеллы только, что некий молодой человек, по фамилии Огнев, отправившись в провинцию, знакомится со стариком Кузнецовым и его миловидной дочерью Верой или Верочкой. Перед отъездом, побывав у них в доме, Огнев бредет по освещенной луной полям и предается сентиментальным мыслям:
«Он шел и думал о том, как часто приходится в жизни встречаться с хорошими людьми и как жаль, что от этих встреч не остается ничего больше, кроме воспоминаний. Бывает так, что на горизонте мелькнут журавли, слабый ветер донесет жалобно-встревоженный крик, а через минуту, с какой жадностью ни вглядывайся в синюю даль, не увидишь ни точки, не услышишь ни звука — так точно люди с их лицами и речами мелькают в жизни и утопают в нашем прошлом, не оставляя ничего больше, кроме ничтожных следов памяти» (VI, 70).
Потом его окликает Верочка, между ними завязывается разговор, ей явно не хочется расставаться с Огневым, а он, не понимая в чем дело, роняет, между прочим, что у него никогда не было романов, и разглагольствует о том, как вот-де лет через десять они, возможно, встретятся и даже не узнают друг друга. И вдруг Верочка объясняется ему в любви, говоря, что им вовсе незачем разлучаться. Ошеломленный, Огнев признается, что не питает к ней ответного чувства, и она спешит уйти. Весь его сентиментальный вздор рассыпается в прах. Он понимает, что утратил нечто дорогое, часть своей молодости, которую уже не вернуть, возвращается в усадьбу, смотрит на дом, вздыхает, вздымает руки к небу и... удаляется.
К этому рассказу восходят сотни подражательных — «под Чехова» — современных новелл14. Но подражатели либо огрубляли свой образец топорными натуралистическими деталями, либо разжижали розовой водицей, настоенной на вишневом цвету. Они проглядели очень важную фразу: «Первый раз в жизни ему приходилось убедиться на опыте, как мало зависит человек от своей доброй воли, и испытать на себе самом положение порядочного и сердечного человека, против воли причиняющего своему ближнему жестокие, незаслуженные страдания» (VI, 80).
Остались они глухи и к авторской иронии. Более того, не уловили, что рассказ написан на главную чеховскую тему — мотив, звучащий у него почти постоянно, часто с оттенком сатиры в свойственном ему мягком ключе, столь мягком (как например, в «Трех сестрах»), что это и сатирой не назовешь! — о разочаровании в жизни, разъедающем сентиментальные души, которые обманывают себя, бегут от деятельности и, в конечном итоге, порождают ложь, самодовольство и ханжество. Переняв одну только лирическую атмосферу чеховской прозы, подражатели не увидели важнейшей ее черты — сдержанности в выражении эмоций. Чехов не растворяется в описываемых событиях, он рассматривает их как бы со стороны, хотя пишет о них на редкость прочувствованно — подход, присущий ему одному...
Право, можно было бы написать книгу о Чехове, иллюстрируя ее положения одним рассказом — «Верочкой». Поместить его на первых страницах, а затем черпать из него примеры...
Чехов не уставал повторять: «Я ненавижу ложь и насилие во всех их видах» (П. III, 11), «...я вижу их в науке, в литературе, среди молодежи. Фирму и ярлык я считаю предрассудком. Мое святая святых — это человеческое тело, здоровье, ум, талант, вдохновение, любовь и абсолютнейшая свобода, свобода от силы и лжи, в чем бы последние две ни выражались...» (П. III, 11).
И снова, говоря о той рамке, которой будет держаться в задуманном им романе: «Рамка эта — абсолютная свобода человека, свобода от насилия, от предрассудков, невежества, чёрта, свобода от страстей и проч.» (П. III, 186).
Это «евангелие нормы» определяет очень многое как в творчестве, так и в жизни Чехова, и вряд ли будет преувеличением сказать, что все его творчество есть утверждение нормы. «Обед в «Континентале», — заносит он в дневник, — в память великой реформы. Скучно и нелепо. Обедать, пить шампанское, галдеть, говорить речи на тему о народном самосознании, о народной совести, свободе и т. п. в то время, когда кругом стола снуют рабы во фраках, те же крепостные, и на улице, на морозе ждут кучера, — это значит лгать святому духу» (XVII, 225). Отсюда горький, разящий смех в «Попрыгунье» — истории, взятой прямо из жизни, с героями (прототипы: художник Левитан и его московская знакомая) настолько достоверными, что против Чехова чуть было не возбудили дело о диффамации. Отсюда же его неизменная верность рассказам о простых честных людях: врачах («Княгиня», «Супруга», «Случай из практики»), священниках («Кошмар»). Отсюда же повторяющиеся в его рассказах типы отца-изверга, себялюбца-мужа, глупого держиморды («Отец семейства», «В усадьбе», «Тяжелые люди», «Человек в футляре», «Переполох»). Все это в зачатке уже есть в «Верочке».
Во-вторых, из стойкости провинциального паренька, чей отец был крепостным, купившим себе свободу тяжелым трудом, чтобы затем держать лавчонку в Таганроге — на землях Войска донского, из ненависти к пошлости, из жажды «личной свободы» — родилась простота чеховских сюжетов. Ему в равной мере был чужд как романтизм, так и натурализм 60-х годов минувшего века... Его симпатии к людям, не зараженным пошлостью, — простым русским людям — проявились в рассказах о мужиках, написанных с огромной нежностью, порою с откровенным пристрастием. Взять хотя бы рассказ «Святой ночью», действие которого происходит где-то на Украине. Все в нем дышит такой нежностью, такой открытостью чувств — и образ умершего монаха, сочинявшего акафисты, и темная ночь, и описание парома, и толпа собравшихся на богомолье мужиков, — какие редко встретишь даже у Чехова...
В-третьих, он отличался крайней сдержанностью: мог, конечно, полностью сливаться со своими героями, вкладывая в их уста собственные слова, которые встречаются в его письмах, но, с другой стороны, — и это, повторяю, присуще только Чехову — целиком устранялся, предоставляя героям говорить самим за себя. Только так он мог быть правдив и в то же время естественен. «Садиться писать нужно только тогда, когда чувствуешь себя холодным как лед»15, сказал он однажды и, без сомнения, сам на том стоял. Его рассказы проникнуты доброжелательной иронией: словно муж подсмеивается над слабостями жены, за которые ее все равно любит. В этом сказалась целостность и чистота чеховской натуры: он ненавидел фальшь и любил простых людей, но писал о фальши с лукавой улыбкой, а о людях, не давая воли своей любви и жалости к ним.
В-четвертых (что тесно связано с предыдущим), он обладал неким свойством, которым, надо думать, был в какой-то мере обязан своей профессии врача, а также, несомненно, тому восхищению, с каким относился к Флоберу и Мопассану, а именно: трезвым, объективным взглядом ученого, исследующего физический недуг. И это придает его рассказам дополнительный интерес, усиливая их эмоциональное воздействие: в них есть интеллектуальная достоверность, ключевая идея. Невольно кажется, что доктор Чехов задался целью излечить своих героев от неврастении, взбалмошности, ненормальности. Он оставался верен своей профессии и не скрывал, что она питала его как писателя. ...Научный метод помогал ему с большим интересом разрабатывать избранный сюжет, выражая свои чувства в необходимых для каждого данного случая пределах.
Итак, я назвал:
1) ненависть к фальши при обостренном интересе к ней как к бытующему в жизни явлению;
2) приверженность к простым сюжетам, простым героям;
3) сдержанность в проявлении чувств;
4) научный подход.
Остается назвать еще одно свойство, оживляющее и возвышающее уже названные, — свойство, которое с годами все более и более становится неотъемлемой частью его натуры и которое можно с полным правом считать его верой: он искренне верил в Человека. «Какой я нытик? Какой я «хмурый человек»...?»16 — восклицал он, отказываясь понимать, почему его причисляют к пессимистам. «Я с детства уверовал в прогресс...»17 — эти слова тоже принадлежат ему. И разве не он с особенным удовольствием повторял: «Послушайте, а знаете что? Ведь в России через десять лет будет конституция»18.
В Ялте, как вспоминал Куприн, в последние годы «он с одинаковой любовью ухаживал за цветами, точно видя в них символ будущей красоты, и следил за новыми путями, пролагаемыми человеческим умом и знанием. Он с удовольствием глядел на новые здания оригинальной постройки и на большие морские пароходы, живо интересовался всяким последним изобретением в области техники и не скучал в обществе специалистов. Он с твердым убеждением говорил о том, что преступления, вроде убийства, воровства и прелюбодеяния, становятся все реже, почти исчезают в настоящем интеллигентном обществе, в среде учителей, докторов, писателей. Он верил в то, что грядущая культура облагородит человечество»19.
Эта страстная трепетная надежда выражена в последней его пьесе: «Через двести, триста лет жизнь на земле будет невообразимо прекрасной, изумительной» (XIII, 131). Разбивая ялтинский сад, он любил шутить, что преобразовал дикое место. И прибавлял уже всерьез: «Знаете ли, через триста-четыреста лет вся земля обратится в цветущий сад»20.
Человек не бросается такими словами, если не чувствует потребности в них. Оптимистов надо искать не во дворцах. Я поставил эпиграфом к этой статье одно из горчайших проклятий Чехова современной ему русской действительности; и как врач, и как исследователь каторжного Сахалина, и как выросший в бедности таганрогский мальчишка, и как человек, приговоренный к ранней смерти, Чехов испытывал острую потребность верить, что будущее станет оправданием настоящего. Но он не был пустым мечтателем. Он стремился делать дело. Как он ополчился на Суворина, когда тот написал ему (в письме от 9 марта 1890 г.), что Сахалин никого не трогает, никому не интересен!..
Да, он, художник, не мог не видеть, что жизнь ставит вопрос за вопросом, не имея на них ответов. Для художника, утверждал он, обязательно только ставить вопросы. Как человек, как врач, как собеседник, он, возможно, пытался найти решения. Но как художник, осознавший всю непостижимость тайны человеческого страдания, замолкал, как только вопрос был поставлен. И поэтому в его повестях и рассказах есть привкус слез — печали о делах человеческих, и печаль эту, не разобравшись, долгое время принимали за русский пессимизм».
Вот те черты, которые, перечитывая Чехова, я счел нужным выделить как существенные для его характеристики. И главная из них, на мой взгляд, — последняя из перечисленных: вера в Человека. Это та его черта, которая заставляет меня считать, что, не обрети он себя в прозе, он стал бы замечательным сатирическим поэтом.
2
Чехов начал как писатель-натуралист. Образцами ему служили Мопассан, Флобер, Тургенев, Толстой. После Мопассана, однажды заметил он, необычайно трудно писать рассказы, к которым стали предъявлять неимоверно высокие требования. Чеховский научный метод, его стремление к краткости, верность фактам, точность медика в описании аномалий и болезней, готовность ставить проблемы и отказ их решать, его сдержанность — все это созвучно платформе натурализма. Однако натуралистом pur sang* Чехов не был, и крайне интересно проследить, как он подчиняет натурализм своей творческой личности и как, с другой стороны, натурализм, вторгаясь, портит его рассказы, хотя в то же время несомненно уберегает их от двух зол — сентиментальности и романтизма... Если сбросить со счетов чеховский оптимизм, веру в человека, стремление отмечать в жизни светлые стороны и всепроникающую его доброту, перед нами предстал бы второй Мопассан. Но при всем восхищении писательским мастерством своих предшественников Чехов был чужд их пессимизму. «Я лелеял дерзкую мечту, — признавался он, — суммировать все то, что доселе писалось о ноющих и тоскующих людях, и своим «Ивановым» положить предел этим писаньям» (П. III, 132).
«Чеховизм» от натурализма отличает не техника письма, а мироощущение. Убедимся в правильности этого утверждения на характеристиках героев. Чехов совпадает тут с натуралистами лишь частично, — вернее, натуралисты лишь частично совпадают с Чеховым. Например, вслед за натуралистами, Чехов старался характеризовать своих героев через изображение их внешности. Однако эти портреты (за исключением разве ранних, еще несовершенных, рассказов) никогда не превращались у него в самоцель, в демонстрацию фотографий различных людей, которые, поскольку автор ничего не сообщает об их внутреннем мире, не представляют для читателя интереса. Скажем, в рассказе «Тина» (1886) читаем:
«Поручик весело спрыгнул с седла, передал лошадь подбежавшему человеку и, поглаживая пальцем свои тонкие черные усики, вошел в парадную дверь. На крыльце самой верхней ступени ветхой, но светлой и мягкой лестницы его встретила горничная с немолодым, несколько надменным лицом <...> Как раз против входа, в большом старинном кресле, откинувши голову назад на подушку, сидела женщина в дорогом китайском шлафроке и с укутанной головой. Из-за вязаного шерстяного платка виден был только бледный длинный нос с острым кончиком и маленькой горбинкой, да один большой черный глаз. Просторный шлафрок скрывал ее рост и формы, но по белой красивой руке, по голосу, по носу и глазу ей можно было дать не больше двадцати шести — двадцати восьми лет» (V, 361, 362).
Перед нами лица незнакомых людей, выставленные в витрине фотографа. Это еще не настоящий Чехов; здесь нет художественной цели. Лучшие свои рассказы он писал в иной манере, и вот, возвращаясь к «Верочке», появившейся ходом позже, мы встретимся с более типичными для Чехова художественными приемами: в «Верочке» тоже есть описания внешности, но эффект, который они производят, уже совсем иной!
«По крайней мере Огнев, вспоминая впоследствии о хорошенькой Верочке, не мог себе представить ее без просторной кофточки, которая мялась у талии в глубокие складки и все-таки не касалась стана, без локона, выбившегося на лоб из высокой прически, без того красного вязанного платка с мохнатыми шариками по краям, который вечерами, как флаг в тихую погоду, уныло виснул на плече Верочки, а днем валялся скомканный в передней около мужских шапок или в столовой на сундуке, где бесцеремонно спала на нем старая кошка. От этого платка и от складок кофточки так и веяло свободной ленью, домоседством, благодушием. Быть может, оттого, что Вера нравилась Огневу, он в каждой пуговке и оборочке умел читать что-то теплое, уютное, наивное, что-то такое хорошее и поэтичное, чего именно не хватает у женщин неискренних, лишенных чувства красоты и холодных» (VI, 71—72).
Здесь уже два характера. И этот импрессионистический метод Чехову особенно по душе...
Портрет, по правде говоря, мало привлекает его внимание, хотя он не упускает случая использовать в нужном месте описание наружности героя. В особенности второстепенного — как например, мужа героини в «Даме с собачкой», и делает это мастерски: «...он при каждом шаге покачивал головой и, казалось, постоянно кланялся. Вероятно, это был муж, которого она тогда в Ялте, в порыве горького чувства, обозвала лакеем. И в самом деле, в его длинной фигуре, в бакенах, в небольшой лысине было что-то лакейски скромное, улыбался он сладко, и в петлице у него блестел какой-то ученый значок, точно лакейский номер» (X, 139).
Из этого мимолетного впечатления возникает два характера: Гурова, который наблюдает, и мужа героини, которого описывают. Сугубая объективность, свойственная мопассановским описаниям, скажем, в «Пышке», редко встречается у Чехова. Для него куда естественнее написать вот так: «Выражение у нее было еще детское и талия тонкая, нежная; и девственная, уже развитая грудь, красивая, здоровая, говорила о весне, настоящей весне» (X, 25). Незначительное происшествие, сигнализирующий штрих, один здесь, другой там, выявляющие глубины характера — вот его метод. И нетрудно убедиться, что все эти штрихи — результат тщательного наблюдения и отбора.
Но откуда я взял, что в основе различия между этим импрессионистическим, наводящим, проникающим в глубины характера методом и объективными, внешними описаниями писателей-натуралистов лежит не столько техника письма, сколько мироощущение, вера? Да оттуда, что Чехов истово верит в человека, что характер для него — поле битвы в человеческой душе, в скрытый смысл которой он хочет проникнуть. Совсем не то у Золя, который не верит в человека, не признает за ним свободы воли, видит в человеке не человека, а скорее животное и предпочитает рисовать такое поле битвы, где сталкиваются огромные массы. Отдельная личность, не говоря уже о борьбе в ее душе, как уже неоднократно указывалось, не интересует Золя <...> Для Чехова же в каждом человеке — будь то даже набитый дурак или отпетый негодяй — скрыта священная тайна, в которую нужно проникнуть. Его «штрихи» словно записи в истории болезни, внесенные врачом, который пишет о своих больных, исходя из норм здоровья, здравомыслия и порядочности <...>
Чехов не признает ни фотографий, ни чисто внешних показаний, которыми увлекались натуралисты, и это, на мой взгляд, самое в нем замечательное. Он не раз говорил, что хочет писать только о том, что видит. Все писатели так говорят! Чехов же видел неизмеримо больше очень многих своих собратьев по перу. Пожалуй, он видел в каждом герое личность, и вместе с тем человека. В Чехове говорил поэт. Он постоянно ставил своих персонажей в ситуации, удовлетворявшие его поэтическую жилку, — ситуации, приоткрывавшие окошечки в их души, позволявшие видеть и сознавать тайну более широкого диапазона бытия, чем они или мы способны различить — не то что осознать! — в обычной сутолоке повседневной жизни.
3
Переходя от характеристики героев к приемам описания обстановки и места действия, мы также убеждаемся в различии между Чеховым и писателями-натуралистами, от которых он отталкивался. И здесь Чехов не отвергает значения внешней детали. Но в то же время и не переоценивает ее. Ему мало написать — человек повесил шляпу на гвоздик. Он пишет: «...на большой уродливый гвоздик». И мы невольно замечаем, что вся убогая мебель в доме героя — речь идет об отце Якове, нищем священнике из рассказа «Кошмар», — вместе с этим гвоздиком (незначительная деталь) каким-то образом с ним связаны и введены в рассказ не ради пустого эффекта правдоподобия. И еще мы замечаем, что любое описание у Чехова — будь то метель или погожий летний день, — где в силу общей тональности, где благодаря еле слышной перекличке с происходящими событиями, накрепко вплетено в самую ткань рассказа. Например, рассказ «Убийство» начинается с описания всенощной на маленькой железнодорожной станции:
«Все стояли в безмолвии, очарованные блеском огней и воем метели, которая ни с того, ни с сего разыгралась на дворе, несмотря на канун благовещения» (IX, 133).
Мы знаем — это не просто живописная картинка; через нее нам передается ощущение немого страдания, которое, выражая фатализм чеховских мужиков, убивает в них волю к деятельности. Точно так же в рассказе «Святой ночью» под воздействием пейзажа мы проникаемся благоговением, созвучным истории сочинителя акафистов, — благоговением, которое, смешиваясь со светлым настроением праздника и чувством благостной кротости, нисходит на рассказчика. Как это не похоже на фотографию! Как это близко поэзии!..
В картинах природы, как и в характерах героев, возникают вновь и вновь те же сигнализирующие штрихи...
Чехов избегает многословных внешних описаний, широко используемых натуралистами. Вот под диктовку отца Федора («Письмо») дьякон пишет послание своему сыну. Есть здесь хотя бы слово о том, как они садятся за стол, достают бумагу и чернила, как скрипит перо, как движется рука по бумаге и т. д. и т. п.? Нет, нет и нет. Чехов ограничивается всего несколькими словами: «Он усадил дьякона за стол и начал... Кончив писать, дьякон прочел его (письмо) вслух, просиял и встал» (VI, 159—160).
Нет у Чехова и столь излюбленных натуралистами описаний грубых сторон жизни, и это лишний раз подтверждает то, что было сказано выше о близости его прозы к поэзии. Вот богатый помещик входит в убогую церквушку, которая, судя по всему, должна вызвать в нем только отвращение. Чехов же с присущей ему мягкостью и сострадательностью пишет:
«Деревянная церковь, к которой подъехал Кунин, была ветха и сера; колонки у паперти, когда-то выкрашенные в белую краску, теперь совершенно облупились и походили на две некрасивые оглобли... Но эта бедность тронула и умилила Кунина» (V, 63—64).
Сколько же нужно было работать, сколько сокращать, сокращать и снова сокращать, чтобы в таком маленьком отрывке добиться этого единства настроения! Или, может быть, он и вправду в глубине души был поэтом, и с присущей интуицией не мог выразить мысль иначе, как придав ей форму совершенной целостности во всех без исключения частях.
4
Нельзя писать о Чехове, не упомянув, хотя бы бегло, — да больше и не получится — о его иронии — этом необычайно тонком свойстве его натуры и его произведений. Ирония окрашивает чеховские рассказы с самого начала, но только с годами она приобретает полную силу, указывая на постоянный творческий рост...
Перед нами маленький фельетон, названный Чеховым «Жизнь прекрасна!»:
«Жизнь пренеприятная штука, но сделать ее прекрасной очень нетрудно <...> Когда у тебя в кармане загораются спички, то радуйся и благодари небо, что у тебя в кармане не пороховой погреб. Когда на дачу приезжают бедные родственники, то не бледней, а торжествуя, восклицай: «Хорошо, что это не городовые!»... Радуйся, что ты не лошадь конножелезки, не коховская «запятая», не трихина, не свинья, не осел, не медведь, которого водят цыгане, не клоп... Если тебя секут березой, то дрыгай ногами и восклицай: «Как я счастлив, что меня секут не крапивой. «Если жена тебе изменила, то радуйся, что она изменила тебе, а не отечеству...» (III, 235, 236)
Право, вряд ли это только смешно. Столь же горькие строки, какие поставляют в наши газеты тысячи поденщиков пера, с тою разницей, что они не осмеливаются даже приблизиться к сатире! Тем не менее, в эти годы Чехов был весел, жизнерадостен, усиленно занимался медициной; и ему попросту не хватало времени, чтобы сосредоточиться или задуматься... В повести «Степь», чтобы не забираться глубже (она была написана после поездки Чехова на юг России в 1887 г.), ирония и грусть звучат намного сильнее, а вместе с такими рассказами как, например, «Кошмар» она, по сути дела, отмечает конец первого периода его творчества.
В 1890 г. Чеховым овладевает гнетущее чувство. Он предпринимает путешествие через Сибирь на Сахалин — чтобы ознакомиться с условиями жизни на каторжных поселениях, и его письма той поры свидетельствуют о том, сколько он размышлял над тяжелой и жестокой русской жизнью. Годом ранее А.Н. Плещеев упрекнул Чехова в «отсутствии» у него «направления», и вот что он ему ответил:
«Вы как-то говорили мне, что в моих рассказах отсутствует протестующий элемент, что в них нет симпатий и антипатий... Но разве в рассказе (речь идет о «Скучной истории» — III. О'Фаолейн) от начала до конца я не протестую против лжи? Разве это не направление? Нет? Ну, так значит, я не умею кусаться или я блоха...» (П. III, 25)
Он все время протестует — я сказал бы, «комментирует» — в «Дуэли», «Попрыгунье», «Жене», «Соседях»... А его рассказы о мужиках, как например, «Убийство», сплошь горький комментарий к тому, что называлось тогда русской действительностью, открывшейся ему еще глубже. А рассказы «Черный монах» (1894) или «Моя жизнь» (1896) «комментируют» пошлость буржуазной жизни в провинции...
Письма, которые он пишет в эти годы, чаще всего серьезные, протестующие, сигнализирующие, взволнованные письма, касающиеся животрепещущих вопросов. Их следует рассматривать в одном ряду с его врачебной и благотворительной деятельностью, которой он, начиная с 1892 г., отдал столько времени и сил... Ирония в этот период была его единственной защитой от отчаяния. Без нее он писал бы, движимый отвлеченным неприятием действительности. Ирония помогла ему сохранить любовь и жалость к людям. Прирожденный юморист, он всегда испытывал потребность над чем-то смеяться — вернее, незаметно улыбаться — пусть даже над самим собой.
Он прожил одинокую, ни с кем не разделенную жизнь; даже женившись, остался один (жена его проводила больше времени в Москве, чем с ним); «А дома — такая скука! Только и радости, что затрещит телефон, да Софья Павловна спросит, что я делаю, а я отвечу: мышей ловлю...»21
«Как я буду лежать в могиле один, так в сущности я и живу один», — внес он в свою записную книжку.
Много думающий, добрый, сердечный, чуткий человек, всегда размышляющий, всегда иронически улыбающийся над результатами своих размышлений.
5
Вот что должно особенно заинтересовать в Чехове ирландских писателей. Рассказы его — о России и о русских, но мысли неизмеримо шире: он не был регионалистом. В его произведениях легко обнаружить следы пребывания в Таганроге, Мелихове, на Сахалине, Украине — писатель не сочиняет жизнь! — но то, что лежит в основе его отношения к жизни, его евангелие нормы обнимает весь мир. Как художник он ни разу не коснулся ни славянофильства, ни другого подобного «движения». Он не переносил «движений», а любую «войну в литературе» считал приверженностью к «ярлыкам» и «предрассудком». Его интересовали честность и ложь, опустошенность индивидуальной души, личная свобода, фальшь, лицемерие, человеческие слабости и человеческие достоинства в их исконной форме. К христианству он относился так же, как Бальзак: т. е. выражал в рамках этого вероучения свое личное представление о том, какой должна быть жизнь, но никакой религии не исповедывал и не верил в бессмертие души. У него была одна осознанная цель — правдиво изображать жизнь, показывая, насколько она отклоняется от нормы.
Что до самой этой нормы, то она явно не была специфически русской. «Норма мне неизвестна, — писал он, — как неизвестна никому из нас. Все мы знаем, что такое бесчестный поступок, но что такое честь — мы не знаем. Буду держаться той рамки, которая ближе сердцу и уже испытана людями посильнее и поумнее меня. Рамка эта — абсолютная свобода человека, свобода от насилия, от предрассудков, невежества, чёрта, свобода от страстей и проч.» (П. III, 186). И поэтому его рассказы не утрачивают своего значения, где бы их ни читали. Они привлекают не специфическими или живописными подробностями, на которые так падки писатели-натуралисты, чьи герои, как и они сами, живут по нормам узкой среды. Значение чеховских рассказов не в абстрактных или предвзятых идеях, неизбежных у регионистов социального или религиозного толка. Чехов не принадлежал к тем, кто слишком много задается абстрактными вопросами о жизни и ее смысле. С него было достаточно писать о том, что видел сам — высоко порядочный, честный, немало испытавший на своем веку, несомненно русский, воспитанный в православии человек! — писать правдиво, мягко, без капли желчи, а читатели пусть сами делают выводы, каждый в силу собственного опыта и разумения. Так он изобразил через Россию весь мир.
В чем притягательность Чехова? Она в особом складе его ума, в разумности перед лицом хаоса в общественных и нравственных уложениях — хаоса, не менее ошеломляющего тогда, чем сейчас. У Чехова нашлось достаточно последовательности и ума, чтобы понять: при всем своем тонком мастерстве ни французские писатели, выступившие в 30-х годах минувшего века, ни их русские последователи не обладали «евангелием нормы»... Его творчество, в сущности, явилось конструктивной критикой жизни. Основами этой критики, исходными ее мерками были у него, как и у Бальзака, положения христианской морали. Ни тот, ни другой, насколько можно судить, не питал ни малейшей веры в мистическую сторону христианства, но оба верили в его этическую «систему» и были ей преданы сердцем и душой, исходя из нее во всем, что говорили и думали о поведении человека. Именно эта жажда «нормы» и придает Чехову его несокрушимость. Он нигде не выпячивает своего «евангелия нормы». И уж само собой разумеется, никогда ничего не проповедует. Самое большее, что можно уловить в его рассказах, — это чуть насмешливый тон. Но при этом в любом из них проступает скрытый смысл — даже в такой невесомой паутинке как «Верочка». А это значит, что в его рассказах всегда есть стержень.
6
Для целей этой книги необходимо выяснить еще один вопрос: кем же был Чехов — романтиком или реалистом? Читатель, наслушавшийся таких оценок его произведений как «чарующие», «волнующие», «насыщенные атмосферой», «поэтические» или «живописные», вполне может счесть его романтиком. Однако если мы числим Чехова среди писателей-моралистов — в том смысле, в каком моралистом был Бальзак, а я категорически ставлю их рядом — вряд ли правомерно применять к одному иное определение, чем к другому. А кому же придет в голову назвать Бальзака романтиком?! Разве что с целью придумать какие-нибудь сверхтонкие дефиниции для его мастерства, как это делает Фаге22, когда называет Золя «оголтелым романтиком».
Как Бальзак, так и Чехов — реалисты в том смысле, что для обоих существует норма достойной человеческой личности и достойного человеческого поведения — образцы и критерии, твердые, неизменные и широко принятые...
Чехов был реалистом своего, особого рода; он никого не повторял. Он шел своим путем поэзии, настроения, поэтического чувства и, находя для всего этого свои, особые средства выражения, оставался одновременно верен правде обыденной жизни. Среди его героев нет ни одного, о ком не мог бы написать Флобер; нет такой ситуации, которая была бы хоть сколько-нибудь необыкновенной; нет психологии, которая показалась бы чуждой самому обычному человеку. Рядового читателя, впервые взявшего в руки Чехова, смущает не исключительность его сюжетов, а явная их обыденность: «Они просто ходят по сцене и говорят!» Напротив, изощренных знатоков более всего озадачивает та поэтичность, которой овеяна у Чехова обыденность и, видя прекрасные туманы, они не различают за ними трезвый, насмешливый ум врача, моралиста и судьи. Таким образом, как неискушенный, так и многоопытный читатель теряет связь с личностью автора. А он вовсе не такой уж сверхрафинированный! Он просто доктор, пишущий свои диагнозы языком поэзии; его произведения порой напоминают мне картины итальянских примитивистов. Глядя на них, испытываешь неповторимое наслаждение, и не сразу замечаешь, что они столь же жизненны, сколь и прекрасны! Это гармоническое сочетание он, по-моему, и имел в виду, когда говорил, что писатель должен обладать зрелостью и чувством личной свободы, иными словами — так я это толкую — должен быть подлинно интеллигентным человеком. А что именно Чехов имел под этим в виду, мы находим в его повестях и рассказах, — он вложил в них себя.
Три сестры. Перевод Б. Фрила. Дублин, 1981
Примечания
*. чистокровным, стопроцентным (фр.).
1. См.: O'Faolain S. Ah, Wisha! The Irish Novel // Virginia Quarterly Review. V. XVIII (Spring, 1941). P. 265—274; Nichols L. Talk with Mr. O'Faolain // The New York Times Book Review. May 12. 1957. Sect. 7. P. 26—27; Diers R. On Writing: an Interview with Sean O'Faolain // Mademoiselle. V. LVI. March 1963. P. 151, 209—215. В своей автобиографической книге «Vive Moi!», говоря о внимании, которое английский критик Эдвард Гарнет, известный своей увлеченностью русской классикой, оказывал молодым ирландским новеллистам, О'Фаолейн пишет: «Мне думается порою — а не привлекало ли его новое поколение ирландских писателей тем, что на нас оказали глубокое влияние русские романисты и новеллисты» — O'Faolain S. Vive Moi! An Autobiography. L.: Rupert Hart Davis Ltd., 1963. P. 249.
2. См.: O'Faolain S. The Secret of the Short Story // UN World. V. III (March, 1949). P. 37—38.
3. O'Faolain S. Vive Moi! Р. 253.
4. Ibid. P. 100.
5. Ibid. P. 153.
6. Ibid. P. 136.
7. Ibid. P. 254.
8. Doyle P.A. Sean O'Faolain. N.Y.: Twayne Publishers, Inc., 1968. P. 125.
9. Ibid. P. 128—129; Статью об О'Фаолейне, опубликованную годом ранее, П.А. Дойл озаглавил «Чехов в Эрине: рассказы Шона О'Фаолейна» (Doyle РА. Chekhov in Erin: The Short Stories of Sean O'Faolain // Dublin Review. L., 1967. № 513. P. 263—269.
10. O'Faolain S. The Short Story. L.: Collins, 1948. P. 26. Книга «О новелле» явилась расширенным и исправленным вариантом ряда статей, которые О'Фаолейн публиковал в 1944 г. в журнале «Колокол» («The Bell»), редактором которого он был с 1939 по 1946 г.
11. Ibid. P. 138, 142—144, 147—148, 156—157, 165—167, 171, 183. Такое обилие ссылок на Чехова подтверждает выводы английского литературоведа Мориса Хармона, который указывает, что «приемы, используемые Чеховым, повлияли на совершенствование его (О'Фаолейна. — М.Ш.) более поздних рассказов» (Harmon M. Sean O'Faolain: A Critical Introduction. Notre Dame, L.: Univ. of Notre Dame Press, 1966. P. 88.
12. O'Faolain S. The Short Story. P. 157.
13. Ibid. P. 154.
14. Ср. с высказыванием Дж. Голсуорси о подражателях Чехова в статье «Силуэты четырех писателей» (Four novelists in Profile // English Review. 1932. V. 55). Частичный рус. перевод см. в ЛН, т. 68, с. 810—811.
15. Цит. по: Бунин И.А. Чехов // А.П. Чехов в воспоминаниях современников. М., 1960. С. 514.
16. Там же. С. 515.
17. Цит. п. к А.С. Суворину от 27 марта 1894 г.
18. Цит. по: Куприн А.И. Памяти Чехова // А.П. Чехов в воспоминаниях современников. С. 550.
19. Там же. С. 542.
20. Там же. С. 541.
21. Цит. по: Бунин И.А. Чехов // А.П. Чехов в воспоминаниях современников. С. 516.
22. Фаге Э. (Faguent Emile, 1847—1916) — французский литературовед и критик, автор многочисленных этюдов-«портретов» французских писателей XVII—XIX вв. и нескольких монографий, в том числе и о Золя.
Имя Фрэнка О'Коннора (псевдоним Майкла О'Донована, 1903—1966) в сознании его читателей часто соединяется с именем Чехова — почти все рекламные аннотации к его новеллистическим сборникам, выходившим с 1931 г. в Англии, Ирландии и США, содержат высказывание крупнейшего поэта современности У.Б. Йейтса: «О'Коннор делает для Ирландии то, что Чехов сделал для России».
Йейтс несомненно прежде всего имел в виду широкий охват социальной и нравственной жизни Ирландии, точно и достоверно воспроизведенной в творчестве О'Коннора. Его новеллистику сближали с чеховской обыденность и простота сюжетов, неприметность и незначительность персонажей, большинство которых принадлежит к так называемым средним или низшим общественным классам. Как и Чехов, О'Коннор в высшей степени понимал, пользуясь выражением Горького, «трагизм мелочей жизни», которые сделал основным объектом своего художественного исследования. С другой стороны, новелла О'Коннора вызывала сравнение с чеховской своей психологической направленностью. Социальная проблематика разрабатывалась в ней, как и в произведениях двух других современных ему крупнейших ирландских новеллистов, О'Флаэрти и О'Фаолейна, в психологическом ключе. Сама форма новеллы О'Коннора, основанная на «внутренней фабуле», как и техника письма, позволяли Йейтсу сопоставлять его творчество с рассказами Чехова.
Фрэнк О'Коннор принадлежит к третьему поколению современных ирландских писателей, чье творчество было неразрывно связано с борьбой ирландского народа за независимость. Первое поколение, объединившись в конце XIX в. в широкое культурное движение, известное под названием «Ирландское возрождение», ставило своей целью вернуть народу его самобытную культуру и язык, почти уничтоженный за семьсот лет английского господства. Участники движения обратились к фольклорному богатству Ирландии — сагам, мифам, легендам, прославляющим национальные черты. Ведущими жанрами в их творчестве были лирические и драматические. Однако уже на этом этапе наряду с романтизацией и идеализацией ирландской старины возникает стремление познать и понять современного ирландского труженика — крестьянина. Знаменательно, что первое значительное реалистическое произведение об ирландской деревне начала XX в. — сборник рассказов «Невспаханное поле» (1903) — было создано его автором, Джорджем Муром (1857—1933), под влиянием и по образцу «Записок охотника» Тургенева1.
Во втором поколении, вступившем в литературу незадолго до первой мировой войны (в 10-е годы XX в.), расхождение между двумя основными направлениями — романтическим, идеализирующим ирландский национальный характер, и реалистическим, рисующим быт и нравы ирландского города и деревни во всей их социальной и нравственной многоликости, становится резче. Не случайно ирландские издатели отказывались публиковать сборник рассказов Джеймса Джойса «Дублинцы», неприкрытая правда которого могла, по их мнению, «оскорбить общественные вкусы». Пронизанные горькой иронией над городским обывателем, рассказы Джойса, увидевшие свет в 1914 г. в Лондоне, вызывали чувство боли и обиды за человека. Английская критика неоднократно указывала на близость стилистики Джойса чеховской манере2.
Третье поколение — Шон О'Кейси, Лаиэм О'Флаэрти, Шон О'Фаолейн, Фрэнк О'Коннор и другие, первые успехи которых относятся к двадцатым годам и началу тридцатых годов нашего века, решительно выступили против романтизации ирландского характера, идеализации крестьянского быта и нравов. Однако реализм в тех формах, в каких он существовал в англоязычной литературе начала века, в частности в ирландской, не удовлетворял молодых писателей. В особенности это касалось новеллы, которая в конце двадцатых — начале тридцатых годов стала ведущим жанром ирландской литературы. Чеховские рассказы, отличавшиеся и содержанием и техникой письма от традиционной short story, показывали пути и приемы преобразования новеллистического жанра. В двадцатые годы почти все рассказы Чехова, написанные им после 1888 г., и значительное число принадлежащих к раннему периоду его творчества, были переведены на английский язык, получив доступ к широкому кругу читателей (см. обзор английских переводов прозы Чехова в наст. книге). «Чеховской новеллой» в Англии и США стали называть психологическую новеллу, основанную не на остросюжетной, а на «внутренней» фабуле. Признание приобрели рассказы Кэтрин Мэнсфилд (1888—1923), близко следовавшей стилистике Чехова. Не меньшее значение имело знакомство с драматургией Чехова. Чеховские пьесы и водевили ставились не только на профессиональной, но и на любительской сцене3. Опубликование писем Чехова на английском языке, так же как его дневников, записных книжек и воспоминаний о нем М. Горького, содействовали интересу к его личности. Увлечение творчеством Чехова, граничившее с «культом», было в значительной мере подготовлено полувековой известностью в Британии русской литературы — произведений Тургенева, Толстого, Достоевского. Романы и повести трех русских классиков XIX в. входили в круг обязательного чтения каждого мало-мальски образованного британца.
На первых страницах своей книги о романе О'Коннор писал:
«Замечательный ученый — кельтолог О. Берджин любил цитировать другого ученого Дж. О'Нила, уроженца Голуэя, который однажды сказал: «Для меня литературу представляют три имени — все русские».
Не помню, выступал ли я когда-либо с подобным категорическим заявлением, но твердо помню, что моей мгновенной реакцией на слова Берджина было: «Какие три?». Когда в гражданскую войну4 меня взяли в плен, в кармане моей куртки лежал «Идиот» Достоевского, а первый человек, повстречавшийся мне в коркской тюрьме, показался похожим на Бабурина; он словно сошел со страниц повести Тургенева»5.
«К концу века, — пишет далее О'Коннор, — молодежь... вполне могла бы сказать: «Для меня литературу представляют три имени — все три русские». Наконец-то до образованных людей дошло — да еще как! — что существует русская литература»»6.
Пять из шестнадцати глав в своем исследовании развития современного романа он отводит представителям русской прозы, ставя их в один ряд с крупнейшими европейскими романистами прошлого века. Повести Гоголя анализируются О'Коннором в разделе о реалистах начала девятнадцатого столетия — вслед за романами Диккенса и Бальзака. Главами о Тургеневе и Толстом открывается второй раздел, куда включены также очерки о Троллопе и Флобере. Последний раздел, посвященный предтечам реализма XX в., начинается с разбора романов Достоевского и завершается главой о Чехове, наряду с которыми рассматривается творчество Генри Джеймса и Томаса Гарди. Один только перечень этих имен указывает на то, какое значение придавал О'Коннор художественным открытиям русских писателей XIX в. и какое место отводил их творчеству в истории и развитии романа.
«...они (русские писатели — М.Ш.) обогатили художественную литературу совершенно новым элементом, — писал О'Коннор. — Каким именно — определить не так-то легко. «Сострадание» — вот то слово, которое было в ходу у критиков в дни моей юности, как будто его недоставало у Диккенса или Бальзака. И все же критики правы: русской литературе в высшей степени присуще чувство жалости, не свойственное, во всяком случае в той же мере, роману других европейских писателей. И только когда задумываешься над источником этой жалости, становится ясно, что «жалость» не совсем верное слово. Для себя я так определяю особенность русской литературы: речь идет о новом уровне глубины в подходе к человеку — об уровне, на котором он рассматривается как представитель большой социальной группы»7.
Знакомство О'Коннора с русской литературой не ограничивалось упомянутыми именами8. Он знал произведения А.Н. Островского, Лескова, Горького, Бабеля, рассказы которого в известной мере послужили ему образцом при создании цикла новелл о гражданской войне в Ирландии (Guests of the Nation, L., 1931).
О сатирическом таланте Гоголя О'Коннор вспоминал всякий раз, когда сталкивался с нелепостями и несообразностями провинциальных нравов или с бюрократической волокитой, чинимой ему коркскими чиновниками при организации библиотеки.
«Я знал на зубок своего Тургенева и Толстого, — пишет он, — но в моих отношениях с коркскими властями они мне помочь не могли. Тут нужна была хорошая порция Гоголя... «А несколько ниже восклицает: «Боюсь, здесь даже Гоголь бы мне не помог!» или «Нет, мало я знал тогда Гоголя!»9
Свои рассуждения о путях развития и особенностях современной новеллы, которой посвящена его книга «Одинокий голос; исследование рассказа» (1962), О'Коннор начинает с известной фразы: «Все мы вышли из гоголевской шинели»:
«...если сейчас перечесть «Шинель» с исторической точки зрения, — пишет он, — забыв по возможности о всех многочисленных рассказах, которые она породила, мы убедимся, что Тургенев нисколько не преувеличил. Да, мы все вышли из гоголевской «Шинели»»10.
Давая далее характеристику современной психологической новеллы, О'Коннор ведет ее родословную от Гоголя и Тургенева к Мопассану и Чехову, а от него к Джойсу, Мэнсфилд, Хемингуэю и другим. В этом списке мастеров современной новеллы Чехов занимает для О'Коннора важнейшее место. Хотя в одной из первых своих статей, посвященных русскому новеллисту, он утверждал, что «из всех великих писателей он (Чехов. — М.Ш.) оказал на меня наименьшее влияние»11, вся его творческая практика говорит о противном. Начиная со сборника «Яблоки раздора» (Bones of Contention, L., 1936) и вплоть до последнего — посмертного — «Сборника третьего» (Collection Three, 1969), новеллистика О'Коннора как по содержанию, так и по стилистике полностью вписывается в то направление англоязычной short story, которое, по справедливому мнению критики, следует предложенными Чеховым путями12. Как и Чехов, О'Коннор создает обобщенную картину современной ему жизни — жизни Ирландии 30—50-х годов — в «коротких вспышках рассказов»13. Подобно Чехову, от строит свою новеллу не на движении сюжета, а на раскрытии внутреннего, психологического сдвига в сознании героя, толчком к которому, как правило, служит внешне незначительное, неприметное происшествие. В большинстве рассказов О'Коннора первостепенную роль играет то, что в его рассуждениях о Чехове названо «нравственным зондированием» — т. е. выявление нравственной сути героя через микроскопически малые проступки — «простительные грехи» в терминологии О'Коннора, — которые, казалось бы, не затрагивают нравственную жизнь личности и не дают права выносить ей приговор. Предлагая в статьях о Чехове свою трактовку его произведений и понимание его новаторства, О'Коннор практически излагает свою творческую программу, которой неуклонно следует на протяжении всего своего писательского пути14. С этой точки зрения, новелла О'Коннора представляется не менее «чеховской», чем те short story других авторов, в которых, как например, в рассказах Кэтрин Мэнсфилд, обнаруживается сюжетное или тематическое сходство с рассказами Чехова15.
Не меньшее значение, чем творчество Чехова, имела для О'Коннора личность русского писателя. В жизненном пути Чехова, особенно в его начале, О'Коннор усматривал некоторые параллели с собственной биографией, а поведение Чехова, его отношение к семье, коллегам, общественная деятельность представлялись ему образцом для подражания16. Сам О'Коннор был выходцем из социальных низов, он вынужден был с ранних лет зарабатывать себе на жизнь. Его образование ограничивалось несколькими классами городской школы. Знанием языков (гэльского, который впоследствии преподавал и с которого успешно переводил, немецкого и французского), обширной начитанностью в гэльской, английской, европейских и в особенности русской литературах он был обязан исключительно собственным усилиям. Вся его образованность приобреталась вопреки возможностям, обычаям и установкам той среды, в которой он рос. Не случайно он придавал такое большое значение высказыванию Чехова о молодом человеке, выдавливающим «из себя по капле раба», неоднократно его цитировал, а свою наиболее завершенную и аргументированную статью о Чехове озаглавил «Сын раба»17. О'Коннор, как и большинство ирландцев его времени, был воспитан в почтении к католической церкви и ее служителям, в беспрекословном подчинении ее догмам и притязаниям. Все это, естественно, в его глазах было сходно с тем, что говорится Чеховым о «целовании поповских рук, поклонении чужим мыслям» и т. д. Задача «выдавить из себя по каплям раба» казалась ему первостепенной в применении не только к себе, но и ко всем соотечественникам, которые, освободившись от колониального рабства, были, по мнению О'Коннора, еще весьма далеки от состояния свободного человека. Задаче нравственного освобождения человека он стремился подчинить собственную жизнь и свое творчество. В этом, как ему представлялось, он следовал Чехову.
Об интересе О'Коннора к Чехову — его личности, творчеству, новаторству в драматургии, в особенности же в новелле, — говорят постоянные ссылки на Чехова в его автобиографической книге «Сын своего отца» (My Father's Son, N.Y., 1967), а также статьи, печатавшиеся в ирландских, американских и английских периодических изданиях в книгах18.
Ниже публикуются (с сокращениями) четыре работы О'Коннора о Чехове. Сокращениям подвергались в основном изложения содержания произведений Чехова, некоторые побочные рассуждения О'Коннора и повторения, переходящие из статьи в статью.
У него был безошибочный нюх на фальшь (1955)19
Среди сокровищ, пропавших с полок моей библиотеки, я числю сборник русских пьес20, включавший одноактный водевиль Чехова, в примечании к которому читателю сообщалось, что «Чехов не более чем фельетонист». Примечание это очень меня забавляло: во-первых, я не видел ничего плохого в том, чтобы быть «фельетонистом», а, во-вторых, к тому времени, когда сборник увидел свет, слава Чехова уже начала распространяться в англоязычных странах. Теперь она, пожалуй, грозит затмить славу остальных русских писателей и к тому же носит особый характер, так как отличается от признания, которое обычно выпадает на долю иностранца. Чехова у нас некоторым образом воспринимают как «своего».
Причина этому особому признанию не только в его писательском даре. Чехов единственный русский писатель, обладающий тем чувством соразмерности, которое так по душе людям английской культуры, и когда в одном из своих писем он говорит о Достоевском: «Хорошо, но... много претензий»21, мы превосходно понимаем, что он имеет в виду. У него был безошибочный нюх на фальшь: даже, когда дело касалось людей, к которым, как например к Толстому, он относился с чрезвычайным восхищением, Чехов видел малейшую искусственность и наигранность. Не будь он таким мягким человеком, он был бы величайшим сатириком. В рассказах он маскирует свои убеждения. Чтобы познакомиться с его сокровенными мыслями, следует обратиться к письмам.
Чехов, мне думается, не принадлежит к великим авторам эпистолярного жанра. Чтобы быть таковым, надо получать удовольствие, говоря о себе. Чехов же стеснялся говорить о себе: даже в письмах касался личного уклончиво и иносказательно. Я не раз ловил себя на мысли, что он в них вовсе не так уж откровенен. Тем не менее, среди его писем есть несколько подлинно великих. Как правило, они были написаны в критический момент, когда его вынуждали высказаться крайние обстоятельства — например, замечательное письмо к брату Николаю, в котором он дает определение порядочного человека22, или ряд писем к его другу и издателю Суворину, где он говорит о своем уважении к науке и справедливости <...>
Чехов (1957)23
...Чехов воистину был последним из либералов, последним писателем (XIX в. — М.Ш.), пытавшимся дать обобщенную картину мира, который на его глазах впадал в хаос. Такая картина была уже не под силу романисту, и у Чехова она предстает в коротких вспышках его рассказов, написанных преимущественно об одиноких жизнях. Роман по самой своей природе предполагает наличие группы, социальной системы, которая способна вобрать в себя отдельную личность. Рассказ — художественная форма, воссоздающая образ человека, когда общество распалось, когда каждый вынужден существовать сам по себе, освещенный, так сказать, собственным светом. Вслед за Чеховым идет Горький, последний из русских исполинов, и его герои уже даже не одинокие личности, а бродяги, скитающиеся где-то на задворках общества.
Перед Чеховым стояла та же дилемма, что и перед Тургеневым24, только намного острее. Если Тургеневу приходилось отбиваться одновременно и от славянофилов и от радикалов, то Чехову пришлось отражать нападки священников и консерваторов, с одной стороны, социалистов и материалистов, с другой. Его положение как нельзя лучше иллюстрируется тем шатким равновесием, которое он был вынужден поддерживать между своими издателями — консервативным Сувориным, публиковавшим более ранние его рассказы, и прогрессивным Лавровым, печатавшим поздние. Сам Чехов ни к каким партиям не примыкал. Он, несомненно, был привязан к Суворину, как вообще ко всем корректным, умным, интеллигентным людям. Но при всей своей деликатности, уклончивости и нерешительности, казалось бы граничившей с бесхарактерностью, в критическую минуту Чехов всегда занимал твердую позицию. Так, в споре о деле Дрейфуса он занял твердую позицию — против Суворина.
Лавров, на которого, по-видимому, иногда находили затмения, как-то назвал Чехова «беспринципным», и Чехов ответил ему гневной отповедью25, какие редко позволял себе этот застенчивый, обходительный человек. Суворин, в целом натура более тонкая, чем Лавров, также постоянно язвил Чехова, хотя умел делать это несколько учтивее, и, отвечая на его выпады, Чехов написал ряд замечательных писем, в которых защищал современную науку от «идеалистов», категорически отрицая возможность каких бы то ни было противоречий между наукой и искусством.
«И анатомия и изящная словесность имеют одинаково знатное происхождение, одни и те же цели, одного и того же врага — черта, и воевать им положительно не из чего... Если человек знает учение о кровообращении, то он богат, если к тому же выучивает еще историю религии и романс «Я помню чудное мгновение», то становится не беднее — стало быть, мы имеем дело с плюсами»26...
Наука, религия, искусство — все служит человеку во благо, говорит Чехов, и ополчаться на любую из этих областей человеческой деятельности — значит обкрадывать самих себя. Герои, которых он особенно любит и чаще всего выводит в своих рассказах, — врач и учитель, так как и тот и другой способен многое дать, чтобы сделать жизнь — пусть не нашу, так наших детей — прекраснее...
Несколько лет Чехов находился под обаянием толстовского учения и даже сам его немного пропагандировал, но в конечном итоге разочаровался в толстовстве, заявив, «что в электричестве и паре любви к человечеству больше, чем в целомудрии и воздержании от мяса»27. Дело в том, что любая группировка — будь то религиозная, политическая или литературная — внушала ему недоверие и неприязнь. «Партийность, — писал он (о кружковщине в толстых журналах. — М.Ш.), — особливо, если она бездарна и суха, не любит свободы и широкого размаха»28. Слово «свобода» здесь ключевое. Чехов был внуком крепостного раба; он собственными усилиями избавил себя от пережитков рабского состояния с его духовной скудостью и узостью, а потому постоянно был настороже, чтобы оставаться свободным от всего, что это напоминало.
Пожалуй, то основное, что разделяло его с Сувориным, раскрыто им в беспощадной маленькой притче, озаглавленной «Скрипка Ротшильда». Главный герой этого рассказа — гробовщик, юдофоб Яков Иванов — беспрестанно оплакивает якобы понесенные им убытки, не понимая, что вся его жизнь — сплошной убыток, что если он и обделен чем, то трудолюбием и человеколюбием, и что, даже по собственным его анафемским подсчетам, выгодной для него окажется только смерть. Есть у этого Якова жена, которую он мог бы любить, есть вблизи его дома река, в которой он мог бы ловить рыбу, но жена его умирает, так и не услышав от него ни единого ласкового слова, и за все долгие свои годы он так и не удосужился вытащить хотя бы одну — даже самую крохотную — рыбку из реки. А река эта, — как мы теперь, вступив с Ибсеном и Джеймсом в век метафоры29, понимаем, — не что иное как жизнь...
Мало видеть в Чехове только русского писателя, соотечественника Достоевского, о котором он в своей насмешливой манере как-то сказал: «Хорошо, но... много претензий»30. Неверно рассматривать его только в русле родной ему литературы. Чехов также непосредственный современник Шоу, с которым у него куда больше общего, чем с Достоевским. Подобно Шоу, он по сути своей оптимист (только очень поверхностная критика может относить Чехова к числу мрачных писателей!31); он, как и Шоу, оптимист, потому что верит в науку и считает, что «через двести, триста лет жизнь на земле будет невообразимо прекрасной, изумительной»32. Однако он расходится с Шоу в вопросе о значении культуры. Жизнь не станет лучше, утверждает Чехов, пока сами люди не станут лучше, а люди не станут лучше, пока не освободятся от невежества и предрассудков, пока не перестанут вопить о капиталистах, иезуитах, франкмассонах и жидах. В отличие от Шоу, Чехов анализирует жизнь с позиций общечеловеческих. И тут он ближе к Джейн Остин, чем к Шоу, потому что он — моралист, то есть писатель, исследующий нравственные проблемы; только нравственность, которой он следует, не является ни сословной, ни групповой — это нравственность писателя-новеллиста, певца одинокой души.
Чехов начинал с комических сценок и водевилей; многое из того, чему он научился, работая в малых жанрах, он перенес в свои поздние, знаменитые рассказы, но дал им новую необычайно высокую художественную форму. Непоследовательности и несообразности, которые поначалу он изображал с единственной целью — рассмешить, впоследствии стали передавать присущее человеческой душе одиночество. Смешная фраза вроде «...посылаю вам фунт цветочного чаю для удовлетворения вашей физической потребности»33 приобрела значение горького напоминания о том, что ни одна душа не способна открыться другим... Пожалуй, самый типичный чеховский диалог — это речь, обращенная к кому-то, слушающему в пол-уха или дремлющему, как в той сцене из «Вишневого сада», когда отчаявшаяся Дуняша говорит о своей безответной любви зевающей у окошка Ане. Да, добрые или дурные, мы все в равной мере одиноки, но, тем не менее, лучше быть одиноким и добрым!
Сколько бы Чехов ни доказывал Суворину, что анатомии и искусству не из чего вести друг с другом войну, собственные его рассказы свидетельствуют об обратном: борьба эта беспрестанно шла в нем самом... Этой теме посвящена самая «темная» его вещь — повесть «Дуэль», в которой выведен жалкий белоручка, интеллигентный трутень, некий Лаевский, и его любовница — Надежда, живущие вместе, хотя давно уже опостылели друг другу.
«Этот суп похож вкусом на лакрицу, — сказал он, улыбаясь; он делал над собой усилие, чтобы казаться приветливым, но не удержался и сказал: — Никто у нас не смотрит за хозяйством... Если уж ты так больна или занята чтением, то, изволь, я займусь нашей кухней.
Раньше она ответила бы ему: «Займись» или «Ты, я вижу, хочешь из меня кухарку сделать», но теперь только робко взглянула на него и покраснела»34
Перед нами не просто натуралистическая деталь, какой бы она выступала у современного Чехову французского писателя. Это деталь, введенная писателем-моралистом. Подобно резкостям, которыми обменивается с матерью Лидия Беннет35, разговор между Лаевским и Надеждой призван подсказать эталон человеческого поведения, до которого ни он, ни она не доросли, и отсутствию которого они обязаны своими несчастьями. Надежда заводит шашни с другим мужчиной и, оказавшись у него в руках, вынуждена согласиться на его гнусные домогательства. Лаевский же замышляет бросить ее и с этой целью скрывает от нее известие о том, что муж ее умер и они могут обвенчаться. Местный врач (как всегда, святой!) который держит table d'hote для ученого зоолога фон Корена и простодушного дьякона, только что кончившего в семинарии, охотно дал бы Лаевскому денег, но ему, в свою очередь, приходится занимать их у фон Корена, фон Корен же не выносит Надежду и Лаевского, позволяющих себе нападать на науку. Перед нами все тот же конфликт — между анатомией и искусством, и беда фон Корена в том, что он неспособен понять самого главного: как бы ни были виноваты Лаевский и Надежда, в глазах бога (того бога культуры и знания, которому поклоняется Чехов), оба они — с их чувствами, художественными наклонностями, образованностью — намного выше окружающей их обывательской среды. Пусть легкомыслие и привело их в лагерь тех, кто не верит в науку, но и сам фон Корен тоже принадлежит к определенному лагерю — лагерю сугубых материалистов. И по сути дела он опаснее Лаевского, ибо, как хорошо понимает Чехов, это человек безжалостный, бессердечный, не ведающий ни благоговейного страха, ни сомнений...
Возможно, «Дуэль» не самая замечательная чеховская вещь, хотя написана она великолепно. И все же в этой повести его ненавязчивый, насмешливый голос звучит чуть громче, чуть внятнее, чем обычно, разъясняя нам все другие его загадочные, неповторимые истории, которые, словно стихи или музыка, годами живут в нашей памяти. Читая «Дуэль», мы понимаем, что так же, как в «Кандиде» Шоу или в «Улиссе» Джойса, два выведенные в ней антагонистических характера по существу являются двумя аспектами одного человека — автора — и что в них отражен конфликт между разными устремлениями, существующими в нем самом. Мы видим, что шаткое равновесие, которое он пытался поддерживать между своей врачебной и писательской деятельностью, между ученым трудом о Сахалине и рассказами, между анатомией и изящной словесностью, касалось самых глубин его «я» и что в Чехове, праведнике и враче-общественнике, строившем школы и комплектовавшем на свой счет библиотеки, таился двойник, — артистическая натура — которому не было дела ни до школ, ни до библиотек, ни до прогресса, а хотелось «быть праздным и любить полную девушку»36.
«Дуэль» — своеобразное прощание с романом XIX в., полным страстных побуждений, яростных нападок и жгучих надежд. «Будем уважать науку и культуру, — как бы говорит нам Чехов, — и тогда, рано или поздно, мы одолеем болезни, нищету и невежество. Жизнь через двести, триста лет будет невообразимо прекрасной, потому что, хотим мы того или нет, есть в ней и положительное и отрицательное, и положительное, в конечном итоге, восторжествует».
Писатель, который отказался от позы (1960)37
Часто после смерти большого писателя или художника слава его словно отступает в тень. По правде говоря, такова судьба большинства хороших писателей, и чем писатель лучше, тем гуще эта тень. В конце концов, благодаря терпеливым усилиям исследователей и критиков, тень постепенно рассеивается, но даже тогда возрожденный ими образ уже не тот, каким он виделся современникам. Проще всего объяснить этот факт изменчивостью литературной моды, но, думается, дело не только в ней. Большинство писателей, даже великих, не чуждо некоторого лицедейства. Одни развивают в себе эту черту в начале карьеры, чтобы защититься от окружающей их среды, другие — в конце, чтобы, подобно коммивояжеру, сбывать свой залежалый товар. Они принимают соответствующую обстоятельствам позу, глаголят истины, чувствуют себя облеченными великой миссией. Ну, а потом, после смерти, их тотчас забывают — кому же нужен мертвый коммивояжер!..
Среди художников лишь единицы обходились без позы — например, Тулуз-Лотрек или Дега. Что же касается писателей, то не будь Чехова, я затруднился бы назвать даже одного. Чехов родился ровно сто лет назад, умер 2-го июля 1904 года (ст. стиля). За пятьдесят шесть лет, прошедших со дня его смерти, слава его нисколько не померкла. Напротив, она неизменно и незаметно росла, как когда-то рос он сам, и сегодня вряд ли найдется критик, который не отнес бы его рассказы (сам Чехов всегда считал себя второстепенным писателем и в мыслях не имел состязаться со своими великими современниками в искусстве писания романов) к величайшим достижениям русской литературы.
Я достаточно поднаторел в писании рассказов38, чтобы суметь установить те приемы, которые придают чеховским рассказам их поразительную свежесть. Приемы эти сродни тем, какими пользовались Лотрек и Дега; в конечном счете, их можно свести к натуралистическому принципу: пиши, что видишь, — простейшему принципу, если не задаваться вопросом: что же я вижу? Подобно картине Дега «Абсент»39, где главная фигура помещена отнюдь не в центре и только намечена, а не выписана, фигура же мужчины необъяснимым образом маячит где-то у самой рамы, рассказы Чехова отличаются намеренной безыскусностью композиции: персонажи появляются и исчезают, иногда речь заходит о каком-нибудь интереснейшем лице, о котором затем не говорится ни слова. Взор автора то и дело настигает мужчин, когда те натягивают штаны, а женщин, когда они поправляют чулки и, застигнутые за этими занятиями, бросают на нас возмущенные взгляды, немало содействуя общему ироническому эффекту. Впрочем, какой сатирик не владеет подобным приемом высмеивания позы! А ведь ничто не увядает так быстро, как сатира! Чехову же присуще много бо́льшее, чем ироническое отношение к своим героям!
Что только не подсказывает нам жизнь! Он начал как автор комических сценок для юмористических журналов и театров-буфф. В ту пору театры-буфф играли в литературе и искусстве значительную роль. Эти малые жанры были типичны для искусства в эпоху, когда большие жанры перестали ее представлять, — в эпоху быстрого обогащения, легковесного существования, неумеренного пьянства и неумеренного беспутства, прикрываемого защитной завесой фальши — завесой лицемерия в суде, в науке, в церкви, в печати. Как писал Гарди:
Говори, что тебе весело, когда горюешь,
Делай вид, что веруешь, ни во что не веря,
Гляди во все глаза, но ничего не замечай40.
Только юмористические журнальчики и театры-буфф осмеливались говорить правду об обществе, но говорили ее не всерьез, а как бы смотря на ложь сквозь пальцы. Так было легче — смотреть сквозь пальцы. Мопассан, начавший на авансцене, кончил за кулисами, смотря, как и другие, на все сквозь пальцы. Чехов — нищий студент — начал за кулисами, кончил же на авансцене, отказавшись смотреть на ложь сквозь пальцы, но не утратив при этом и того вйдения, которое дали ему театры-буфф. «Не будем притворяться! — словно восклицает он. — Будем говорить им правду — ту и такой, какую и какой видим ее сами. Может быть, мы все-таки чуть лучше, чем они. Может быть, с той правдой, какую мы знаем, нам удастся построить лучший мир».
И все это было в нем с самого начала. В известном письме (к А.С. Суворину. — М.Ш.) он писал о молодом человеке, имея в виду себя: «воспитанный на чинопочитании, целовании поповских рук, поклонении чужим мыслям, благодаривший за каждый кусок хлеба, много раз сеченный, ходивший по урокам без калош, дравшийся, мучивший животных, любивший обедать у богатых родственников, лицемеривший перед богом и людьми без всякой надобности, только из сознания своего ничтожества...»41
Он поставил себе целью выдавить «из себя по каплям раба». Сколько же их уже было — чистильщиков наших душ! Среди художников мы сыты ими по горло. Но здесь перед нами — один из величайших художников мира, который желал только быть «порядочным» в добром ирландском значении этого слова и был порядочным до последнего своего дня: заботился о всех членах своей семьи, держался так, словно не было у него смертельной болезни, и жертвовал всем, чем дорожит каждый истинный художник.
В десятках рассказов, написанных в период, когда сам он еще преодолевал чувство собственного несовершенства, Чехов касается проблемы «порядочности». Об этом — один из его знаменитейших рассказов «Хористка»... Любопытно, что рассказ этот почти прямо повторяет тему не менее знаменитого рассказа Мопассана — «Пышка», хотя не прошло и года, как Чехов остерегал от «мопассановщины» свою приятельницу Марию Киселеву: русские редакторы, де, тотчас распознают плагиат!42 Однако в данном случае различие куда интереснее сходства. Мопассану важно изобличить напускной патриотизм спутников Пышки. Ничего кроме их лживости он не видит. Чехов же видит все, и не только видит, но и пытается показать то, что видит, в литературе...
Невозможно понять Чехова, не осознав, что он моралист особого толка: его заботят малые грехи. Он утверждает, что душу губят в основном не убийство, не прелюбодеяние или присвоение чужой собственности, а мелкие, не идущие в счет провинности, порождаемые несдержанностью, лживостью, грубостью, неверностью. Не за прелюбодеяние будет гореть в аду героиня рассказа «Попрыгунья», изменившая своему незаметному мужу-доктору с ослепительным художником, а за тот пренебрежительный тон, каким она разговаривает с Дымовым на людях. Как Дега и Лотрек не оставляют камня на камне от стройной теории живописи, которой обучают в художественных школах, так и Чехов не оставляет камня на камне от тех представлений о нравственности, которые были приняты в XIX в. Это не та мораль, которая признавалась всеми от Джейн Остин43 до Троллопа44, хотя, полагаю, у ортодоксального богослова нашлось бы немало интересного, что сказать по ее поводу...
Чехов не только понял, как важно спрашивать себя: «Что я вижу?» Он также спрашивал других: «Что вы видите?», и в результате обнаружил: большинство людей бесконечно умнее, чем считают сами и признают окружающие. Нужно только прорваться сквозь стену лживых обобщений, за маску, которую мы все на себя надеваем, и посмотреть, каковы люди дома — с мужем, с женой, с детьми.
Нет, я отнюдь не убежден, что принцип «хорошо сделанной» картины, новеллы или пьесы лишен смысла, хотя готов согласиться с тем, что это так, когда смотрю на картину Лотрека или читаю рассказ Чехова. Пожалуй, из всех великих писателей он оказал на меня наименьшее влияние. Только однажды, посмотрев в Дублине превосходный спектакль «Три сестры», я чуть было не поддался ему. Подражание Чехову в том виде, в каком оно проявляется у Кэтрин Мэнсфилд45 или Джойса46, только вызывает во мне досаду. Навязчиво случайный состав событий, какой-нибудь произвольно взятый персонаж, введенный в повествование явно лишь для того, чтобы дать ему поговорить, действуют мне на нервы. А вот у Чехова — никогда. Объяснить это я могу только с помощью двойного парадокса. На радость ортодоксальным богословам в этике Чехова есть слабое звено: нравственное для него почти равнозначно прекрасному. Грех в его понимании — это, в конечном счете, отсутствие душевной тонкости, неспособность съесть дурно приготовленный обед, не устроив сцену жене47. И в то же время прекрасное у Чехова всегда нравственно, чего не скажешь о Мэнсфилд и Джойсе. И нет у него ничего случайного — оно только кажется таковым...
Сын раба (1962)48
Настоящей книги о Чехове еще нет, и это неудивительно. Никакой другой писатель не пострадал так сильно от упорного непонимания: ему воздавали хвалу на совершенно ложных основаниях и подражали в формах, которые крайне удивили бы его самого. В литературе, да и в жизни, он был человеком сложным: застенчивым, деликатным, его нелегко было заставить выразить сколько-нибудь категорическое суждение, исключая разве такие как «Дрейфус невиновен» или «в России учителям очень мало платят».
Он, надо думать, всегда был человеком сложным. Еще в его юности поражает противоречие: беспечный студент-медик, он пишет рассказики, порою не слишком высокого пошиба, чтобы прокормить свою, по-видимому, не слишком достойную семью. Отец его — человек грубый — кажется, ни у кого не заслужил доброго слова49, а двое братьев — люди талантливые50 — были, по всей очевидности, немногим лучше. О себе Чехов с наибольшей прямотой высказался в 1889 г. в двадцать девять лет, когда уже прочно встал на ноги. В обычной для него объективной манере он, не без горечи, советовал своему приятелю Суворину: «Напишите-ка рассказ о том, как молодой человек, сын крепостного, бывший лавочник, певчий, гимназист и студент, воспитанный на чинопочитании, целовании поповских рук, поклонении чужим мыслям, благодаривший за каждый кусок хлеба, много раз сеченный, ходивший по урокам без калош, дравшийся, мучивший животных, любивший обедать у богатых родственников, лицемеривший и богу и людям без всякой надобности, только из сознания своего ничтожества — напишите, как этот молодой человек выдавливает из себя по каплям раба и как он, проснувшись в одно прекрасное утро, чувствует, что в его жилах течет уже не рабская кровь, а настоящая человеческая»51.
Это широко известное нелегкое признание сделано человеком не просто познавшим самого себя — человеком до нелепости скромным, как утверждают его биографы, до безумия честолюбивым, как считал Суворин (в самой этой разноречивости мнений о нем уже таится часть проблемы — ведь и те и другие, по всей вероятности, правы!). Но самое поразительное: в его произведениях постепенно открывается тот путь, каким он шел, выдавливая из себя по каплям раба.
Но поскольку и сама проблема и ее разрешение в том виде, в каком она была представлена Чеховым, выглядят очевидным, неудивительно, что, по сути дела, никто не пытался исследовать ее на материале его рассказов. Раболепство, изживаемое в силу победы в человеке его высоких человеческих свойств, не является темой чеховского творчества и мало что в нем объясняет. На самом деле Чехова занимает куда более сложная проблема: он исследует источник и раболепства, и высоких человеческих свойств. Мы признаем за собой и то, и другое. Но признаем ли мы их такими, какие они есть, или же только их условные символы — упрощенные понятия мальчишеского кода чести, сводимые к антиномии «грязная скотина» и «настоящий парень»?
Мистер Стигмюллер52 упрекнул меня в том, что я, как ему кажется, провожу ходульное сравнение между Чеховым и Мопассаном. Но что прикажете критику делать? Аристофан, насколько помнится, повинен в том же грехе: он сравнивал Эсхила с Еврипидом, а глупым Аристофана не назовешь! Вплоть до восемнадцатого века все просвещенные англичане сравнивали Шекспира с Бен Джонсоном, а французы Расина с Корнелем. «В сторону Свана» и «В сторону Германтов»53 — какая старая и вечно новая история!
Сопоставление Чехова с Мопассаном почти неизбежно, так как в течение ряда лет Чехов находился под влиянием французского новеллиста. Не сразу открыв своего героя, своих «обездоленных»54, он заимствовал их у Мопассана, правда, пытаясь трактовать иначе. Примером этому может послужить рассказ «Хористка», написанный Чеховым в возрасте двадцати четырех лет... Рассказ «Аптекарша», опубликованный двумя годами позже, также мог бы принадлежать Мопассану... И еще в одном рассказе того же 1886 года — «Панихида» — также использована тема, которая — более или менее приближенно — встречается у Мопассана. В новелле Мопассана «Проклятый хлеб» проститутка по имени Анна, выдавая замуж сестру Розу, невинную девушку, справляет ее свадьбу в своей, обставленной с дешевым шиком, квартире. Жених Розы, недалекий малый, уступая просьбам гостей, поет на свадьбе весьма не подходящую случаю песенку о женщинах, торгующих собой, а отец Анны и Розы с удовольствием ему подтягивает. На этом эпизоде и кончается новелла. В замечательном рассказе Чехова старый лавочник, закосневший в своем ригоризме, заказывает панихиду по умершей дочери — «блуднице Марии», как он называет ее в поданной священнику на проскомидию записке. Священник строго выговаривает ему за нехристианское отношение к покойной, но даже во время панихиды тупой исполненный благочестия старик все равно просит бога за «усопшую рабу, блудницу Марию».
Читая рассказ Мопассана, мы целиком отдаем наше сочувствие «блуднице»; отца ее и зятя нам остается только презирать. Рассказ Чехова вызывает в нас более сложные чувства: мы жалеем не только «блудницу», но и ее старика-отца, настолько ослепленного своим высокомерием, что ему и в голову не приходит мысль — ведь не дочь его, а сам он нуждается в наших молитвах! Чехов подымается здесь на тот уровень, где стремление к справедливости достигает высшей точки, распространяясь на правых и неправых, и мы начинаем постигать, что виною многих наших несчастий и бед является изначально присущая человеку неспособность к общению с себе подобными. Речь идет уже не о трагедии справедливости и несправедливости, не об обществе и отвергнутых им, а о трагедии человеческого одиночества. И тем самым понятие «обездоленные» приобретает более широкое и богатое содержание.
Биографам Чехова не составляет труда назвать переломный в его жизни год — двадцать шестой — и доказать, что именно тогда он проникся человеческим страданием и что именно с тех пор стал другим человеком и другим писателем. Свидетельство тому — два его шедевра, «Тоска» и «Нахлебники» <...> За всю историю литературы никто не описал человеческое одиночество с такой щемящей болью!
Но творческое развитие Чехова не только в этом осознании человеческого одиночества как неотъемлемого свойства того класса людей, который мы назвали «обездоленными». Его рассказы обнаруживают глубочайшее проникновение в нравственную суть проступка — мы назвали бы это нравственным зондированием. Что это такое, можно понять, сравнив его рассказ «Тоска» с новеллой Кэтрин Мэнсфилд «Жизнь матушки Паркер», почти повторяющей чеховский рассказ. У матушки Паркер умер внучек, и, убитая горем, она пытается излить душу литератору, у которого нанялась убирать квартиру, но единственные слова, которые у того находятся для нее: «Надеюсь, похороны прошли... удачно», и он тут же принимается бранить ее за выброшенную щепотку какао. В новелле Мэнсфилд нет нравственного зондирования: литератор, нанявший матушку Паркер, просто бессердечное животное, и любой читатель вправе его презирать. Иное дело седоки из чеховской «Тоски». Они такие же люди, как мы с вами, занятые собой и собственными заботами, и если они и повинны в том, что у старика-извозчика разрывается от одиночества сердце, то ведь и мы могли бы совершить такой же проступок.
Мне вспоминается один очень типичный чеховский рассказ55, я читал его давно и сейчас не нашел, но он, по-видимому, ранний и принадлежит примерно к тому же периоду, что и упомянутые выше. Тема рассказа — мопассановская. Дождливым вечером некий молодой человек отправляется на свидание к своей любовнице, замужней женщине, чей супруг часто находится в отлучке. Отпустив извозчика, молодой человек дергает за звонок у знакомой двери, и ему открывает... муж. Пробормотав какое-то извинение, герой остается на улице, пряча от дождя привезенные с собою цветы. В конце концов, чтобы не промокнуть насквозь, он снова звонит в ту же дверь, выдавая себя за рассыльного из цветочного магазина. На этот раз из спальной появляется жена и, заявив, что давно его ждет, уводит к себе. Свидание состоится, но, когда утром герой покидает дом, минуя спящего в гостиной мужа, он чувствует себя крайне неловко.
На три четверти рассказ читается как новелла Боккаччо или Мопассана, и мы с удовольствием ждем, с помощью какого трюка любовники одурачат ревнивого рогоносца. И вдруг Чехов словно говорит: «стоп!» и отказывается продолжать игру. Нет, муж вовсе не ревнив, жена не чувствует ни малейшей неловкости, сокрушенным оказывается любовник, потому что он нормальный, порядочный человек, которому до сих пор не приходилось смотреть на адюльтер с такой стороны. Это отнюдь не означает, что Чехов ополчается против супружеской неверности как таковой — он и сам был не лишен романтических чувств, да и знал, что измена требует порой от человека подлинных добродетелей: мужества, преданности. Нет, ему претит ложь, претит равнодушие к чувствам другого человека. Своим рассказом он, по-видимому, хочет сказать, что жена — дурная женщина, но дурная по причине, какую до него не выдвигал ни один моралист, — по причине равнодушия к чувствам другого человека. Техника рассказа, насколько помнится, не блещет ни особым мастерством, ни отточенностью, а вот тема его такова, что она пройдет через все творчество Чехова вплоть до самого конца...
Другая тема, господствующая в поздних рассказах Чехова, — человек, выступающий в ложной для себя роли. По-видимому, тема эта имела для Чехова личное значение. В замечательных воспоминаниях о своем покойном друге Горький рассказывает, как ловко тот умел, дав людям покрасоваться в ложной роли, задать им вопрос с целью выявить их настоящее «я». Так, однажды к Чехову явились три дамы и принялись разглагольствовать о войне между Грецией и Турцией — предмете, в котором ничего не смыслили, и Чехов, послушав немного, спросил, любят ли они мармелад, вернув их в родную стихию56... Критикуя кого-нибудь, Чехов никогда не называл очевидных, серьезных недостатков. «Очень талантливый человек! — говорил он об одном журналисте. — Пишет всегда так благородно, гуманно... лимонадно. Жену свою ругает при людях дурой». Или о другом: «Все знает. Читает много. У меня три книги зачитал»57. И нетрудно заметить — речь всегда идет о малых, простительных грехах, о том, из чего создается ложная роль.
Без этой темы — темы «ложной роли» — практически не обходится ни одно зрелое произведение Чехова. Иногда, как например в рассказе «Письмо» (1887), он касается ее очень мягко, с добродушным юмором... В «Дуэли» — повести, которую по длине вполне можно считать романом, Чехов трактует эту тему особенно глубоко... Описание внешних и внутренних обстоятельств, вынуждающих Лаевского признаться самому себе, что он не то, чем себя считает, самый замечательный отрывок из всего прочитанного мною у Чехова. Ложная роль, в которой Лаевский выступает перед собой и людьми, — результат мелкой лжи, мелких обманов, все малые, простительные грехи: Лаевский не из той породы людей, которые способны отважиться на один, но смертный грех, разрешающий все трудности разом и оставляющий человека наедине со своим подлинным «я». Сначала ему кажется, что для того, чтобы выпутаться из трудного положения, в которое он попал, достаточно одной маленькой, «вынужденной» неправды, и он будет свободен для новой жизни, но сложности громоздятся одна на другую, он впадает в отчаяние и понимает: одной единственной ложью ему не обойтись, так как он уже дошел до такого состояния нравственного рабства, когда любая неправда неизбежно влечет за собой следующую:
«...В воображении Лаевского выросла целая гора лжи. Чтобы перескочить ее в один раз, а не лгать по частям, нужно было решиться на крупную меру — например, ни слова не говоря, встать с места, надеть шапку и тотчас же уехать без денег, не говоря ни слова, но Лаевский чувствовал, что для него это невозможно»58.
В этой подчеркнутой мною последней строке вся соль рассказа. В ней определение нравственного рабства. По понятиям христианской морали Лаевский не совершает ни одного смертного греха, но те малые, простительные грехи, которые он непрерывно совершает, бесконечно разрушительнее для души, чем любой смертный грех: ведь ему ничего не стоит, вытеснив их из сознания, по-прежнему считать себя благородной, интеллигентной личностью, человеком с либеральными, гуманными взглядами, тогда как на самом деле он не заслуживает даже того, чтобы называться порядочным человеком. Но насмехаться над ним могут позволить себе лишь те, кто неповинен в малых грехах! Чехов, исследуя собственную душу, не числит себя среди таковых...
Самый тщательный анализ чеховских идей, не слишком многочисленных и старательно завуалированных, — ведь он прежде всего художник! — не дает полного представления о широте его диапазона. Диапазон этот поистине необозрим, и необозрим потому, что Чехов сознавал: сколь бы печальной ни была наша жизнь, она тем не менее прекрасна! Но чтобы оценить ее, человек должен быть свободен — свободен не только от внешней тирании: тирании отцов и бессердечных чиновников, но и от тирании внутренней: от раздражительности, эгоизма, жадности. Редкие вспышки гнева вызывали в нем те его персонажи, которые целиком погрязли в рабстве, внешнем и внутреннем, люди, не способные видеть жизнь, — Лаевские, утратившие даже надежду на спасение. Лучшим ранним рассказом из этого ряда можно считать «Смерть чиновника»... еще беспощаднее звучит «Скрипка Ротшильда»... а вершиной является «Человек в футляре», один из трех непревзойденных рассказов, написанных Чеховым в 1898 г. в совершенно новой манере...
В последние годы, вместе с все возрастающим осознанием краткости и красоты человеческой жизни, Чехов все больше осознавал необходимость понять ее во всех ее поворотах. Именно в этот период им написана самая чудесная из всех его комедий — «Вишневый сад» — и несколько рассказов, исполненных такой чистой поэзии, что, на мой слух, они звучат почти как музыка...
Примечания
1. См.: Moore G. The Untilled Field. Leipzig, 1904. P. 5—6; Алексеев М.П. Мировое значение «Записок охотника» // Творчество И.С. Тургенева: Сб. статей. М.: Учпедгиз, 1959. С. 116.
2. См.: Levin H. James Joyce, a Critical Introduction. L., 1944. P. 30; Grose K. James Joyce (Life and Work). L., 1975. P. 19; Anderson C.G. James Joyce and his World. N.Y., 1978. P. 52 a. oth.
3. Например, любительская драматическая труппа г. Корка, организованная и руководимая Фрэнком О'Коннором в 1927—1928 гг., ставила пьесы «Медведь» и «Вишневый сад».
«20-го февраля 1928 г. в Гогг-Холле, — вспоминает друг О'Коннора и участник труппы Шон Хендрик, — мы поставили «Круглый стол» Л. Робинсона (Робинсон Леннокс, 1886—1958, — ирландский драматург. — М.Ш.) и в качестве «заставки» перед началом спектакля сыграли «Медведя» Антона Чехова. Сборы были полные... Тогда Майкл (Фрэнк О'Коннор. — М.Ш.) приступил к исполнению своей давней мечты — поставить «Вишневый сад». В нашем распоряжении была крохотная сцена — восемнадцать футов в ширину и десять в глубину — с толстыми стенами вместо кулис и только одним выходом в заднем углу, но это Майкла не остановило. Мы начали репетировать пьесу, назначив премьеру на апрель. Но в апреле Майкл попал в больницу из-за аппендицита, так что первый спектакль состоялся 7-го мая <...> Ни одна пьеса — ни до, ни после — не пользовалась у исполнителей таким успехом. К сожалению, коркский зритель их энтузиазма не разделил...» (Hendrick S. Michael O'Donovan's Wild Son. — Michael/Frank. Studies on Frank O'Connor / Ed. by M. Sheehy. Dublin; L., 1969. P. 14.)
4. Речь идет о гражданской войне в Ирландии 1922—1923 гг.
5. O'Connor Fr. The Mirror in the Roadway: A Study of the Modern Novel. L., 1957. P. 3. Находясь в лагере для военнопленных в 1923 г., О'Коннор написал конкурсную работу о Тургеневе, отмеченную первой премией. — См.: O'Connor F. An Only Child. N.Y., 1961. P. 274.
6. O'Connor F. The Mirror in the Roadway. P. 97.
7. Ibid.
8. «Кто-то заметил, что он (О'Коннор. — М.Ш.) похож на русского крестьянина, — пишет по этому поводу Шон Хендрик. — «Это потому, что ты так много читаешь русских!» — объяснил Коркери» (Дэниел Коркери, 1878—1964, — ирландский писатель, учительствовавший в Корке и сыгравший значительную роль в судьбе О'Коннора и О'Фаолейна, направив их на литературную стезю) — Michael/Frank. Op. cit. P. 6.
9. O'Connor F. My Father's Son: An Autobiography. N.Y., 1969. P. 51, 52, 55.
10. O'Connor F. The Lonely Voice: A Study of the Short Story. Cleveland; N.Y., 1962. P. 14.
11. См. также в наст. кн., с. 548—549.
12. Р. Эллман, говоря о рассказах О'Коннора, называет их «чеховским исследованием ирландской жизни». См. Michael/Frank. Op. cit. P. 26. О близости творческой манеры О'Коннора стилистике Чехова пишет Ш. Линем: «Мы разделяли с ним (О'Коннором. — М.Ш.) восхищение Чеховым и без конца обсуждали его метод. Подобно Чехову О'Коннор считал, что «атмосфера» должна возникать из нескольких едва намеченных штрихов, характеры же нуждаются в описании. Подобно Чехову, он полагал, что лунную ночь можно изобразить, упомянув о лающей собаке и свете, играющем на осколке бутылки...» (Там же. С. 87—88).
13. См. наст. кн., с. 559.
14. Ирландский филолог Морис Шии справедливо замечает: «То, что Майкл (О'Коннор. — М.Ш.) писал о Чехове — писателе, которым он восхищался как ни одним другим, — он говорил о себе» (Michael/Frank. Op. cit. P. 122).
15. См. Schneider E. Katherine Mansfield and Chekhov // Modern Language Notes. 1935. V. 50. P. 394—397; Шерешевская М.А. Мэнсфилд и Чехов // Учен. зап. ЛГУ. 1957. № 234. Сер. филол. наук. Вып. 37.
16. Чехову старались подражать даже в личной жизни. Так, О'Коннор в шутливом тоне рассказывает, как решил жениться на примадонне любительского театра, которым руководил в Корке: «Я как раз читал письма Чехова к Ольге Книппер и, надо думать, пришел к выводу, что мне тоже необходимо иметь «свою» актрису. Увы, Нэнси ничем не походила на Книппер <...> Я дал ей почитать письма Чехова, но они, по-видимому, не произвели на нее должного впечатления. Во всяком случае, замуж за меня она не вышла...» См.: O'Connor F. My Father's Son. P. 61.
17. Это заглавие, возможно, было подсказано О'Коннору следующей цитатой из книги У. Джерхарди «Антон Чехов» (Gerhardi W. Anton Chehov. A Critical Study, L., 1923): «Антон Чехов, сын крепостного (the son of a serf) является самым чутким, самым проницательным и при этом самым сдержанным и по-доброму насмешливым из всех русских писателей, к тому же и самым интеллигентным человеком». См.: Gerhardi W. Anton Chehov. P. 68. Serf — «крепостной», «раб»; синоним: «slave» — «раб» — слово с более широким значением. Известная цитата из письма Чехова к Суворину — «выдавливает из себя по каплям раба» — переведена К. Гарнетт: «squeezes the slave out of himself drop by drop» Глава о Чехове в книге О'Коннора — «The Slave's Son».
18. См.: Anton Chekhov // The Irish Times. Nov. 24. 1945; He had an Unerring Nose for Humbug of Any Sort // The New York Times Book Review». April 24. 1955; Chekhov // O'Connor Fr. The Mirror in the Roadway: A Study of the Modern Novel. L., 1957. P. 251—262; A Writer Who Refused to Pretend // The New York Times Book Review. Jan. 17. 1960; The Slave's Son // O'Connor F. The Lonely Voice: A Study of the Short Story. P. 78—98 (публиковалась под тем же названием в «Kenyon Review. Winter. 1963. V. 25. P. 4053); «A Master's Mixture» // The New York Times Book Review». March 1. 1964.
Ксерокопии газетных статей для данной публикации любезно предоставлены английским литературоведом Патриком Майлсом, за что ее автор выражает ему благодарность.
19. «У него был безошибочный нюх на фальшь» («He had an Unerring Nose for Humbug of Any Sort») — рецензия на сборник «Избранные письма Антона Чехова» в переводах С. Ледерер, изданный Л. Хеллман (The Selected Letters of Anton Chekhov / Ed. by Lillian Heilman // Tr. from the Russian by Sidonie Lederer. N.Y., 1955). Публикацию см.: The New York Times Book Review. April 24. 1955. P. 4. Эта вторая статья О'Коннора о Чехове, так же как и первая (Anton Chekhov // The Irish Times, Nov. 24. 1945. P. 2), в основном освещает жизненный и творческий путь писателя. Главные положения, изложенные в этих статьях, были более четко сформулированы О'Коннором в трех следующих работах о Чехове, публикуемых ниже. Здесь приводится начало рецензии.
20. Речь идет о сб. «Пять русских пьес...» (Five Russian Plays with one from the Ukrainian // Tr. from the originals with an intr. by C.E. Bechhofer. L., 1916), куда вошли чеховские водевили «Свадьба» и «Юбилей».
21. Цитируется письмо к А.С. Суворину от 5 марта 1889 г. Цитата дана с сокращениями. Полный текст. «Хорошо, но очень длинно и нескромно. Много претензий». — П., III, 169.
22. Имеется в виду письмо к Н.П. Чехову, датируемое мартом 1886 г. См. П., I, 221—225.
23. «Чехов» — глава из книги Фр. О'Коннора «Зеркало на дороге». Исследование современного романа (F. O'Connor. The Mirror in the Roadway. P. 251—262). Приводится с сокращениями.
24. В той же книге в главе, посвященной Тургеневу (с. 127—147), О'Коннор писал, что Тургенев «вызвал на себя огонь сразу двух противоборствующих групп — славянофилов <...> и радикалов, которые полагали, что литература существует единственно для того, чтобы служить общественным интересам. Подобно Чехову, которому досталось в конце века, его дубасили с двух сторон» (Там же. С. 133—134).
25. Имеется в виду отзыв о Чехове в анонимном обозрении периодических изданий, опубликованных в журнале «Русская мысль» (1890, март), издателем которого был В.М. Лавров. Автором обозрения, в котором имя Чехова прозвучало в числе «жрецов беспринципного писания», был не Лавров, а Е.С. Щепотьева. Уезжая на Сахалин, Чехов ответил на этот выпад письмом В.М. Лаврову от 10-го апреля 1890 г. — (П., IV, 54—57.) См.: Долотова Л.М. Чехов и «Русская мысль» (К предыстории сотрудничества в журнале) // Чехов и его время. М.: Наука, 1977. С. 265—283.
26. Цит. п. к А.С. Суворину от 15 мая 1889 г.
27. Цит. п. к А.С. Суворину от 25 марта 1894 г.
28. Цит. п. к А.Н. Плещееву от 23 января 1888 г.
29. Так же, как и пьесы Ибсена, романы Джеймса, в особенности последнего периода его творчества — «Крылья голубки» (1902), «Послы» (1903), «Золотая чаша» (1904) с элементами символизма на уровне сюжета и образов, воздействовали на развитие психологизма в литературе XX в.
30. См. примеч. 21.
31. Такая точка зрения на творчество Чехова высказывалась рядом английских критиков — Лонгом, Берингом и др. в первом десятилетии XX в.
32. Цит. монолог Вершинина («Три сестры») (XIII, 131).
33. Цитата из повести «В овраге» (X, 148).
34. Цитата из повести «Дуэль» (VII, 365).
35. Лидия Беннет — персонаж из романа Джейн Остин «Гордость и предубеждение».
36. Цит. п. к Л.С. Мизиновой от 27 марта 1894 г.
37. «Писатель, который отказался от позы» («A Writer Who Refused to Pretend») — юбилейная статья к столетию со дня рождения Чехова; опубликована: The New York Times Book Review. Sec. 7. Part I. January 17. 1960. P. 1, 24. Приводится с сокращениями.
38. К 1960 г. Фрэнк О'Коннор был одним из ведущих англоязычных новеллистов, автором десяти сборников рассказов, заслуживших признание критики и читателей. С 1951 по 1961 гг., во время пребывания в США, он по приглашению американских университетов вел курс по теории и практике современной новеллы.
39. Имеется в виду картина Дега «В кафе. Абсент», 1876 (Париж, Лувр).
40. Гарди Томас (1840—1929) — английский романист и поэт. Цитируется стихотворение Гарди «К справедливости» («To Sincerity») 1899. См.: Times Laughingstocks and Other Verses by Thomas Hardy. L., 1909. P. 172.
41. П. к А.С. Суворину от 7 января 1889 г.
42. Имеется в виду п. к М.В. Киселевой от 29 сентября 1886 г., в котором Чехов писал: «Избегайте популярных сюжетов. Как ни тупоголовы наши гг. редакторы, но уличить их в незнании парижской литературы, а особливо мопассановщины, труд нелегкий».
43. Психологические романы Джейн Остин (1775—1817), по мнению О'Коннора, в значительной мере определили развитие этого жанра в английской литературе XIX в. См.: O'Connor F. The Mirror in the Roadway: A Study of Modern Novel. L., 1956.
44. Троллоп Энтони (1815—1882) — английский писатель, автор нравоописательных романов, которые Фрэнк О'Коннор считал завершающими в развитии английского реалистического романа XIX в. См. там же.
45. Признавая зависимость новеллы Мэнсфилд от чеховской манеры, но обнаруживая в ее рассказах некоторую натянутость и фальшь, О'Коннор настойчиво подчеркивал несоизмеримость литературных дарований и значимости русского классика и его английской ученицы. См.: O'Connor F. The Lonely Voice. P. 128—142.
46. По мнению критики, в ранних рассказах Джойса, объединенных в сб. «Дублинцы» (1914), обнаруживается влияние чеховской манеры. См. примеч. 2.
47. Ссылка на эпизод из повести Чехова «Дуэль» (VII, 365).
48. «Сын раба» (The Slave's Son) — глава из книги: O'Connor F. The Lonely Voice: A Study of the Short Story. P. 78—98; публиковалась также как статья в журнале: Kenyon Review. Winter, 1963. V. 25. P. 4054. Приводится с сокращениями.
49. Мнение, очевидно почерпнутое О'Коннором из воспоминаний Ал.П. Чехова, опубликованных в английском переводе в кн.: Anton Tchekhov; literary and theatrical reminiscences / Translated and edited by Koteliansky S.S. L.: George Routledge and Sons, Ltd., 1927, а также из кн.: Ермилов В.В. Антон Павлович Чехов, 1860—1904 (Yermilov Vl.Vl. Anton Pavlovich Chekhov, 1860—1904. M.: Foreign Languages Publ. House, 1956; L.: Sidgwick Publishers, 1957).
50. Имеются в виду Александр Павлович Чехов (1855—1913) и Николай Павлович Чехов (1858—1899).
51. Цит. п. к А.С. Суворину от 7 января 1889 г.
52. Стигмюллер Фрэнсис (р. 1906) — американский литератор, автор книг о Флобере (Flaubert and Madame Bovary, 1939), Мопассане (Maupassant: a Lion in the Path, 1949), Аполлинере (Apollinaire. Poet among Painters, 1963) и других.
53. Имеются в виду части многотомного романа Марселя Пруста «В поисках утраченного времени» (1913—1927).
54. По мнению О'Коннора, которое он изложил в книге «Одинокий голос. Исследование рассказа» (The Lonely Voice. P. 13—19) отличие этого жанра от романа заключается прежде всего в выборе героя и отношении к нему. Роман — всегда целостная картина общества. В нем есть хотя бы один герой, с которым читатель может идентифицировать себя и, исходя из его примера, определить свое отношение — враждебное или одобрительное — к этому обществу. В рассказе нет ни такой картины, ни такого героя. Рассказ повествует не об обществе в целом, а об «обездоленных группах населения». Каждый новеллист, утверждает О'Коннор, прослеживая историю современной новеллы, открывает свой пласт «обездоленных»: у Гоголя — это мелкие чиновники, у Тургенева — крепостные, у Мопассана — проститутки и т. д.
55. Речь пойдет о рассказе «Неприятная история» (1887).
56. Ссылка на воспоминания А.М. Горького о Чехове (1905) (см. Горький М. А.П. Чехов // Собр. соч. в 30 т. М., 1950. Т. 5. С. 422). В английском переводе впервые появились в кн.: The Note-books of Anton Tchekhov, together with Reminiscences of Tchekhov by Maxim Gorky // Tr. by S.S. Koteliansky and L. Woolf. Richmond (Engl.), 1921.
57. Там же. С. 424—425.
58. Цитата из повести «Дуэль» (VII, 414—415).
| Предыдущая страница | К оглавлению | Следующая страница |