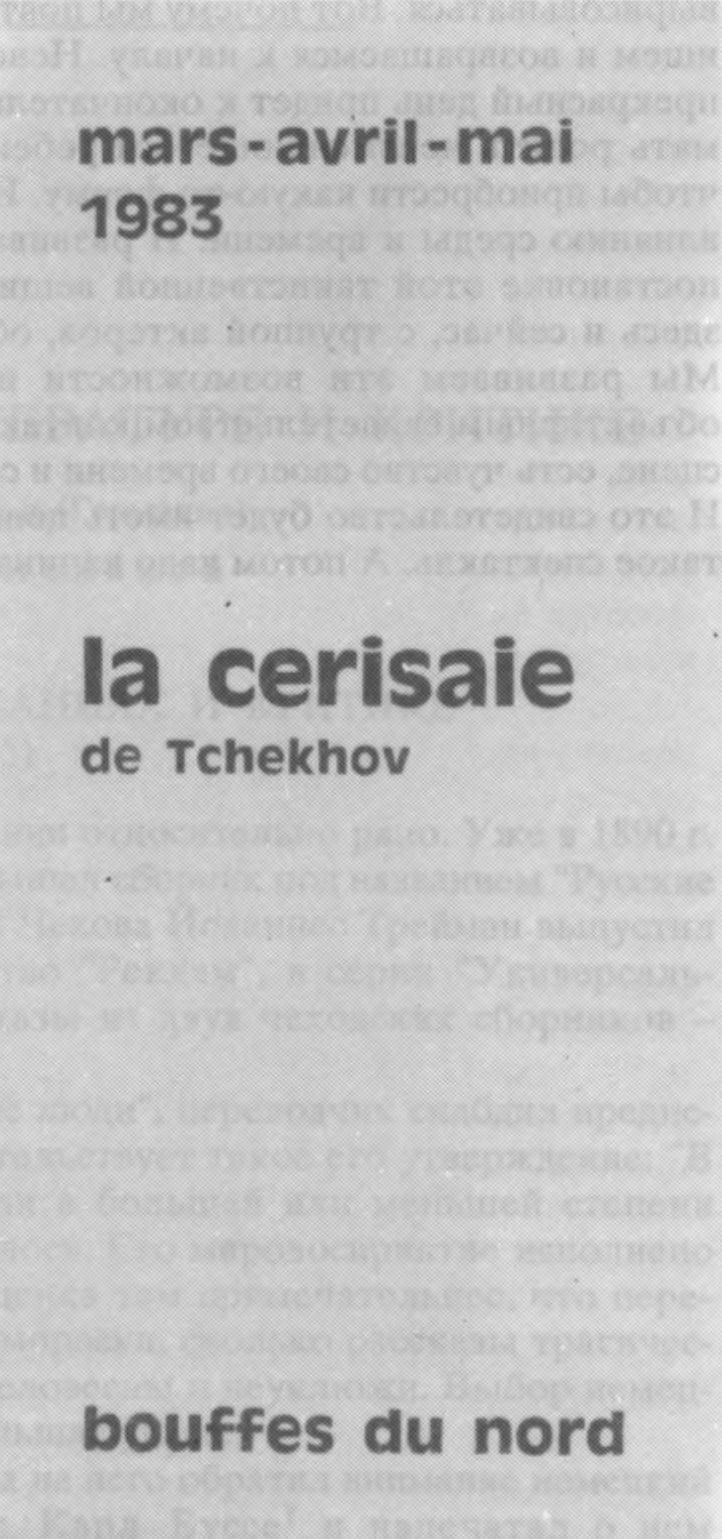Я прочел четыре или пять переводов «Вишневого сада» на французский язык, на английский — того больше. И русский текст. Я учил русский еще студентом, в Оксфорде, и сейчас немного читаю. Вместе с матерью Наташи Парри, моей жены, — она русская — и Жаном-Клодом Каррьером мы сделали совершенно новый перевод. Вообще, надо время от времени пересматривать переводы. Как и спектакли, они всегда несут на себе отпечаток Эпохи.
Мироощущение меняется, был момент, когда чувствовалась потребность в текстах, воссозданных поэтом. Сегодня стремятся к верности оригиналу, к прояснению каждого слова. Эта установка особенно существенна, когда имеешь дело с Чеховым, ибо самое важное его качество — точность. Я бы сравнил его поэтическое искусство с тем, что прекрасно в фильме, — с последовательностью естественных и правдивых картин. Да и Чехов искал естественности и хотел, чтобы актеры и постановка были прозрачны, как сама жизнь. Но чтобы передать чеховскую атмосферу, у нас делали его очень литературным, тогда как по-русски он предельно прост. Чехов пишет чрезвычайно сжато, используя минимум слов, и его манера письма напоминает Пинтера или Беккета. У Чехова, как и у них, играет роль композиция, ритм, чисто театральная поэзия единственно точного слова, произнесенного тогда и так, как нужно. Персонаж говорит просто «Да», но это «Да» становится законченным выражением, и другого на этом месте уже быть не может.
Выбрав за принцип верность оригиналу, мы стремились к тому, чтобы французский текст совпал с русским и был таким же гибким и реалистическим. Тут, правда, рискуешь сбиться на искусственность и приблизительность. Эквиваленты существуют в литературном языке, что же касается разговорного, то он практически непереводим. Мы с Жаном-Клодом Каррьером пытались передать актерам, реплика за репликой, строгую структуру, лежащую в основе развития мысли. Мы сохраняли даже пунктуацию.
Шекспир ею не пользовался. Те знаки препинания, которые мы находим сейчас в его текстах, были поставлены много позже. Его пьесы — телеграммы, и актеры должны сами составлять группы слов. У Чехова же, напротив, точки, запятые и многоточия имеют первостепенное значение — столь же первостепенное, как «паузы» Беккета. Если ими пренебречь, теряется ритм и напряжение пьесы. У Чехова пунктуация это своего рода серия зашифрованных посланий, передающих отношения и чувства персонажей в моменты, когда они достигают взаимопонимания, или, наоборот, когда каждый из них думает о своем. Пунктуация позволяет уловить то, что скрывают слова.
Чехов — мастер монтажа. Вместо того, чтобы резко разграничивать переходы от одного кадра к другому — т. е., может быть, и от места к месту, — он переходит от чувства к другому чувству за мгновение до того, как оно будет выражено. В тот момент, когда зритель рискует слишком сосредоточиться на одном персонаже, ситуация неожиданно меняется. У Чехова нет ничего неподвижного. Чехов показывает людей и общество в постоянном процессе изменения, он драматург движения жизни, одновременно серьезный и улыбающийся, забавный и горький. Пора уже забыть пресловутую «тихую чеховскую музыку» и славянскую тоску. Чехов часто говорил, что его пьесы — комедии, в этом и состояла основная тема его конфликтов со Станиславским. Чехов не выносил драматический тон и замедленность, навязываемые режиссером. Это не значит, конечно, что надо играть «Вишневый сад» как водевиль, Чехов — дотошный наблюдатель человеческой комедии. Он — врач, и ему известен смысл поведения, он умеет выделять в нем главное, существенное для диагноза. Ему свойственна нежность, внимательное участие, но отнюдь не сентиментальность. Вы можете вообразить врача, льющего слезы над страданиями пациента? Это было бы как-то неудобно. С другой стороны, вполне можно представить, что даже влюбленный, он прежде всего замечает недостатки и признаки недомогания любимой женщины, но не ужасается, не сердится, а улыбается.
У Чехова постоянно ощущается присутствие смерти — он слишком хорошо знает, как люди умирают, — но в этом нет ничего страшного или болезненного, как в гротескных карнавалах некоторых фламандских мастеров. Сознание смертности сопрягается у него с жаждой жизни. У его персонажей есть «чувство мгновения» и потребность насладиться им полностью. Как в великих трагедиях у Чехова смерть и жизнь уравновешены. Он умер молодым, после того как много путешествовал, любил, писал, участвовал в проектах социального улучшения общества. Он умер после того, как попросил бокал шампанского, и его гроб перевозили в вагоне с надписью «свежие устрицы»... Это сознание смертности и драгоценности каждого мгновения жизни позволяет ему ощутить относительность, т. е. он умеет достаточно отстраниться, чтобы всегда заметить смешную сторону драмы.
Чтобы не предать Чехова, надо сохранить эти его особенности. Чтобы быть верным Чехову, создавшему современный театр, надо придумывать. Нельзя пользоваться только тем, что было создано до и после него. Нам очень помогли встречи с труппой глухонемых. Я ни у кого не видел такого доброго, спокойного юмора. Это что-то уникальное, ведь они проводят всю свою жизнь, наблюдая. И поскольку ничто и не отвлекает, — ничто и не ускользает от их внимания, особенно нелепость лишних жестов.
Каждый чеховский персонаж живет своей жизнью, ни один не похож на другого, особенно в «Вишневом саде», который, с точки зрения исторической и политической, представляет собой микрокосм тенденций того времени. Некоторые возвещают социальные перемены, другие в пути исчезают. Стороннему взгляду их существование может показаться нелепым. Но они-то полны желаний. Они не утратили их, наоборот. Каждый по-своему пытается проявить себя наилучшим образом в социальной и эмоциональной сфере, не стыдясь колебаний и глубокого переживания малейших нюансов и поворотов чувства. Их драма состоит в том, что общество и внешний мир им мешают, стесняют их. Но они не разрушители. Сложность их поведения не проявляется в словах, она передается мозаичной конструкцией, складывающейся из бесконечного множества подробностей.
Единственный выход — проработать каждую деталь, тогда что-то начинает вырисовываться. Вот почему мы повторяем и повторяем — нет, это не то слово, мы ищем и возвращаемся к началу. Невозможно вообразить себе, что кто-то в один прекрасный день придет к окончательной и неизменной постановке. Не может же мать родить неизменяющегося ребенка. Во-первых, у него есть девять месяцев, чтобы приобрести какую-то форму. И потом, появившись на свет, он подвергается влиянию среды и времени. И развивается самостоятельно. Так мы приступили к постановке этой таинственной вещи, текста, к воплощению некой абстракции, здесь и сейчас, с труппой актеров, обладающих определенными возможностями. Мы развиваем эти возможности и понемногу создаем нечто, что является объективным свидетельством контакта труппы, места, текста. Если у тех, кто на сцене, есть чувство своего времени и современников, контакт с публикой состоится. И это свидетельство будет иметь ценность, пока пьеса не сойдет с афиш. Вот что такое спектакль. А потом надо начинать заново.
Программа спектакля «Вишневый сад» в постановке П. Брука. Театр Буфф дю Нор, 1983. Премьера 5 марта 1981 г.
Примечания
Из беседы с Колетт Годар для журнала «Комеди-франсез», февраль 1981 г. — Tchekhov A. La Cerisaie / Adaption de Jean-Claude Carriere. Conseillère pour la langue russe Lusia Lavrova. Paris, 1981. P. 107—112.
| Предыдущая страница | К оглавлению | Следующая страница |