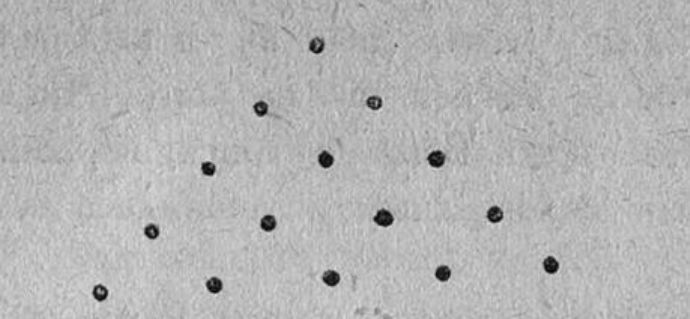В середине XIX века литература с разной степенью успешности займется реальной жизнью, и байронический герой, казалось, навсегда уйдет в прошлое. Однако еще лет через сорок, на излете викторианской эпохи, испытавшей новый прилив чувств ко всему романтическому, в дело байронизма вмешается Ницше. Незадолго до публикации «Трех сестер» «публика спорила о статье, автор которой, рассуждая о причинах быстрого и какого-то мещанского расползания ницшеанства в России, заметил кровную близость ницшеанства к байронизму и к лермонтовским мотивам, издавна — в романсовом, многотиражном, униженном переложении — распространенным в полуграмотном обществе»1.
Возможно, именно этот факт станет отправной точкой в создании Чеховым образа Василия Васильевича Соленого.
«Грубый человек, бретер»2, — скажет о штабс-капитане Тузенбах. «Грубый, невоспитанный человек!»3 — подтвердит Наташа. Чаще всего, говоря о Соленом, вспоминают также пошлость, бестактность, недалекость, солдафонство. При этом «его фамилия — претензия, он хочет быть остроумцем, хотя только одним элементом остроумия он владеет — внезапностью. Покушаясь резать, стричь, колоть, он получил в руки только одно лезвие ножниц, другое лезвие ему не дано. Грубой внезапностью высказываний и выпадов все у Соленого начинается и кончается. Каждый раз одно и то же: Соленый настраивает на эффект остроумия, самого же остроумия не было и нет»4.
Однако тот же Николай Львович отметит и другое: «Мне кажется, он застенчив... Когда мы вдвоем с ним, то он бывает очень умен и ласков»5.
Соленый — прилагательное качественное, характеризующее одно их четырех основных качеств вкуса. В Толковом словаре В.И. Даля сказано: «Соле́ный или со́лоный в чем есть соль, много соли, что на вкус отзывается солью», сама же соль в переносном значении «Острота ума, остроумие, едкая насмешка»6. О том же говорят и народные поговорки: «Без соли, без хлеба, худая беседа. Соли нету, так и слова нету, а как хлеб дошел, так переговор пошел»7. В Евангелии от Матфея Иисусом в разговоре с учениками образующему качество вкуса придан едва ли не системный смысл: «Вы — соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь её соленою? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить её вон на попрание людям»8. Любопытно, что лишь в советскую эпоху у слова соленый появляется устойчивое переносное значение — согласно первому толковому словарю под редакцией Д.Н. Ушакова9 соленый — «выразительный до резкости, грубости»10. Популярный Словарь русского языка С.И. Ожегова11 уточнит и ужесточит: «выразительный и резкий до грубости, непристойный (разг.)»12.
Мы далеки от мысли, что поводом возникновения нарицательного имени послужил образ штабс-капитана в прочтении Художественным театром. Но факт остается фактом, Ушаков и Ожегов фактически закрепляют едва ли не сатирическое звучание роли Василия Васильевича Соленого, тем паче, что все это на первый взгляд очевидно и вполне вяжется с персонажем, который «никогда не забывает <...> о своем намерении быть принципиально неприятным, по всякому поводу имитировать чью-то едкость, будто она его собственная, и предается грошовому демонизму. Соленый, которому выпало жить и действовать среди совсем настоящих людей (курсив здесь и далее наш — Т.Э.), сам сводится к одним только мнимым величинам. Великое уродство жизненных отношений лежит в энергии, в решимости, которыми наделен ленивый человек, Соленый. У людей настоящих, у людей истинных нет уверенности, что и как надо делать, а у лжечеловека, у Соленого, она есть»13.
Есть и такое свидетельство: «...фамилия Соленого, кажется, пришла не откуда-нибудь, а из шекспировского источника, хорошо известного Чехову. Образ «соленого человека» встречается во Введении к хранившемуся у Чехова суворинскому изданию «Короля Лира». Здесь приводятся слова переводчика А.В. Дружинина о некоторых шекспировских оборотах, которые ему пришлось смягчить или приспособить к русской речи. Среди них и характерное выражение «соленый человек», выделенное курсивом. Оно вызвало неприятие переводчика: «Сказать, что человек от слез делается соленым человеком, по нашим убеждениям, значило вводить в русскую поэзию чуждые нам обороты. Русский поэт, сколько бы он ни проливал слез в самом деле, не имеет никакого права насиловать родного языка, называя себя соленым человеком, но он может придумать какое-нибудь выражение, передающее подобную же мысль сообразно с требованиями языка русского»14»15
Первое упоминание о странном персонаже появится в феврале 1899 года: «Дейст[вующее] лицо: Соленый»16. Тремя страницами позже в той же рабочей книжке Чехов оставит короткую запись забавного диалога: «В провинции с упорством спорят о том, чего не знают.
— В Москве два университета.
— Нет, один.
— Два!
— Но ведь я там учился, знаю.
— Вы учились, а я вам говорю: два!»17
Заметка навеяна воспоминаниями о сибирской поездке на Дальний Восток, когда Чехов вынужден был коротать время с двумя настырными спутниками-офицерами на берегу Байкала.
В работе Чехова над пьесой образ Соленого постепенно становится для автора определяющим. В беловой рукописи, на десятилетия сгинувшей в несгораемом сейфе музея Художественного театра, «в роли Соленого добавлены фразы, подчеркивающие его странную манеру «задираться»: в I акте — умозаключение по поводу того, что «два человека сильнее одного не вдвое, а втрое», затем — предсказание Тузенбаху его судьбы («Года через два-три вы умрете от кондрашки, или я вспылю и всажу вам пулю в лоб»), рассуждение о вокзале, который «если бы был близко, то не был бы далеко», а также реплика о наливке, настоянной «на тараканах»; во II акте — реплика о ребенке, которого он «изжарил бы на сковороде и съел бы», поддразнивание барона («Цып, цып, цып...»), <...> привычка опрыскивать себя духами <...> в III акте добавлен эпизод, в котором он задирает Тузенбаха («Почему же это барону можно, а мне нельзя?» и т. д.), а в IV акте в его речь добавлены две стихотворные цитаты («Он ахнуть не успел, как на него медведь насел», «А он, мятежный, ищет бури, как будто в бурях есть покой»)»18
Особое интересна правка в любовном объяснении Соленого с Ириной. После слов: «...и точно я не на земле, а на другой планете» добавлено: «(Трет себе лоб.) Ну, да все равно. Насильно мил не будешь, конечно... Но счастливых соперников у меня не должно быть. Не должно... Клянусь вам всем святым, соперника я убью...» Слова эти не столько дополняют образ Соленого, сколько впрямую анонсируют убийство Тузенбаха, что с точки зрения современной драматургии, как будто бы, анахронизм.
Не менее показателен публичный разговор Соленого с Наташей, в котором штабс-капитан выступает в роли желанного собеседника, что само по себе удивительно — Наталья Ивановна живет в доме Прозоровых без малого два года и не может не знать о бесцеремонности штабс-капитана. И тем не менее, — ни с того, ни с сего, — ее будто магнитом тянет к Соленому. Такое ощущение, что она задается жизненно важным вопросом — примерным поведением расположить к себе милого Василия Васильевича.
Наташа (Соленому). Грудные дети прекрасно понимают. «Здравствуй, говорю, Бобик. Здравствуй, милый!» Он взглянул на меня как-то особенно. Вы думаете, во мне говорит только мать, но нет, нет, уверяю вас! Это необыкновенный ребенок.
Соленый. Если бы этот ребенок был мой, то я изжарил бы его на сковородке и съел бы19.
Наташа закрывает лицо руками, но никто не обращает на слова штабс-капитана никакого внимания, будто всё это или не имеет к ним никакого отношения, или же они чего-то опасаются.
Традиционно деление всех персонажей «Трех сестер» на две условные группы — действующих и существующих. О Наташе и Протопопове уже говорили. Соленый в этой классификации как будто бы по одну с ними сторону. «Группе героев, которые все время ждут и не могут дождаться, противостоит другая, которые, не дожидаясь, стремятся добиться своего. Насколько все не осуществляется в мире Прозоровых, Тузенбаха и Вершинина, — настолько сбывается — жестоко и зловеще — у Соленого <...>. Все химеричней и несбыточней становится мечта трех сестер о Москве; и — все более неотвратимо приближается час, когда осуществится кровавая мечта Соленого. Туманному миру обманутых ожиданий противостоит другой, где намерения исполняются»20.
Однако в случае с Василием Васильевичем Соленым, кажется, все значительно сложнее: «Я странен, не странен кто ж! Не сердись, Алеко!»21
Первую свою оперу на сюжет пушкинской романтической поэмы «Цыганы» (либретто Владимира Ивановича Немировича-Данченко) С. Рахманинов напишет в 1892 году. Постановки оперы «Алеко» будут пользоваться неизменным успехом, тем паче, что в них примут участие виднейшие оперные певцы, включая Фёдора Шаляпина в роли Алеко. Застав Земфиру во время свидания с молодым цыганом, Алеко закалывает обоих. Цыганы не могут понять эгоистичного желания молодого человека обладать любимой ценой её жизни и изгоняют Алеко: «Оставь нас, гордый человек!»22
Соленый подхватит байроническую интонацию. Как никто в пьесе он насквозь пропитан не только преувеличенно-возвышенными чувствами, но и чужими словами, в том числе вычитанными у самого Чехова.
О себе Соленый имеет сообщить следующее: «Когда я вдвоем с кем-нибудь, то ничего, я как все, но в обществе я уныл, застенчив и... говорю всякий вздор. Но все-таки я честнее и благороднее очень, очень многих... И могу это доказать, — предупреждает он будущую жертву. — Я против вас, барон, никогда ничего не имел. Но у меня характер Лермонтова. (Тихо.) Я даже немножко похож на Лермонтова... как говорят... (Достает из кармана флакон с духами и льет на руки.)»23
Заметим, похож на корнета лейб-гвардии Гусарского полка писателя Михаила Юрьевича Лермонтова («и даже стихи пишет»24). Героя нашего времени прапорщика Печорина, который, как известно, и сам был немножечко Лермонтов, Василий Васильевич в пьесе «Три сестры», по воле автора скорее, представляет вынужденно, как доверенное лицо, руководствуясь принципом «человек в жизни совсем не то же самое, что художественный образ, пусть даже и того же человека»25. Его можно понять. Порой в высокой самооценке необходимость чужого взгляда имеет определяющее значение. Скажет же Немирович: Чехов — «как бы талантливый я»26, а Алексеев с годами и вовсе сделает чеховское пенсне аксессуаром гардероба основоположника. Все это важно в свете того, что у Прозоровых нет никакой возможности выгнать Соленого из дома. Да, впрочем, и мысли такой родиться не может.
«Никогда бы Соленый так не распустился, ежели бы этого не терпели. Он очень много курит, беспрестанно льет на себя духи, вероятно, пьет тоже много и находится всегда в каком-то тупо возбужденном состоянии. Оказывая Соленому плохую услугу тем, что терпеливо переносят его выходки, окружающее наносят этим еще больший вред себе. На наше настроение самое сильное влияние оказывают наши собеседники, те, кто около нас, и та атмосфера, так сказать, которую они с собою вносят. «Цып, цып и прочие кунштюки Соленого своей дерзостью и пошлостью наверно в гораздо большей степени повинны в неприятном настроении трех сестер, чем многое другое, на что они жаловались. Соленый умеет быть и «очень умным и ласковым», «когда мы вдвоем с ним», но он застенчив, а потому в обществе он «грубый человек и бретер». Застенчивость может, однако, выразиться в других формах, чем в грубости, и то, что ей позволяют выразиться в грубости, служит, кроме «мягкотелия», доказательством малокультурности общества. Вред от нее тем больший, что подобная грубость обыкновенно берет безнаказанно мишенью своих нападок все хорошее, выдающееся, ибо это-то всего сильнее задевает ее самолюбие, служит для нее наименее выгодным фоном и по деликатности менее способно на резкий отпор»27.
Совершенно не выдерживает критики утверждение о малокультурности общества в среде полиглотов и книгочеев, более того, на избыточном знании строится чеховский конфликт. Мы бы поставили под сомнение и мягкотелость, которой так любят объяснять беды семьи покойного бригадного генерала. Смеем утверждать, у каждого из Прозоровых есть такая территория, на которой никому не поздоровится. Почему же в таком случае никак невозможно прогнать из дома инфернального штабс-капитана? В чем причина всеобщей толерантности и всепрощения по отношению к человеку в обществе сугубо неприятному, никак не связанному с семейством Прозоровых, однако ясно и регулярно показывающему на то, что все в его руках?
«Люди, мало чуткие к искусству, думают часто, что художественное произведение составляет одно целое потому, что в нем действуют одни и те же лица, потому, что все построено на одной завязке или описывается жизнь одного человека. Это несправедливо. Это только так кажется поверхностному наблюдателю: цемент, который связывает всякое художественное произведение в одно целое и оттого производит иллюзию отражения жизни, есть не единство лиц и положений, а единство самобытного нравственного отношения автора к предмету. В сущности, когда мы читаем или созерцаем художественное произведение нового автора, основной вопрос, возникающий в нашей душе, всегда такой: «Ну-ка, что ты за человек? И чем отличаешься от всех людей, которых я знаю, и что можешь мне сказать нового о том, как надо смотреть на нашу жизнь?» Что бы ни изображал художник: святых, разбойников, царей, лакеев — мы ищем и видим только душу самого художника»28.
Литературный опыт Чехова в этом смысле, хотя и полностью соответствует толстовскому утверждению, максимально затруднен в адекватном восприятии читателем по вине веселого автора. Он нарочно сбивает нас с пути, играет с нами, заставляя то и дело включать привычный механизм восприятия текста, склоняя к внутреннему диалогу с персонажами к таковому не расположенными.
Еще больше путаницы вносит чеховская система реальных прообразов. Замечательный пример такого перенесения в текст — парадоксальный, но безусловно справедливый вывод о том, что «образ Соленого создавался, видимо, не без впечатлений от Горького», что лишь подтверждает предположение о том, что место Соленого «в системе персонажей не столь однозначно, как чаще всего принято считать»29.
Здесь уместно вернуться к переписке Чехова с Горьким, уже упоминавшейся нами в предыдущей части: «...на вопрос Горького о недостатках, которые он видит в его произведениях, Чехов заметит, что у Горького «нет сдержанности»30 и что он злоупотребляет словами совсем неподходящими для его рассказов»31. Горький примет «это как упрек в грубости: «Славно Вы написали мне, Антон Павлович, и метко, верно сказано Вами насчет вычурных слов. Никак я не могу изгнать их из своего лексикона, и еще этому мешает моя боязнь быть грубым»32. Чехов пояснит: «По-видимому, Вы меня немножко не поняли. Вам менее всего присуща именно грубость, Вы умны и чувствуете тонко и изящно. Единственный недостаток — нет сдержанности, нет грации»33. Через несколько месяцев, в сентябре 1899 г., он продолжит тему: «Вы по натуре лирик, тембр у Вашей души мягкий. Грубить, шуметь, язвить, неистово обличать — это несвойственно Вашему таланту»34.
И эта сложность: внешняя грубость, за которой скрывается своеобразный лиризм, даже тонкость, — будет учтена Чеховым при создании образа Соленого. В его брутальном признании Ирине неожиданно прорывается нечто незнакомое (чужое?): «...вы не такая, как все, вы высоки и чисты, вам видна правда... Вы одна, только вы одна можете понять меня. Я люблю, глубоко, бесконечно люблю...»35
Так ли сяк, какие-то впечатления от общения с Горьким Чехов, несомненно, использует в конкретизации образа Соленого, соединение со штабс-капитаном мотива лермонтовской бури — мотива, который в общественном сознании чуть ли не сразу связывался с Горьким — яркое тому подтверждение. «Пусть сильнее грянет буря» — будет напечатано чуть позже, но к 1899 году это настроение Горьким вполне владело. Горьким — и другими, например, Короленко, у которого в этюде «В море» незадолго до того сказано: «Буря! Скоро будет буря, товарищ!» Реплика Тузенбаха о буре — тоже, как и у Соленого, цитата»36.
При этом отметим, Тузенбах цитирует как бы чужое, а Соленый читает как бы свое. Далее еще одно важнейшее замечание:
«В «Трех сестрах» Чехова Соленый — герой, не равный самому себе, не просто образ-цитата37, но целый цитатник, варьирующий образный набор: помимо названных, еще, как минимум, и «странный» Чацкий, и гордый одиночка Алеко, и зловещий тургеневский бретер. В ролях, разыгрываемых им, названный Лермонтов и не названный, но «цитируемый» Лир в принципе взаимозаменимы, так же как взаимозаменимы названный Алеко и не названные, но тоже «цитируемые» и подразумеваемые Макбеты. Понимают ли это другие персонажи, находящиеся рядом с Соленым? Должно быть, понимает Маша, которая однажды называет его «ужасно страшным человеком»: «Что вы хотите этим сказать, ужасно страшный человек?»38 Но ее реакция — ирония — совсем не то, на что рассчитывают в этих случаях. Всерьез же в Соленом никто не хочет признать ни злодея макбетовского масштаба, чтобы устрашиться, ни гонимую обстоятельствами жертву, вроде Лира, чтобы посочувствовать. Внутреннее убеждение все время подсказывает ему, что в глазах окружающих он — не «красивый шекспировский злодей», а «мелкая грошовая сволочь»39»40.
Вопрос лишь в том, — не хотят признавать или же такое признание не имеет смысла?
«Его острота насчет вокзала, далеко отстоящего от города: «...если бы вокзал был близко, то не был бы далеко, а если он далеко, то, значит, не близко» — состряпана по модели шекспировского шутовства:
Шут. А почему, когда на небе сидит семь звезд, — их только семь счетом?
Лир. Потому что не восемь.
Шут. Метко сказал. Можно бы тебя назвать добрым дураком за это»41»42.
Шут — важнейшая фигура средневековой жизни — человек, в саркастической образной форме порождающий смыслы, и от писателя его отличает лишь отсутствие необходимости фиксировать мысль на бумаге. Уникальность Шута в «Короле Лире» в том, что в каком-то смысле он — голос самого Шекспира. Зритель с самого начала знает, что Шут прав, произнося вслух невозможные вещи. «Художник только потому и художник, что он видит предметы не так, как он хочет их видеть, а так, как они есть»43. Однако в отличие от проницательного зрителя, ослепший Лир шуту не верит, ибо Шут всего лишь шут, дурак, заложник своего шутовства.
Отчасти согласимся с тем, что «невероятная реплика по поводу ребенка Наташи: «Если бы этот ребенок был мой, то я изжарил бы его на сковородке и съел бы» — едва ли будет разъяснена, если не распознать за ней привычной образности кровавых шекспировских трагедий»44.
В отличие от Шекспира, среди чеховских героев подобные шутки вызывают лишь «неловкое молчание»45.
Почему же, в таком случае, согласимся отчасти? Ну, хотя бы, потому что речь идет не о Шекспире, а о Чехове, и не о леди Макбет, а о Василии Васильевиче Соленом. Перед расставанием в четвертом действии подпоручик Федотик, глядя на часы, скажет: «Из нашей батареи только Соленый пойдет на барже, мы же со строевой частью».
Это обстоятельство многое объясняет. Дело в том, что поэт, бретер и роковой мужчина, похожий на Лермонтова, штабс-капитан Соленый по должности вероятнее всего командир нестроевой роты (обоз, писари, кашевары и т. п.), квартирмейстер, т. е. могучее административное лицо, заведующее хозяйственной частью и отвечающее за выполнение различного рода хозяйственных забот. Отсюда, по всей вероятности, все эти чехартмы и черемши, конфекты, куренки с вальдшнепами и дети, изжаренные на сковородке. Потому и выпрыгивает из штанов, — чтобы не казаться, а быть военным. Отсюда и Байрон.
Тем не менее, в разговоре о «Трех сестрах» мы не можем игнорировать как факт чеховской переклички с Шекспиром, так и предпринятых Чеховым прямых шекспировских заимствований. Что и в случае с «Королем Лиром»46, «понятие «три сестры» — одно из характерных и лексически устойчивых образных понятий в «Макбете»47. Насколько случайна или закономерна напрашивающаяся здесь аналогия с названием чеховской драмы? Было бы легче склониться в пользу версии о случайности, если бы этим всё соответствие между пьесами и ограничилось. Но слишком уж очевидны, тесны и значимы внутренние связи между «Макбетом» и «Тремя сестрами», обнаруживаемые на более сложных уровнях, в частности, характерологическом и сюжетном»48.
Современный английский исследователь чеховского творчества Дональд Рейфилд утверждает, что у «Трех сестер» помимо Шекспира был и другой «английский источник», что еще в 1896 году Чехов «отослал в таганрогскую библиотеку биографию сестер Бронте49 — историю трех талантливых и несчастных девушек, стремящихся вырваться из провинциального Йоркшира; в их жизни есть и деспотичный отец, и мать, о которой сохранились лишь смутные воспоминания, и обожаемый брат, превратившийся в бездельника и пьяницу. Сестры Прозоровы у Чехова во многом сходны с сестрами Бронте»50.
Нам представляется, в интересе к судьбе Бронте, по всей видимости, действительно поразившей Чехова, на первом месте все-таки удивление сходством с судьбой семьи Чеховых, — потому и отправил в Таганрог. А если уж говорить о какой-либо роли английских сестер в случае с Прозоровыми, разве что мотив коллективного метатекста трех романисток выглядит по-настоящему заслуживающим внимания.
Отметим, что Соленый — не единственный персонаж, вызывавший у современников Чехова смешанные чувства: «Чебутыкин — бестактный, низкий, жестокий. Чебутыкин — преступник и самый тяжелый — он убивает из-за своего невежества людей, которые приходят к нему за помощью. А этого самого Чебутыкина Чехов так осветил и так его трактует, что выносишь впечатление, будто сам автор с вниманием прислушивается к его мрачным речам. Придав им трезвенную искусственную правдивость, автор заставляет думать, что он и сам с ними отчасти согласен. Мне думается, что поддерживать своим авторитетом речи, вроде речей Чебутыкина, значит поступать нехорошо»51.
Ничего не попишешь, только «автор знает, кого надо любить и кого ненавидеть, и читатель соглашается с ним и верит ему, верит в те лица и события, которые ему описываются»52. Однако это потом, когда поставлена точка. А что прикажете делать в случае, если персонажи на полпути ни с того, ни с сего перестают слушать автора, его доводы и увещевания, и начинают нести отсебятину, т. е. говорить все, что им вздумается? Иногда это бывает смешно, но чаще расстраивает. Как вернуть их в поле общей ответственности, как заставить действовать в рамках тысячу раз обдуманного плана? Тут нужно договариваться, потому что речь идет о человеке.
««Жизнь, — по определению Спенсера — есть приспособление». Жизнь требует от человека, чтобы он, говоря словами царя Радована53 «не смотрел ни очень далеко, ни очень близко», а как раз в линию жизни, т. е. чтобы человек во всем приспособлялся к требованиям и условиям жизни, брал ее во всей неприглядной наготе, без прикрас, такою, какая она есть, а не какой она должна быть по метафизическому рецепту. Жизнь требует, чтобы человек жил на земле, а не парил в каких-то «надзвездных краях», чтобы он имел дело с реальными вещами, а не с какими то потусторонними «вещами в себе», чтобы он боролся с природой за свое существование, а не воевал с миром «умопостигаемых сущностей». Такова беспощадная логика жизни, ибо «жизнь» — говоря словами английского поэта «реальна и серьезна», и человек есть не метафизическое, а напротив, насквозь физическое и притом практическое, даже слишком практическое, существо»54.
Впрочем, пока все это только в теории.
«У Соленого с Чебутыкиным сходство в том, что оба они — один меньше, другой больше — низводят жизнь, влекут окружающих в свою грязь и свою душевную трясину, повинуясь инстинкту, что на людях и смерть красна. Чебутыкин все время твердит «все равно» и что на самом деле мы не существуем, а только «кажется», что мы существуем. «Все равно! Решительно все равно! О, если бы не существовать! Пошлость! Низость! И другие тоже, как я... На душе криво, гадко, мерзко...»55 Плохо старику живется, но все же, когда он говорить барону: «Вы только что сказали, барон, нашу жизнь назовут высокой; но люди все же низенькие... (Встает). Глядите, какой я низенький»56, то в его злорадстве есть кое-что похуже и вреднее, чем желание оправдать свою жизнь: эти люди как бы вцепляются в платье тех, кто идет вверх и со всех сил тащат их вниз, повторяя им, что нет ничего высокого, злорадствуя при каждой неудаче; и боязнь этого злорадства очень многих удержала от попыток улучшить свою жизнь. Чебутыкин — доктор, но — «я не знаю решительно ничего, все позабыл, что знал, ничего не помню, решительно ничего... кое-что я знал лет двадцать пять назад, а теперь ничего, ничего не помню. Ничего»57. Как это странно: вместо того, чтобы подучиться, наверстать то, в чем отстал — Чебутыкин бездельничает, пьянствует, морит людей, загрязняет жизнь свою и близких, и как оправдание — по выражению Чехова — «клевещет на жизнь» и никто его не останавливает, не разубеждает, не объясняет, что ему потому жизнь кажется кривой и на душе у него криво, что он сам ведет кривую жизнь, что его поступки кривые, что делает он то, что делать не следует, и не делает того, что делать нужно»58.
Что еще сказать о беспутном «докторе с палкой», который только и знает, что читать газету, по горячим следам занося бесполезные вещи в свою записную книжечку, который «всегда причесывается, приглаживается, любит свою наружность» и которому решительно все равно? В рабочих тетрадях Чехова находим: «Д[о]к[тор] присутствует на дуэли с удовольствием»59.
Чебутыкин снимает квартиру в доме Прозоровых, — очевидно вселился уже после смерти генерала. Как мы знаем, он был влюблен в генеральшу и, не исключено, что именно за ней последовал из Москвы в губернский город N. Происхождение фамилии примечательно: чебуткать ребенка означает качать его на своей ноге60. Иван — имя, которым Чехов пользовался в предыдущей пьесе. Имя не только сказочное, но и героическое, а отчество... Отчество лишь отчеркивает литературную подноготную военного доктора.
Чебутыкин человек щедрый, по крайней мере, в отношении птицы белой Ирины — двухведерный (тащили с денщиком) серебряный (вряд ли медный или латунный на именины) самовар — сколь дорогое (до двухсот рублей), столь и нелепое в глазах всякой незамужней девушки подношение.
Ольга (закрывает лицо руками). Самовар! Это ужасно! (Уходит в залу к столу.)
Ирина. Голубчик Иван Романыч, что вы делаете!
Тузенбах (смеется). Я говорил вам!
Маша. Иван Романыч, у вас просто стыда нет!
Ирина. Но зачем такие дорогие подарки!
Через шестьдесят лет хороший тульский самовар можно будет легко найти на обычной городской/дачной свалке или — за бесценок — на барахолке. Советские шестидесятые годы были безжалостны в отношении старого быта. По-человечески людей можно было понять. Жаждущие жить дети XX съезда без сожаления расставались с мещанством дискредитировавшего себя прошлого. Властителями дум становятся Бороздины61 и Ильины62. Софа и диван заменят кровать, торшер и бра займут место зеленой лампы, утилитарная люстра повиснет над головой вместо привычного абажура, сервант вытеснит буфет. Даже книги и журналы с отжившими век оборванными корешками и истертыми обложками, с плохой бумагой и ненадежными текстами мешками отправятся в утиль, их заменят новыми — ледериновыми — которым можно доверять.
Чебутыкинский самовар как пожелание семейного счастья в Царстве Слов вызывает естественное отторжение. Теоретик семейной жизни Прозорова Ольга Сергеевна возмутится первой, в ней теперь говорит учитель — солдат идеи. Маша со своей неудачной семейной жизнью и отсутствием какого бы то ни было быта (включая детей) раздражена, Ирина (лишенная каких бы то ни было земных якорей) смущена, смешно даже идейному воздушному шару Николаю Львовичу Тузенбаху. Отторжение вызывает всяческий быт и всякая семья. Предполагает ли такую реакцию Иван Романович? Скорее всего, да. Однако подарок Чебутыкина тем и замечателен, что при всей своей дороговизне и необходимости в быту обывателя он лишен какого бы то ни было материального качества у борца за идею. Он лакмусовая бумажка здоровья, независимости от вещи как тотема духовного благополучия. И именно вслед за самоваром в доме Прозоровых появится влюбленный майор, тот самый, который все второе действие в разговорах с Машей и Ириной будет мечтать о горячем чае.
С этим самоваром одно наказание! Если бы не «холодно и комары», можно было бы подумать, что местом действия «Трех сестер» является столица Франции. В чеховских рабочих тетрадях за бесполезной машиной трижды маячит известное чеховское наблюдение «Ехать с женой в Париж все равно, что ехать в Тулу со своим самоваром»63, записанное им по месту действия в середине октября 1897 года. Впрочем, Чебутыкин холостяк. В записях Чехова находим: «Чеб[утыкин]: Если бы меня полюбила какая, я бы теперь любовницу имел... Надо работать, но и любить, надо находиться в постоянном движении. Так-то-с»64. С сожалением констатируем, ни то, ни другое с ним не случится.
На самом деле военный доктор Иван Романович Чебутыкин — человек во всех отношениях замечательный. Если Соленый с точки зрения фабулы существует в пьесе в первую очередь для того, чтобы сперва объявить о том, что в известное время он пустит одному из главных действующих лиц пулю в лоб, и в конце концов свое обещание исполняет, Чебутыкин все четыре действия выступает в роли секунданта. Он будет заведовать временем пьесы, ускорять его или напротив, едва ли не останавливать ход, и даже ставить под сомнение само его существование.
В сюжете с княжной Мэри прапорщик Печорин скажет о своем новом знакомце военном докторе Вернере: «Молодежь прозвала его Мефистофелем; он показывал, будто сердился на это прозвание, но в самом деле оно льстило его самолюбию. Мы друг друга скоро поняли и сделались приятелями, потому что я к дружбе неспособен»65.
Чебутыкин кроме себя ни на кого не злится. Он помнит гораздо больше того, что должен помнить. Возможно, Вершинину во втором действии, в отличие от остальных, следует поглядеть на врача чуть внимательней, когда на вопрос Родэ о возрасте Иван Романович, не моргнув глазом, сообщит, что ему тридцать два. Ведь именно в этом возрасте Александр Игнатьевич был влюбленным майором66, — забавно, не правда ли? Любопытно еще и то, что с игрой в числа 32 и 43 в процессе гадания Чехов повторится — в «Чайке» это выглядит следующим образом:
Треплев (обрывая у цветка лепестки). Любит — не любит, любит — не любит, любит — не любит. (Смеется.) Видишь, моя мать меня не любит. Еще бы! Ей хочется жить, любить, носить светлые кофточки, а мне уже двадцать пять лет, и я постоянно напоминаю ей, что она уже не молода. Когда меня нет, ей только тридцать два года, при мне же сорок три, и за это она меня ненавидит67.
Впрочем, про одиннадцать лет вспомнят и в «Дяде Ване»:
Астров. ...Нянька, сколько прошло, как мы знакомы?
Марина (раздумывая). Сколько? Дай бог память... Ты приехал сюда, в эти края... когда?.. еще жива была Вера Петровна, Сонечкина мать. Ты при ней к нам две зимы ездил... Ну, значит, лет одиннадцать прошло. (Подумав.) А может, и больше...68
Далеки от мысли, что перед нами нумерологическая шарада. Просто напомним — ровно одиннадцать лет Чехов учился в Таганрогской классической мужской гимназии, дважды (в 3-м и 5-м классах) оставаясь на второй год. В случае с драматургией, где знание — ключевой мотив, вполне резонно предположить такого рода автограф.
Вообще, когда дело заходит в тупик, и действующие лица, включая автора, начинают киснуть, на помощь Чехову всегда приходят Чебутыкин с Соленым.
Чебутыкин (идя в гостиную с Ириной). И угощение было тоже настоящее кавказское: суп с луком, а на жаркое — чехартма, мясное.
Соленый. Черемша вовсе не мясо, а растение вроде нашего лука.
Чебутыкин. Нет-с, ангел мой. Чехартма не лук, а жаркое из баранины.
Соленый. А я вам говорю, черемша — лук.
Чебутыкин. А я вам говорю, чехартма — баранина.
Соленый. А я вам говорю, черемша — лук.
Чебутыкин. Что же я буду с вами спорить. Вы никогда не были на Кавказе и не ели чехартмы.
Соленый. Не ел, потому что терпеть не могу. От черемши такой же запах, как от чеснока»69.
Едва ли не шутовская реприза (вставной номер в водевиле дело привычное) дает возможность автору выиграть время с тем, чтобы сделать присутствие заявленных ряженых очевидным. Вот пример разговора ряженых-колядовщиков в шуточной сценке «Мнимый барин», примыкающей к масленичным играм70:
Баринъ. Марья Ивановна, пойдемте прогуляться. (Входятъ въ трактиръ, обращаются къ трактирщику.) Трактирщикъ!
Трактирщикъ. Што угодно, баринъ голый!
Баринъ. Ахъ, какъ ты меня пристрамилъ.
Трактирщикъ. Нѣтъ, баринъ добрый, я васъ похвалилъ.
Баринъ. Есь ли у васъ комнаты, намъ съ Марьей Ивановной расположитця, чаю-кофею напится.
Трактирщикъ. Есть, даже шпалерами обиты-съ.
Баринъ. И пообѣдать будетъ можно?
Трактирщикъ. Какже-съ, баринъ, можно-съ.
Баринъ. А што именно будетъ приготовлено?
Трактирщикъ. Жаркое-съ.
Баринъ. Именно какое?
Трактирщикъ. Камаръ съ мухой, тараканъ съ блохой на двѣнадцать частей разрѣзаны-съ, на двѣнадцать персонъ приготовлены-съ.
Баринъ. Марія Ивановна! Какое жаркое чудесное-съ! (Къ трактирщику). Сколько будетъ стоить-съ?
Трактирщикъ. Полтора шесть гривенъ-съ!
Баринъ. Болванъ, не лучше-ли бы тебѣ сказать: два десять.
Трактирщикъ. Мы не болваны, а живёмъ съ людями на обманы-съ.
Баринъ. И водочки достать можно?
Трактирщикъ. Какъ же, баринъ, можно-съ.
Баринъ. Каки именно водки?
Трактирщикъ. Шампанское донское.
Баринъ. Сколько будетъ стоить?
Трактирщикъ. Два шесть гривенъ-съ.
Баринъ. Какія цѣны! Былъ я въ Италіи, былъ и далѣе, былъ въ Парижѣ, былъ и ближе, такихъ цѣнъ не слыхалъ. И дурманъ-водки достать будетъ можно?
Трактирщикъ. Какъ-же, баринъ, можно.
Баринъ. Сколько будетъ стоить?
Трактирщикъ. Три шесть гривенъ-съ.
Баринъ. Полтора шесть гривенъ-съ, два шесть гривенъ-съ, три шесть гривенъ-съ, какія цѣны! Былъ я въ Италіи, былъ и далѣе, былъ въ Парижѣ, былъ и ближе, такихъ цѣнъ не слыхалъ! Поэтому вы, трактирщикъ, болванъ.
Трактирщикъ. Нѣтъ, мы не болваны, а живёмъ съ людями на обманы; не такихъ видали, безъ шинели домой отпускали, а если васъ порядочно угостить, можно безъ мундира отпустить; у васъ въ одномъ карманѣ вошь на арканѣ, въ другомъ блоха на цѣпи.
Баринъ. Ахъ, Марья Ивановна! Должно быть онъ въ нашъ карманъ лазилъ. Не хочу гулять, иду дальше71.
И т. д.
Более того (что гораздо важнее), диалог с чехартмой-черемшой позволяет Чехову окончательно и бессрочно открыть масочную сущность образов военного доктора и штабс-капитана.
Как мы уже знаем, в первом действии, на духоподъемную реплику Тузенбаха о неминуемом признании будущими поколениями высокого значения настоящего, Чебутыкин в шутку противопоставит свою физическую низкорослость. Впрочем, если вдуматься, в шутовской ремарке Ивана Романовича нет и тени иронии.
«У китайцев существует весьма мудрое и незатейливое житейское правило, которое заключается всего лишь в двух словах: «сделайся маленьким».
Какое немудреное правило, а между тем это — главное требование «реальной и серьезной жизни»! Сократись, «сделайся маленьким», совсем маленьким, как можно меньше — и ты получишь за это в награду от «серьезной и реальной жизни» во сто крат больше того, кто стремится развернуть во всю ширь свои силы и расправить свои крылья. Неподатливых безумных мечтателей, которые мнят переделать жизнь, перекинуть такие-то фантастические мосты от мира действительности к химерическому царству «монад» и «вещей в себе», «серьезная и реальная» жизнь выбрасывает за борт и отводит им самое последнее место за житейским пиром. Нельзя строить жизнь по отвлеченным схемам, потому что логика жизни не подходить ни под какие рубрики; можно думать, писать, учиться по логике Аристотеля или Милля, но жить «реальной и серьезной жизнью» можно по одной только неумолимо беспощадной логике жизни»72.
Рецензент противопоставляет отвлеченной мечте реальную жизнь. Чебутыкин делает то же самое:
«Тарарабумбия,
Сижу на тумбе я,
Сижу невесел я
И ножки свесил я.Тарарабумбия,
Сижу на тумбе я,
И горько плачу я,
Что мало значу я...»
Примерно так же как Чебутыкин помогает барону Тузенбаху справиться с идейными исканиями горизонта счастья, «ужасно страшный человек» Соленый по-шутовски бесцеремонно расправляется с мерлехлюндией Маши: «Если философствует мужчина, то это будет философистика или там софистика; если же философствует женщина или две женщины, то уж это будет — потяни меня за палец», — имея в виду непроизвольное испускание газов во время метеоризма (в просторечии — пердеж).
Впрочем, сейчас не его очередь.
«Бальзак венчался в Бердичеве», — подведет черту под дискуссией мечтателей-артиллеристов Иван Романович Чебутыкин.
«Эта тирада стала знаменитой, теперь в России всякий знает, где венчался Бальзак73. Конечно, фраза эта преподносится нам не с интонацией фактического сообщения, выданной кому-то биографической справки о Бальзаке, но с раздумьем. Чебутыкин как бы философствует по поводу Бальзака, фраза его — сентенция, афоризм, а может быть, еще лучше перевести ее на язык музыки — тогда она ариозо Чебутыкина. В самом деле, в ней заключены весь человек и все его чувствование жизни. Весь контекст пьесы через Чебутыкина входит в эту тираду. Она неотделима от контекста. <...> «Афоризмы» Чехова вызывают усложненные эмоции, придают жизни в целом свой особый эмотивный смысл. Афоризмами их можно именовать, только поставив в кавычки этот термин, имея в виду своеобразнейшие афоризмы чувства74. Афоризм Чебутыкина отливает многими цветами. Знаменитый французский писатель приехал в глухой городишко на Волыни, чтобы там обвенчаться с одной польской дамой, — тут игра несообразностей, тут та прихоть действительной жизни, которой полна и эта драма Чехова. <...>
В воспоминаниях своих Бунин рассказывает, как Чехов, смеясь, вслух цитировал из газеты: «Самарский купец Бабкин... завещал все свое состояние на памятник Гегелю»75. Конечно, это был эскиз будущей тирады Чебутыкина, эскиз одного абсурда, который потом вытеснен был другим абсурдом, принятым окончательно, ибо он касался вещей более простых и близких, не памятника философу, но истории одной женитьбы»76.
Говоря о Соленом и Чебутыкине, как персонажах, рекрутированных двигать сюжет, следует помнить об авторском желании выстраивать интригу с максимальным вовлечением в нее. «Чехов советовал всегда держать внимание читателя напряженным. Читатель, как и зритель, должен заинтересоваться, чтобы лишний раз задуматься.
Целесообразность участия в пьесе того или иного персонажа, количество персонажей и постепенное появление их — все это так важно для Чехова, что он пишет Грузинскому-Лазареву: «Нужно, чтобы с каждым явлением число лиц росло по прогрессии»77:
И в том же письме он говорит: «Громоздя эпизоды и лица, связывая их, вы достигаете того, что сцена в продолжение всего действия будет полна и шумна»78.
Этому правилу он оставался верен в собственной драматургии: именно в прогрессии его рисунка в письме к Грузинскому-Лазареву дано постепенное появление персонажей в «Чайке», «Дяде Ване», «Трех сестрах», «Вишневом саде». Середины актов этих пьес наполнены персонажами и сцена остается, по чеховскому слову, «шумной»»79. Напомним, речь идет не о статистах.
А что если допустить «преступную мысль» о том, что Чехов в заботе о зрительском внимании каким-то образом все же придерживается главного драматического правила о единстве действия, сформулированного Аристотелем: «...подобно тому, как в других подражательных искусствах единое подражание есть подражание одному предмету, так и сказание, будучи подражанием действию, должно быть [подражанием действию] единому и целому, и части событий должны быть так сложены, чтобы с перестановкой или изъятием одной из частей менялось бы и расстроивалось целое, — ибо то, присутствие или отсутствие чего незаметно, не есть часть целого»80?
Надо ли кому-то доказывать, что А.П. чувствовал себя как рыба в воде в классического драматической форме («Медведь», «Предложение», «Свадьба», «Юбилей»). Он отлично знал об Аристотеле, а также понимал, что прежде, чем нарушить правило, его следует изучить во всех нюансах. Только в этом случае возможно управлять процессом его нарушения (скорее, переосмысления), и более того, придать этому процессу рациональное начало81. А может быть, он и вовсе ничего не нарушал?
Последовательный сторонник Шекспира, Чехов не мог не учитывать определяющей роли действия в установлении устойчивого контакта автора со зрителем. С другой стороны шекспировский театр, при всем его неоспоримом вневременном звучании, с эстетической точки зрения рассчитан на аудиторию конкретной исторической эпохи и не предполагает зазора со временем в триста лет. Даже если допустить, что Чехов, в совершенстве владевший современным литературным инструментарием, в стремлении к максимально опосредованному присутствию в тексте выбрал драматическую форму как способ замещения крупной прозы, он обязан был учитывать и определенно учитывал специфические условия сцены. Задача выглядит чрезвычайно сложной — сохранив действие, как необходимое условие драмы, изменить его качество, упаковать под слоем повествовательного диалога; однако Чехову этого мало. Он желает поднять градус конфликта за счет непрерывного взаимодействия персонажей, намеренно населяя пьесу большим количеством главных действующих лиц. Центральный вопрос сценического существования вне зависимости от фазы активности — что я делаю — обретает неформальный смысл, а действие строится через четкое понимание взаимосвязей и взаимозависимостей между персонажами, обнаруживая новое качество.
Много лет спустя явлению, творчески освоенному Чеховым-драматургом, будет посвящена одна из последних и важнейших работ с участием Л.С. Выготского82. Рассматривая два внешне разнонаправленных случая деменции при атрофии Пика, исследователи придут к выводу об очевидной связанности обоих больных с неким подвижным постоянно действующим субъектным внешним фактором: «Что же такое связанность с полем, что мы называем психологическим полем? <...> Например, ряд людей ждет трамвая, для всех как бы одинаковая ситуация ожидания, однако для того, кто из-за отсутствия трамвая может опоздать к поезду, это поле получит другой психологический смысл, чем у человека, который никуда не торопится. У большинства ожидающих будет в зависимости от цели их поездки разное психологическое поле. Психологическое поле определяется поэтому теми потребностями, аффективными побуждениями, которые в данный момент имеются у личности, в зависимости от них разные моменты внешней ситуации займут то или иное место в психологическом поле и получат различное побудительное значение»83.
В описании постоянного взаимодействия человека с ситуационно подвижным психологическим полем особо отмечено: «Когда мы говорим о «связанности с полем», мы имеем в виду полную предоставленность личности силам поля, те случаи, когда полевые ситуационные моменты являются решающими и направляющими деятельность человека. Он не в состоянии произвольно изменить ситуацию, овладеть ею, становится ее рабом (тем самым осуществляя свои аффективные побуждения). Однако у нормального человека мы наряду с подчинением силам поля большей частью наблюдаем некоторую произвольность его поведения в ситуации; мы часто ограничиваем себя в покупках, преодолеваем смущение — одним словом, мы не являемся рабами поля, а обладаем возможностью до известных пределов произвольно видоизменять его и тем самым становиться над ситуацией»84.
Ученые придут к выводу о том, что «изменения структуры поля и его значения чаще всего определяются сложными переключениями внутри психических систем личности, включением отдельных аффективных побуждений в более обширные и центральные, специальных потребностей в более диффузные, в другие слои личности и т. д. Так, например, мы можем любезно разговаривать с человеком, которого не любим... Происходит это потому, что рядом с отрицательным отношением к данной личности стоят, например, более общие потребности из-за каких-нибудь целей не портить отношения с определенным кругом людей. Видоизменяя и включая наши непосредственные потребности в общие, перенося специфические отдельные аффективные побуждения в другие слои, мы произвольно изменяем соотношения действующих на нас сил поля... Поэтому возможность произвольного управления ситуацией, свобода в ней тесно связаны со структурой и динамикой систем. Динамика их должна выражаться в гибкости, достаточной подвижности, так как без этого фактора нельзя было бы осуществить необходимую для переключения потребностей коммуникацию. Структура их должна быть достаточно дифференцированной, потому что только тогда возможно свободное, разумное и целесообразное переключение и расширение систем. Но дифференцированность, структурность систем, соответствующих определенным аффективным потребностям человека, определяются в значительной степени участием смысловых мыслительных моментов, дифференцированность в значительной мере обусловлена той обобщающей ролью интеллектуального (смыслового) фактора, который и осуществляет саму дифференциацию. Само переключение систем возможно лишь благодаря тому, что изменяется смысловое значение ситуации. Поэтому возможность произвольно видоизменять поле обусловливается структурой внутренних систем и мышлением; чем более разумное отношение к ситуации (понятийнее), чем более дифференцированы и более гибки внутрипсихические системы, тем большая свобода будет выявлена в отношении к окружающему»85.
Поразительно, что в случае с «Тремя сестрами», сохранив целое, Чехов всесторонне учтет многовекторное построение действия каждого из четырнадцати персонажей. В предложенном им драматургическом решении малозначимые фразы, житейские и философские разговоры, как будто не имеющие отношения к происходящему, на самом деле искусно маскируют, а порой и умышленно отвлекают читателя/зрителя от сюжета, с тем, чтобы скрыть истинные намерения и поступки персонажей. Надежно спрятанный под текстом жесткий каркас драматического механизма обнаруживает себя лишь при условии безошибочной реконструкции очередности ходов, начиная с верного восстановления исходного положения на драматургической доске, сообразно маяковым точкам того же текста.
Разумеется, все это пока что фантазия, допущение, которое лишь при благоприятном стечении обстоятельств позволит нам пересказать сюжет «Трех сестер». В противном случае, как и сто лет назад, придется повторить: «Чехов нисколько не отступил от себя и от своего настроения последних лет. Да и не могут отступить от себя люди дарования, у которых прием наблюдения, характер его и способ выражения сливаются в одно нерушимое целое»86.
Тем не менее, дабы не возвращаться раз за разом к формуле дежурного предположения, в наших дальнейших размышлениях мы позволим себе говорить об эшелонированной драматургии Чехова, как о событии состоявшемся. В конце концов, у всех есть право на ошибку, и к тому же кое о чем мы все-таки уже догадываемся. При этом оговоримся, мы не преследуем цели вторжения на территорию индивидуального прочтения, нас интересует лишь только и исключительно принципиальная авторская схема. Ограничившись констатацией высокой степени сложности практического (театрального) воплощения замысла до запятой — т. е. без подчисток и подмен — с сохранением чеховской фонограммы при наличии высокого уровня шума, мы также не обсуждаем проблему зрителя, который в случае положительного сценического результата вынужден будет принять как данность язык, рассчитанный на интеллект и навык самостоятельности.
Сойдемся в одном, — да простит нас искушенная публика, было бы глупостью утверждать, что Чехов писал «Трех сестер» вне строгого расчета. По сути, все его главные пьесы поддаются математическому анализу, — их можно рисовать. Тем не менее, делая в записных тетрадях многочисленные пометки, А.П. призывает коллег доверять интуиции. Трудность чеховского метода заключается в том, как стилистически и смыслово он организует в едином текстовом пространстве личный опыт, художественную фантазию, стороннюю повседневность и гигантский метатекст мировой литературы. К тому же все это находится в постоянном и многократном отражении, преломлении, смешении и смещении. В разговоре о чеховской творческой кухне, Куприн вспомнит: ««Крупное само останется, — доказывал он, — а мелочи вы всегда изобретете или отыщете». Но вот, спустя час, кто-то из присутствующих, прослуживший случайно год на сцене, стал рассказывать о своих театральных впечатлениях и, между прочим, упомянул о таком случае. Идет дневная репетиция в садовом театре маленького провинциального городка. Первый любовник, в шляпе и в клетчатых панталонах, руки в карманах, расхаживает по сцене, рисуясь перед случайной публикой, забредшей в зрительную залу. Энженю-комик, его «театральная» жена, тоже находившаяся на сцене, обращается к нему: «Саша, как это ты вчера напевал из «Паяцев»87? Насвищи, пожалуйста». Первый любовник поворачивается к ней, медленно меряет ее с ног до головы уничтожающим взором и говорит жирным актерским голосом: «Что-о? Свистать на сцене? А в церкви ты будешь свистать? Так знай же, что сцена — тот же храм!»
После этого рассказа А.П. сбросил пенсне, откинулся на спинку кресла и захохотал своим громким, ясным смехом. И тотчас же полез в боковой ящик стола за записной книжкой. «Постойте, постойте, как вы это рассказывали? Сцена — это храм?..» И записал весь анекдот»88.
В системе чеховских координат апория и несообразность занимают особое место. Говоря о парадоксах «Трех сестер» до сих пор подразумевают примерно то же — настроение и бессмыслицу. Тарарабумбия, казус далеко — не близко, чай с тараканами, смертельный номер поедания блинов, московский канат, мороз в двести градусов, телеграмма никуда, женитьба Бальзака в Бердичеве, безвинно изжаренный младенец, черемша и чехартма, два Московских университета, чепуха (реникса) и т. д., и т. п. — «пьеса нашего теперешнего А.П. Чехова превращается в набор случайных острот, каламбуров, вычурных подробностей и надуманных эпизодов, в беспорядке занесенных в записную книжку и потом, с беззаботностью молодого Антоши Чехонте из «Стрекозы», выложенных перед читателями и зрителями, — это несомненно, и доказать это так же нетрудно, как нетрудно было, например, г. Ченко написать свой живой и бойкий, но совершенно поверхностный разбор «Трех сестер». Одно из двух: или под этой бессмыслицей скрывается огромный смысл пессимистического безверия — или это просто беззаботная проба пера из гусиного крыла, лишенная всякого значения, просто вздор, просто карикатура, просто шутка и отражение, для курьезности и смеха, в нарочито заказанном двояковыпуклом стекле разных физиономий. Или Чехов — поэт, тонкий, задумчивый, изящный, иронически скорбный, или он балагур, забавник, то, что французы называют «fumiste»89, сочиняющий разные небылицы в лицах»90.
Честно признать, в отношении всякого рода белиберды Чехов был и впрямь неравнодушен и испытывал это особое чувство приязни вплоть до самой смерти.
«N, чтобы жениться, вымазал плешь на голове мазью, о которой читал публикацию, и у него неожиданно стала расти на голове свиная щетина»91.
Или
«У меня есть знакомый Кривомордый, и ничего. Не то чтобы Кривоногий или Криворукий, а Кривомордый. Женат был и жена любила»92.
Отчаянное
«...сошелся с 45-летней женщиной, потом стал писать страшные рассказы»93.
Ну, или уж совсем неприличное
«...если бы, положим, мне выйти замуж, то я бы убежал через два дня, а женщина свыкается в доме мужа так скоро, точно родилась в нем»94.
Интерес забавника не пропадет втуне. Сто лет назад, в годы новой экономической политики комплексной проблемой чепухи станут заниматься на самом серьезном теоретическом уровне, сам же абсурд сделается фундаментом одного из наиболее влиятельных авангардистских направлений театральной драматургии.
Именно в двадцатые годы разбирая шекспировского «Гамлета» с точки зрения психологии Л.С. Выготский представит триединство нелепицы, сумасшествия и шутовства как творческий выход из безнадежного положения: «Действие развивается с окончательной невероятностью, оно грозит показаться нам нелепым, внутренние противоречия сгущаются до крайности, расхождение двух линий достигает своего апогея, кажется, вот-вот они разорвутся, оставят одна другую, и действие трагедии треснет и вся она расколется, — и в эти самые опасные минуты вдруг действие сгущается и совершенно откровенно переходит в безумный бред, в повторное сумасшествие, в напыщенную декламацию, в цинизм, в открытое шутовство. Рядом с этим откровенным безумием невероятность пьесы, противопоставленная ему, начинает казаться правдоподобной и действительной. Безумие введено в таком обильном количестве в эту пьесу для того, чтобы спасти ее смысл»95.
«Анализ соотношения смысла и бессмыслицы трагедии [«Гамлет»], — спустя годы скажет комментатор Выготского, — особенно важен для современной теории театра, где проблема сценического использования бессмыслицы поставлена пьесами Ионеско96, Беккета97, Олби98 (последний видит наиболее явного предшественника такого театра в Чехове (ср. «Три сестры») <...>. В анализе Выготского существенно то, что бессмыслица у Шекспира рассматривается как «громоотвод» для спасения смысла (в отличие от некоторых современных пьес, где это равновесие бессмыслицы и смысла нарушается в пользу бессмыслицы, что часто декларируется теоретиками антитеатра)»99.
Это может показаться почти невероятным, но в художественной постановке «Трех сестер» так же проявятся отдельные элементы абсурдистской эстетики, хотя, разумеется, режиссеры придадут им вполне рациональное звучание. Речь, разумеется, идет о спектакле 1901 года; в 1940 году абсурдом будет удивить трудно — некому, да и некого.
«Люди спотыкались о детские игрушки, коляска первенца Наташи выезжала на первый план, пискливая гармоника и железный паяц насмешливо аккомпанировали мечтам Тузенбаха о счастье, о «здоровой, сильной буре».
Деталь как бы символизировала, удостоверяла конфликтную точку. Из таких отдельных деталей — пятен, мазков, как на полотнах импрессионистов, постепенно создавалась картина, проникнутая единым настроением «тоски от жизни»100. Люди, трагическим бездействием разобщенные, каждый по-своему одинокие, объединялись общей атмосферой»101.
На отнесение Чехова к абсурду будут веские причины. В частности — интерес пореволюционного авангарда к проявлениям народной культуры, в которой фольклорный парадокс занимает едва ли не центральное место: «...обращение к проблеме зауми в нашей поэтике 10—20-х годов было сопряжено как с вниманием к параллельным экспериментам в творческой практике художников, так и с исследованием заумных элементов в фольклорных текстах, что в свою очередь повлияло на поэтическую практику Хлебникова102. В более общем виде здесь речь идет об исключительно актуальной для всего современного искусства проблеме бессмысленного («абсурдного») в театре, восходящей еще к Чехову (ср. «тарарабумбия» в «Трех сестрах») <...>. Проблема заумного языка (в частности, в связи с вопросом об изоляции) может быть решена сходным образом и применительно к новейшей западной литературе: так, в наиболее крупном художественном произведении, язык которого близок к принципам зауми, — в «Finnegans Wake» («Похоронное бдение финнеганцев») Джойса — можно отметить такое же проникновение смысла в заумный язык, которое Выготский устанавливает на материале произведений русских футуристов»103.
Кстати, под тем же углом нарочитой нелепицы рассматриваются Выготским так и нереализуемые на практике московские настроения сестер Прозоровых.
Абсурдистский мотив, представленный, в частности, цитатой из «Записок сумасшедшего» («Буду теперь, как гоголевский сумасшедший... молчание... молчание...»104), как будто подтверждает вышесказанное. Напомним, повествование от лица героя «Записок» титулярного советника Аксентия Ивановича Поприщина, написанное в форме дневника, постоянно прерывается фразой: «ничего, ничего... молчание» (записи октября 4; ноября 8, 11, 12 и 13). Однако в отличие от книжницы Марии Сергеевны, ограничивающейся вычитанной декларацией добровольно накладываемого на себя обета, Авксентий Иванович любезно объяснит истинную глубину мысли: «И это все происходит, думаю, оттого, что люди воображают, будто человеческий мозг находится в голове; совсем нет: он приносится ветром со стороны Каспийского моря»105.
Как бы сказал главный советник короля датского Полоний, даже «если это безумие, то в нем есть система»106. Выше мы уже озвучили предположение о том, что скрытая под тонким слоем текста сюжетная схема «Трех сестер» находится в сложной логической связи с поверхностью диалога и, стало быть, сейчас у нас нет оснований заключать, что сквозное действие пьесы вдруг прерывается с очередным, никак не мотивированным, не имеющим отношение к существу пьесы репризным высказыванием.
Помимо Василия Васильевича Соленого и Ивана Романовича Чебутыкина, одним из ярких проводников «абсурда» в пьесе является сторож земской управы Ферапонт107. Едва ли не каждое высказывание тугоухого сторожа формально несет в себе элементы откровенной небывальщины: во втором действии он со слов подрядчика как бы совершенно невпопад вспомнит о смертельном исходе поедания каким-то московским купцом ни то сорока, ни то пятидесяти блинов, а потом, в том же задушевном разговоре с Андреем, со слов того же подрядчика упомянет о натянутом через всю Москву канате. В третьем действии, в сцене пожара, в беловой рукописи сторожу будут добавлены две, казалось бы, адекватных фразы: «В двенадцатом году Москва тоже горела — господи ты боже мой! Французы удивлялись». Однако при перекличке с «осенней» репликой Ферапонта в четвертом действии — о морозе «в двести градусов» не то в Москве, не то в Петербурге — вставка о московском пожаре так же обретает оттенок несуразицы.
Тем более странно, что стариковская ахинея будет воспринята современниками Чехова без тени удивления. Даже самому правильному брату автора Михаилу Павловичу галиматья уха не режет, и единственное, о чем он упомянет в своих воспоминаниях, так это то, что изображенный в пьесе парадоксальный сторож напомнил ему служившего при Бавыкинском волостном правлении сотского, который «то и дело к нему [к Чехову] приходил с той или другой казенной бумагой сотский, и каждая такая бумага звала его к деятельности», и, «несмотря ни на какую погоду, в будни и в праздники, он вечно, положительно с утра и до вечера и с вечера до утра находился в пути с исполнением какого-нибудь поручения от какого-нибудь учреждения или административного лица»108.
Литературно-мемориальный этюд со сторожем получит продолжение, так что спустя десять лет в отношении земского привратника возникнет определенность.
«То и дело к нему приходил то с той, то с другой казенной бумагой сотский, и каждая такая бумага звала его к деятельности. Этот сотский, или, как он сам называл себя, «цоцкай», служил при Бавыкинском волостном правлении, к которому в административном отношении принадлежало Мелихово, и он-то и выведен Чеховым в рассказе «По делам службы» и в «Трех сестрах». Это был необыкновенный человек; он «ходил» уже тридцать лет, все им помыкали: и полиция, и юстиция, и акцизный, и земская управа, и прочее и прочее, и он выполнял их требования, даже самого домашнего свойства, безропотно, с сознанием, если можно так выразиться, стихийности своей службы»109.
К слову, тот же вполне универсальный литературный метод с разрушением стереотипа, остранением вполне реального изображаемого объекта можно проследить и в случаях с комментариями военврача и штабс-капитана, где у любого алогичного заявления при желании всегда читается логически выверенная, ясная мысль, сопровождающая конкретное действие и отраженная в текущем событии.
Язык нелепицы, свойственный народному фольклору (чего стоят обожаемые всеми народные частушки), воспринимается как само собой разумеющееся, то, что не несет ничего неожиданного, как и ничего из ряда вон выходящего:
«Передвинули часы
По Рязанской области.
Раньше хуй стоял в постели,
А теперь в автобусе»110.
Или
«Шла я лесом, вижу: чудо!
Чудо грелось возле пня.
Не успела оглянуться,
Чудо выебло меня!»111
Так и с Ферапонтом: глядя на замерзшего в осеннем саду Андрея, сторож с бумагами, которые на то и есть, чтобы их подписывать, в душе сочувствует его высокоблагородию, и слова швейцара из казенной палаты о морозе в двести градусов — всего лишь жест доброй воли, слова поддержки, мол, все пустяки, и не такое бывало. Что же касается роковых для купца блинов, как и, собственно, каната для перетягивания — так это неотъемлемые масленичные приметы, разве что — по традиции — утрированные.
Со времен «Платонова» гиперболы сделаются визитной карточкой чеховского текста, что в полной мере отразит не только эстетические взгляды Чехова, но и в целом его отношение к жизни. «Помилуйте, — возмущался Чехов, <...> пошел я в Тестов трактир обедать, а какой-то купец напротив увидел меня, поперхнулся и всю даму рядом обрызгал. Что ж тут красивого? Не дают расстегая съесть...»112
Случаи намеренной чеховской гиперболизации будут не единожды описаны мемуаристами.
«Но, разумеется, и на солнце есть пятна, — вспоминает Щеглов, — и одно такое незначительное стилистическое пятнышко я как-то указал Чехову, когда мы разговорились о «Степи». Именно почему-то вспомнилась в самом начале (где говорится о смерти бабушки) фраза, на которой я запнулся, читая впервые рассказ: «Она была жива, пока не умерла...» Что-то в этом роде.
— Быть не может! — воскликнул Чехов и сейчас же достал с полки книгу и нашел место: «до своей смерти она была жива и носила с базара мягкие бублики». — Чехов рассмеялся. — Действительно, как это я так не доглядел. А впрочем, нынешняя публика не такие еще фрукты кушает. Нехай! И равнодушно захлопнул книгу113.
Чеховский парадокс сбивает с толку. Казалось бы ему прямо указывают на очевидную тавтологию, и Чехов, столь щепетильно относящийся к каждой запятой, выказывает удивительное равнодушие к стилистической и смысловой ошибке. Только вот вопрос — ошибка ли это или напротив пример расширения горизонта возможностей, нового качества правды. Что это, если не будущий Андрей Платонов:
«В день тридцатилетия личной жизни Вощеву дали расчет с небольшого механического завода, где он добывал средства для своего существования. В увольнительном документе ему написали, что он устраняется с производства вследствие роста слабосильности в нем и задумчивости среди общего темпа труда.
Вощев взял на квартире вещи в мешок и вышел наружу, чтобы на воздухе лучше понять свое будущее. Но воздух был пуст, неподвижные деревья бережно держали жару в листьях, и скучно лежала пыль на безлюдной дороге — в природе было такое положение. Вощев не знал, куда его влечет, и облокотился в конце города на низкую ограду одной усадьбы, в которой приучали бессемейных детей к труду и пользе. Дальше город прекращался — там была лишь пивная для отходников и низкооплачиваемых категорий, стоявшая, как учреждение, без всякого двора, а за пивной возвышался глиняный бугор, и старое дерево росло на нем одно среди светлой погоды»114.
Размышляя об эстетическом бунте Чехова, его необычайной художественной достоверности, Алексеев напишет: «Эта правда волнует своей неожиданностью, таинственной связью с забытым прошлым, с необъяснимым предчувствием будущего, особой логикой жизни, в которой, кажется, нет здравого смысла, которая точно глумится и зло шутит над людьми, ставит их в тупик или смешит. Все эти часто не передаваемые словами настроения, предчувствия, намеки, ароматы и тени чувств исходят из глубины нашей души, соприкасаются с нашими большими переживаниями — религиозными ощущениями, общественной совестью, высшим чувством правды и справедливости, пытливым устремлением нашего разума в тайны бытия»115.
В поисках своей правды Алексееву потребуются иные средства: «Намеренно снижая сестер «в ранге» (строя им не «генеральскую», а «капитанскую» квартиру), каждой деталью подчеркивая измельченность, захолустность провинциальной жизни, Станиславский стремился глубже прочертить несоответствие между устоявшимся бытом и мечтой о далекой «Москве», между поэзией и прозой существования чеховских героев»116.
И даже в этой линии на снижение подход Алексеева вынужденно противоречит чеховскому.
«В реплике Тузенбаха во втором акте вместо «Сегодня мне придется играть на пианино... стояло «на рояле»; в четвертом акте, в реплике Наташи вместо «Велю прежде всего срубить эту еловую аллею» стояло «березовую аллею».
Происхождение этих отклонений подтверждала музейная экспозиция первой постановки «Трех сестер»: в декорации первого и второго актов стоял рояль, а не пианино; в четвертом акте были березы, а не ели»117.
Такое во многом разнонаправленное движение Чехова и художественников объясняется не связанными друг с другом задачами, стоящими перед драматургом и театром, что особенно показательно в истории с искажением текста беловой рукописи. О критическом уровне несоответствия и театрального непонимания можно судить хотя бы по такому фрагменту чеховской беловой рукописи начала второго действия.
Ферапонт. <...> И тот же подрядчик сказывал — может, и врет — будто поперек всей Москвы канат протянут.
Андрей. Для чего?
Ферапонт. Не могу знать. Подрядчик говорил.
Андрей. Чепуха. (Читая книгу.) Ты был когда-нибудь в Москве?
Ферапонт (после паузы). Не был. Не привел бог.
Пауза.
Мне идти?
Андрей. Можешь идти. Будь здоров.
Ферапонт уходит.
Будь здоров... (Читая.)118 Все помню, ничего не забыл. Громадная у меня память,119 с этакой памятью другой на моем месте давно бы протянулся поперек всей Москвы, как120 канат... Поперек всей России... Я думаю, ничто не дает выше и слаже наслаждения, чем слава...
Звонок.
Да, дела... Мечтал когда-то о славе... да... (Потягивается.) И она была так возможна... (Не спеша уходит к себе.)121
За сценой поет нянька, укачивая ребенка. Входят Маша и Вершинин. Пока они беседуют, в зале горничная зажигает лампу и свечи.
Маша. Не знаю122.
В логике скрытого ответа, — как и в случае Чебутыкина и Тузенбаха в первом действии, когда после слов Ирины: «Сегодня утром проснулась, увидела массу света, увидела весну, и радость заволновалась в моей душе, захотелось на родину страстно», Чебутыкин скажет: «Черта с два!», а Тузенбах добавит: «Конечно, вздор!» (адресаты — силач Соленый и москвичка Ирина), — Маша отвечает не только Вершинину (на вопрос «вы счастливы?»), но и Андрею («не уверена, что ты прав насчет славы»).
Художественники вымарывают текст Андрея Сергеевича, оставив две неясных «атмосферных» фразы: «Он ушел», «Да, дела...», тем самым обессмысливая ответ Маши и оскопляя претензии брата.
Маета Андрея, вызванная внезапным освобождением из-под пресса внешнего управления, с точки зрения литературной связи вновь отсылает нас к «Грозе». У Островского жена Тихона и его сестра скажут об этом так:
Катерина. И на воле-то он словно связанный.
Варвара. Да, как же, связанный! Он как выедет, так запьет. Он теперь слушает, а сам думает, как бы ему вырваться-то поскорей123.
Сам Тихон Иванович Кабанов о поездке в первопрестольную вспомнит в щемящей тоске и с чувством глубокой ностальгии: «Я в Москву ездил, ты знаешь? На дорогу-то маменька читала, читала мне наставления-то, а я как выехал, так загулял. Уж очень рад, что на волю-то вырвался. И всю дорогу пил, и в Москве все пил, так это кучу, что та-поди! Так, чтобы уж на целый год отгуляться. Ни разу про дом-то и не вспомнил»124.
Когда же местный изобретатель вечного двигателя, верно оценив масштаб проблемы, посоветует сударю «своим умом жить», купеческий сын лишь руками разведет: «Что ж мне, разорваться, что ли! Нет, говорят, своего-то ума. И, значит, живи век чужим. Я вот возьму да последний-то, какой есть, пропью; пусть маменька тогда со мной, как с дураком, и нянчится»125.
Подобно Кабанову, у Андрея Сергеевича с нехваткой чужого ума проблемы нет, — его даже с избытком. Разница лишь в том, что безвольный Тихон Иванович угнетен мягкой силой собственной матери, а располневший без отцовского надзора несостоявшийся профессор — деморализующей мыслью о недооцененности.
Наряду с Ферапонтом связь с прошлой жизнью в московском ее обличье носит в себе старая нянька Прозоровых. В пожизненно заключенной Немировичем беловой рукописи все правки уточняют статус Анфисы126, охраняющей прежний уклад и отцовское влияние:
«Пойдем, батюшка Ферапонт Спиридоныч. Пойдем...» (Уходит с Ферапонтом.)127
«Милые, полковник незнакомый! Уж пальто снял, деточки, сюда идет. Аринушка, ты же будь ласковая, вежливенькая...»128
В милых, будто ни к чему не обязывающих наставлениях — неотвратимая забота, предполагающая ответное послушание.
Чехов «выказывает необыкновенную сердечную теплоту, рисуя старуху — няню Анфису»129, — скажет рецензент-современник. Аксиому повторят едва ли не все интерпретаторы.
Самой совестливой среди всех детей Прозорова окажется старшая дочь. На это обстоятельство Чехов укажет сразу, с эпизода подмены годовщины смерти отца беззаботными именинами младшей сестры. Именно Ольга выступит инициатором неприятного спора. И только Анфиса выкажет солидарность со старшей воспитанницей, намеренно назвав принесенный Ферапонтом торт Протопопова пирогом — атрибутом не только именин, но и поминок. Ольга намеренно повторит нянину оговорку.
В отличие от Прозоровых, Наталья Ивановна быстро сообразит от кого в генеральском доме исходит реальная угроза. Она безошибочно угадает, что за птица деревенская старушонка — тихая, неприметная и как никто умеющая держать дом комбрига в ежовых рукавицах.
Тень отца незримо присутствует все первое действие пьесы. И даже тогда, когда все сядут за стол, нет уверенности в том, что стол этот праздничный130. Ситуацию усугубляют приметы.
В первом действии «Дикой утки», написанной Ибсеном пятнадцатью годами раньше «Трех сестер», между главными героями пьесы происходит занятный разговор:
Верле (вполголоса, озабоченно). Надеюсь, никто не заметил, Грегерс?
Грегерс (глядит на него). Чего?
Верле. И ты не заметил?
Грегерс. А что было замечать?
Верле. Нас сидело за столом тринадцать.
Грегерс. Вот как? Тринадцать?
Верле (взглянув на Ялмара Экдала). Вообще-то мы ведь привыкли всегда рассчитывать на двенадцать персон... (Остальным гостям.) Прошу вас, господа. (Уходит с остальными гостями, исключая Грегерса и Ялмара Экдала, во вторую комнату направо.)
Ялмар (слышавший разговор). Не следовало бы тебе присылать мне приглашение, Грегерс131.
О чем говорят эти люди? Эти люди говорят о приметах, и приметы эти грозные.
К примеру, если за стол садятся тринадцать человек и этот день совпадает со святым праздником, то самый младший из них непременно умрет.
Или вот еще: нельзя первым вставать из-за стола, за которым сидели 13 человек. Потому что, тот, кто первым поднимется из-за стола, за которым сидит 13 человек, умрет в течение года.
Примечания
1. Соловьева И.Н. «Три сестры» и «Вишневый сад» в Художественном театре // РЭ. Т. 3. С. 20.
2. Чехов А.П. Три сестры // ПСС. Т. 13. С. 135.
3. Там же. С. 149.
4. Берковский Н.Я. Литература и театр. С. 154.
5. Чехов А.П. Три сестры // ПСС. Т. 13. С. 135.
6. Даль В.И. Толковый словарь живого Великорусского языка. Т. IV. С. 274.
7. Там же.
8. Мф. 5:13.
9. Ушаков Дмитрий Николаевич (1873—1942) — русский и советский лингвист, один из организаторов реформы русской орфографии, член-корреспондент АН СССР (1939). Известен главным образом как редактор и соавтор одного из основных толковых словарей русского языка.
10. Толковый словарь русского языка под ред. Д.Н. Ушакова. М., 1940. Т. 4. С. 369.
11. Ожегов Сергей Иванович (1900—1964) — советский лингвист, лексикограф, доктор филологических наук, профессор. Автор выдержавшего множество изданий «Словаря русского языка». Один из составителей «Толкового словаря русского языка» под редакцией Д.Н. Ушакова.
12. Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 2006. С. 745.
13. Берковский Н.Я. О русской литературе. Л., 1985. С. 313.
14. У Шекспир. Король Лир. СПб., 1887. С. V—VI.
15. Головачёва А.Г. «Прошедшей ночью во сне я видел трёх сестер» // Чеховиана. «Три сестры» — 100 лет. С. 76—77.
16. Чехов А.П. Записные книжки // ПСС. Т. 17. С. 63.
17. Там же. С. 65.
18. Чехов А.П. Три сестры // ПСС. Т. 13. С. 431. Примечания.
19. Там же. С. 148—149.
20. Паперный З.С. Еще одна странная пьеса (сюжет в «Трех сестрах») // Чеховские чтения в Ялте. Чехов сегодня. М., 1987. С. 52.
21. Чехов А.П. Три сестры // ПСС. Т. 13. С. 150.
22. Пушкин А.С. Цыганы // ПСС. Т. 4. С. 201.
23. Чехов А.П. Три сестры // ПСС. Т. 13. С. 151.
24. Там же. С. 177.
25. Орлова Е.И. Формы присутствия автора в литературном произведении. М., 2017. С. 6.
26. Из письма В.И. Немировича-Данченко — П.Д. Боборыкину от 6 марта 1901 г. // ТН4. Т. 1. С. 372.
27. С. Сутугин [О.Г. Эттингер] «Три сестры» // ТИ, 1901, № 48. С. 870—871.
28. Толстой Л.Н. Предисловии к сочинениям Гюи де Мопассана // ПСС. Т. 30. С. 18—19.
29. Катаев В.Б. Буревестник Солёный и драматические рифмы в «Трёх сёстрах» // Чеховиана. «Три сестры» — 100 лет. С. 121.
30. Из письма А.П. Чехова — А.М. Пешкову (М. Горькому) от 3 декабря 1898 г. // ПСС. Т. 25. С. 352.
31. Катаев В.Б. Буревестник Солёный и драматические рифмы в «Трёх сёстрах» // Чеховиана. «Три сестры» — 100 лет. С. 122.
32. Из письма А.М. Пешкова (М. Горького) — А.П. Чехову после 6 декабря 1898 г. // ПСС. Письма. Т. 1. С. 294.
33. Из письма А.П. Чехова — А.М. Пешкову (М. Горькому) от 3 января 1899 г. // ПСС. Т. 26. С. 11.
34. Из письма А.П. Чехова — А.М. Пешкову (М. Горькому) от 3 сентября 1899 г. // ПСС. Т. 26. С. 259.
35. Чехов А.П. Три сестры // ПСС. Т. 13. С. 154.
36. Катаев В.Б. Буревестник Солёный и драматические рифмы в «Трёх сёстрах» // Чеховиана. «Три сестры» — 100 лет. С. 122.
37. См.: Родина Т.М. Литературные и общественные предпосылки образа Соленого: («Три сестры») // Чеховские чтения в Ялте: Чехов и русская литература. М., 1978. С. 21—31; Адати Н. Соленый и другие (К вопросу о литературной цитате в «Трех сестрах») // Молодые исследователи Чехова. III. Материалы международной конференции. Июнь 1998. М., 1998. С. 177—181.
38. Чехов А.П. Три сестры // ПСС. Т. 13. С. 125.
39. См. письмо А.П. Чехова — А.И. Сумбатову (Южину) от 14 декабря 1889 г. // ПСС. Т. 21. С. 302.
40. Головачёва А.Г. «Прошедшей ночью во сне я видел трёх сестер» // Чеховиана. «Три сестры» — 100 лет. С. 75—76.
41. У. Шекспир. Король Лир. Пер. А. Дружинина // Полное собрание сочинений: В 5 т. СПб., 1902—1904. Т. 3. С. 387.
42. Головачёва А.Г. «Прошедшей ночью во сне я видел трёх сестер // Чеховиана. «Три сестры» — 100 лет. С. 76.
43. Толстой Л.Н. Предисловии к сочинениям Гюи де Мопассана // ПСС. Т. 30. С. 20.
44. Головачёва А.Г. «Прошедшей ночью во сне я видел трёх сестер» // Чеховиана. «Три сестры» — 100 лет. С. 76.
45. Чехов А.П. Три сестры // ПСС. Т. 13. С. 128.
46. Король Лир на склоне лет решает удалиться отдел и разделить своё королевство между тремя дочерьми — Реганой, Гонерильей и Корделией.
47. Персонажи трагедии «Макбет» — три ведьмы, также известные как Странные сестры или своенравные сестры (три судьбы).
48. Головачёва А.Г. «Прошедшей ночью во сне я видел трёх сестер // Чеховиана. «Три сестры» — 100 лет. С. 71.
49. Сёстры Бро́нте (Шарлотта (1816—1855), Эмили (1818—1848) и Энн (1820—1849) — английские писательницы 1840-х — 1850-х годов. Их романы произвели сенсацию при опубликовании и впоследствии были признаны классикой английской литературы. Их единственный брат Бренуэлл (1817—1848) — художник и поэт, был четвёртым ребёнком из шестерых детей и единственным сыном Патрика Бронте и его жены, Марии Бренуэлл Бронте. Родился в Торнтоне, близ Брэдфорда, Йоркшир, и позже переехал со своей семьей в Хоэрт, где его отец получил сан священника.
50. Рейфилд Д. Жизнь Антона Чехова. С. 702.
51. С. Сутугин [О.Г. Эттингер] «Три сестры» // ТИ, 1901, № 48. С. 872.
52. Толстой Л.Н. Предисловии к сочинениям Гюи де Мопассана // ПСС. Т. 30. С. 19.
53. Царь Радован — герой индийского сказания Н.С. Лескова «Врамадата и Радован».
54. Семен Людин. Когда мы, мертвые, пробуждаемся? // ТИ, 1901, № 32. С. 570.
55. Ряд цитат роли Чебутыкина, по мнению автора статьи, логически вытекающих одна из другой.
56. Чехов А.П. Три сестры // ПСС. Т. 13. С. 127.
57. Там же. С. 160.
58. С. Сутугин [О.Г. Эттингер] «Три сестры» // ТИ, 1901, № 48. С. 871—872.
59. Чехов А.П. Записные книжки // ПСС. Т. 17. С. 215.
60. См. Даль В.И. Толковый словарь живого Великорусского языка. Т. IV. С. 603.
61. Борис Бороздин — главный герой пьесы В.С. Розова «Вечно живые».
62. Александр Ильин — главный герой пьесы А.М. Володина «Пять вечеров».
63. Чехов А.П. Записные книжки // ПСС. Т. 17. С. 51, 127, 160.
64. Там же. С. 214.
65. Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени. Княжна Мэри // ПСС. Т. 6. С. 283.
66. В первом действии Вершинин сообщит Ольге, что ему идет сорок третий год. См. Чехов А.П. Три сестры // ПСС. Т. 13. С. 127. Еще раньше Ольга сообщает о том, что отец получил бригаду и выехал из Москвы одиннадцать лет назад. Там же. С. 119.
67. Чехов А.П. Чайка // ПСС. Т. 13. С. 8.
68. Чехов А.П. Дядя Ваня // ПСС. Т. 13. С. 63.
69. Чехов А.П. Три сестры // ПСС. Т. 13. С. 151.
70. Любопытно: «Баринъ. Въ военной формѣ, съ погонами; бѣлая соломенная шляпа, въ усахъ, съ тростью, при зонтикѣ. Барыня. Переодѣтый мужчина изъ молодыхъ парней; въ платьѣ, въ чепцѣ. Старается говорить тонкимъ голосомъ».
71. Сѣверныя народныя драмы. Сборникъ Н.Е. Ончукова. СПб., 1911. С. 124—126.
72. Семен Людин. Когда мы, мертвые, пробуждаемся? // ТИ, 1901, № 32. С. 570.
73. Оноре де Бальзак (1799—1850) — французский писатель, один из основоположников реализма в европейской литературе. Крупнейшее произведение Бальзака — серия романов и повестей «Человеческая комедия», рисующая картину жизни современного писателю французского общества. Творчество Бальзака пользовалось большой популярностью в Европе и ещё при жизни принесло ему репутацию одного из величайших прозаиков XIX века. 14 марта 1850 года Бальзак обвенчался с подданной Российской империи Эвелиной Ганской в костёле святой Варвары в Бердичеве, за 5 месяцев до своей кончины.
74. См.: «Anton Cechov. Some Sessays». (Статья: Nils Ane Nilsson, Intonation and Rhythm in Chechov's Plays.) В статье проводится справедливая мысль о том, что тирады, подобные тираде Чебутыкина, не являются шифром или иероглифом, который нужно разгадывать, но обладают неким смутно-обобщенным эмоциональным значением. — прим. Н.Я. Берковского.
75. Бунин И.А. О Чехове // ПСС. Т. 8. С. 201.
76. Берковский Н.Я. Литература и театр. С. 173—174.
77. Из письма А.П. Чехова — А.С. Лазареву (Грузинскому) от 26 ноября 1887 г. // ПСС. Т. 20. С. 155.
78. Там же.
79. Соболев Ю.В. Чехов. Статьи, материалы, биография. С. 92—93.
80. Аристотель. Поэтика // Философское наследие. Т. 90 / Сочинения: В 4-хт. М., 1983. Т. 4. С. 655.
81. «Изучай и знай правила, чтобы понимать, как правильно их нарушить». Далай-лама XIV
82. Авторский коллектив Самухин Н.В., Биренбаум Г.В., Выготский Л.С. К вопросу о деменции при болезни Пика // «Советская невропатология, психиатрия и психогигиена». М., 1934. Т. III, вып. 6.
83. Самухин Н.В., Биренбаум Г.В., Выготский Л.С. К вопросу о деменции при болезни Пика Клиническое и экспериментально-психологическое исследование // Хрестоматия по патопсихологии. М., 1981. С. 125—126.
84. Там же. С. 126.
85. Там же. С. 126—127.
86. А. Кугель. Заметки о Московском Художественном театре // ТИ, 1904, № 15. С. 303.
87. «Паяцы» — опера итальянского композитора Руджеро Леонкавалло (1857—1919), написанная на собственное либретто. Премьера оперы состоялась 21 мая 1892 года в Милане.
88. Куприн А.И. Памяти Чехова // А.П. Чехов в воспоминаниях современников, 1986. С. 529—530.
89. Насмешник (фр.).
90. А. Кугель. Заметки о Московском Художественном театре // ТИ, 1904, № 15. С. 303—304.
91. Чехов А.П. Записные книжки // ПСС. Т. 17. С. 97.
92. Там же. С. 90.
93. Там же. С. 85.
94. Там же. С. 92.
95. Выготский Л.С. Психология искусства. С. 256.
96. Эжен Ионеско (1909—1994) — французский драматург румынского происхождения, один из основоположников эстетического течения абсурдизма (театра абсурда), признанный классик театрального авангарда XX века.
97. Сэмюэл Баркли Беккет (1906—1989) — французский и ирландский писатель, поэт и драматург. Представитель модернизма в литературе. Один из основоположников (наряду с Ионеско) театра абсурда.
98. Эдвард Олби (1928—2016) — американский драматург. Является представителем так называемого «театра абсурда».
99. Выготский Л.С. Психология искусства. С. 392—393. Примечания.
100. Интересно, что в развитом советском прочтении лейтмотив ожидания возможного будущего с предлогом по сменится безысходным текущим от. Таким образом некая идеальная жизнь будет подменена невыносимой и беспросветной текущей жизнью.
101. Строева М.Н. Режиссерские искания Станиславского. С. 76.
102. См.: Jakobson R. Retrospect. — In.: Selected Writings. Vol. 4. The Hague, 1966, p. 639—670.
103. Выготский Л.С. Психология искусства. С. 378. Примечания.
104. Чехов А.П. Три сестры // ПСС. Т. 13. С. 169.
105. Гоголь Н.В. Записки сумасшедшего // ПСС. Т. 3. С. 171.
106. Though this be madness, yet there is method in it (стар. англ.). У. Шекспир «Гамлет», действие 2, явление 2.
107. Ферапонт от греч. Therapon (род. п. Therapontos) — «слуга».
108. Чехов М.П. Антон Чехов и его сюжеты. С. 99.
109. Чехов М.П. Вокруг Чехова // Вокруг Чехова. С. 301—302.
110. Разрешите вас потешить. Вып. 1. Сост. Н.К. Старшинов. М., 1992. С. 109.
111. Там же. С. 120.
112. Чудаков А.П. Антон Павлович Чехов. С. 125.
113. Это место в «Степи» осталось без переделки.
114. Платонов А.П. Котлован // Собрание: В 8 т. Чевенгур. Котлован. С. 413.
115. Алексеев К.С. (Станиславский). Моя жизнь в искусстве // СС. Т. 1. С. 293.
116. Строева М.Н. Режиссерские искания Станиславского. С. 75.
117. Владимирская А.Р. Две ранние редакции пьесы «Три сестры» // ЛН. Т. 68. С. 3.
118. Далее: Завтра утром придешь, возьмешь тут бумаги... Вот видишь,
119. Далее: и
120. Далее: этот твой
121. Вместо: Я думаю ~ (Не спеша уходит к себе.) — Ступай... (Пауза.) Он ушел. (Звонок.) Да, дела... (Потягивается и не спеша уходит к себе.)
122. Далее: (Пауза.) Не знаю.
123. Островский А.Н. Гроза // ПСС. Т. 2. С. 229.
124. Там же. С. 258.
125. Там же. С. 258—259.
126. Анфиса (от греч. Ανθοῦσα) — «цветущая».
127. Чехов А.П. Три сестры // ПСС. Т. 13. С. 125.
128. Там же. С. 126.
129. С. Сутугин [О.Г. Эттингер] «Три сестры» // ТИ, 1901, № 48. С. 872.
130. В день годовщины перед тем, как сесть за стол, необходимо помолиться. Один из родственников должен прочесть 17 кафизму, либо чин панихиды. Во время молитвы возжигают свечи. Затем можно приступать к трапезе. Она должна пройти достойно, разговоры должны быть приличными, шутки и смех неуместны. К столу подаются особые блюда. Обязательно в их число входит кутья.
131. Ибсен Г. Дикая утка // Собрание сочинений: В 4 т. М., 1956—1958. Т. 3. С. 639—640.
| Предыдущая страница | К оглавлению | Следующая страница |