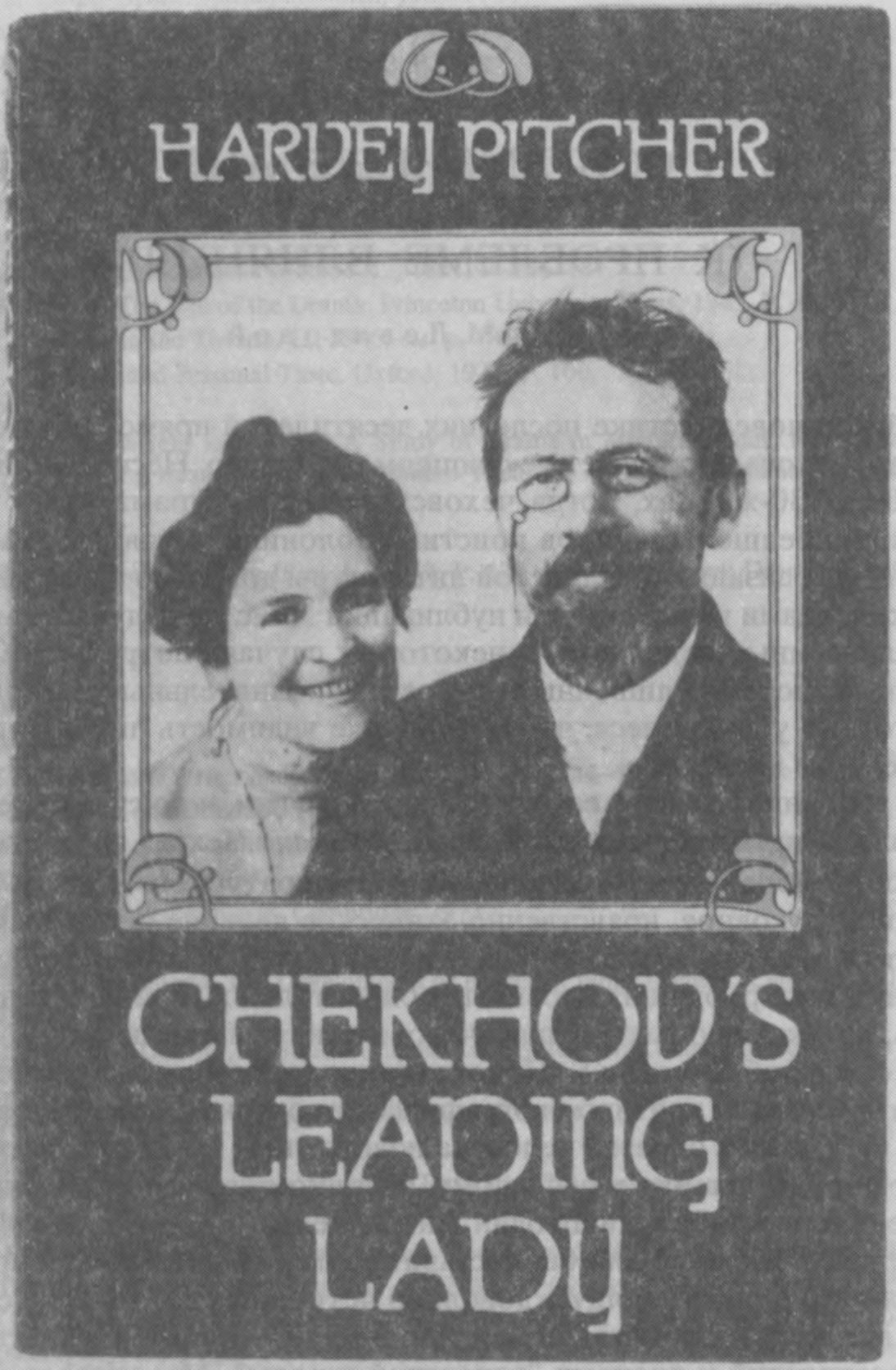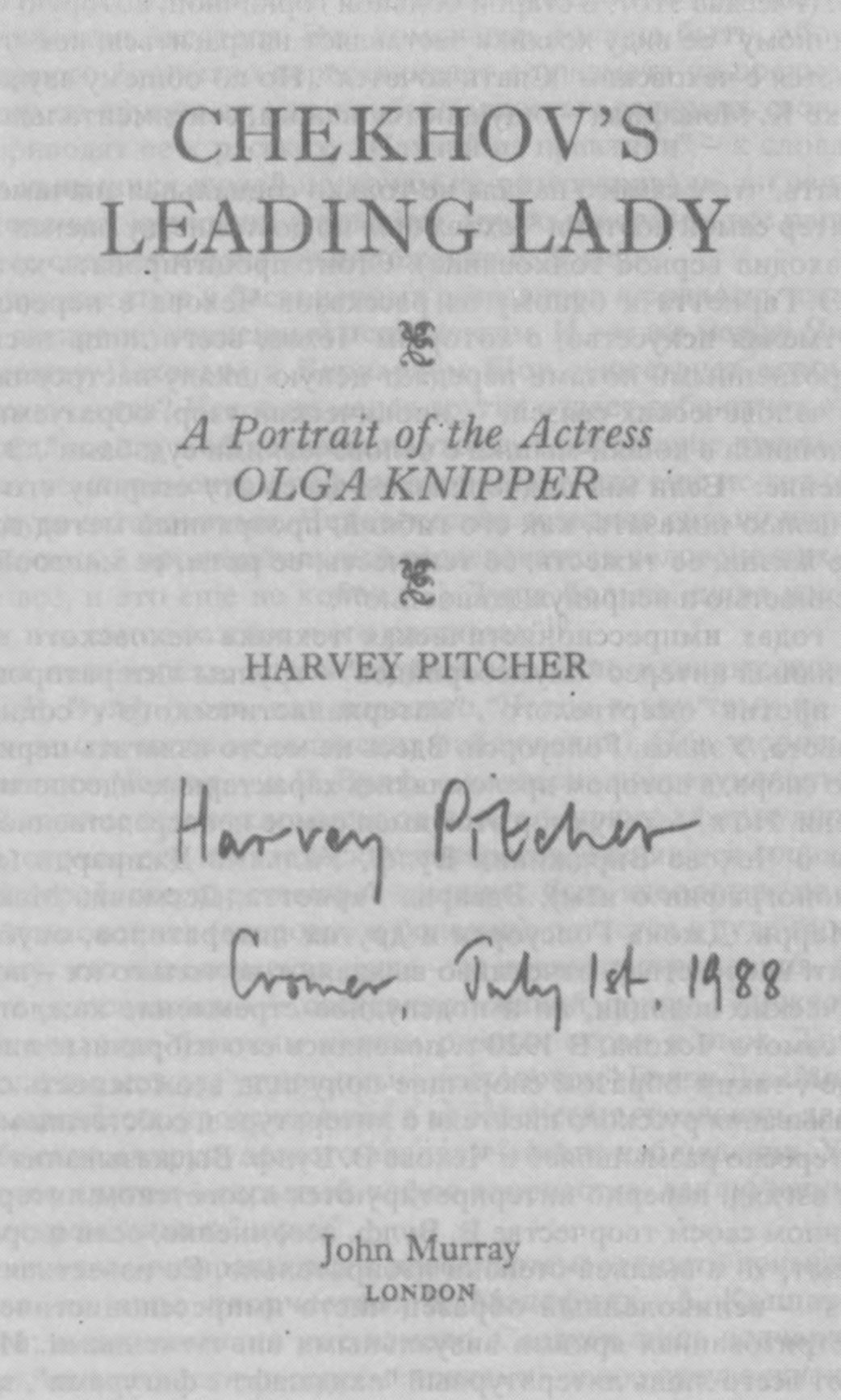В английской новеллистике последних десятилетий прямое, непосредственное влияние прозы Чехова проступает не слишком отчетливо. Несколько иначе обстояло дело в 20-х и 30-х годах, когда чеховская проза и драматургия в переводах К. Гарнетт и ее предшественников поистине полонили читающую Англию. Этот период явной «чеховизации» английской литературы довольно подробно исследован советскими критиками в ряде работ и публикаций1. Нас же будут занимать главным образом послевоенные годы, хотя в некоторых случаях потребуется вернуться к прошлому: выявляются не лишенные интереса дополнительные материалы, а иные мнения, настолько устоявшиеся, что обрели уже видимость литературного факта, вызывают желание поспорить.
Понятие «влияние» следует сейчас заменить другим, и по сути более значительным. Речь должна идти о непреходящем присутствии Чехова для всего читающего мира, а в особой мере — для мира пишущего, литературного2. Чехов как великое художественное, духовное, нравственно-этическое явление и ныне живет в сознании множества писателей, в том числе и писателей стран английского языка. Не только как Мастер, один из коренных обновителей жанра новеллы и реформаторов театра, но и как необыкновенная человеческая личность.
Хорошо сказал об этом Дж.Б. Пристли, в свое время не раз писавший о чеховской драме, в небольшом критико-биографическом очерке «Антон Чехов»3.
«...В нем был создан образец человека нового типа, но форма оказалась разбитой еще в ту пору, когда нашему слепому, безумному веку не исполнилось и пяти лет. На свете был и остается лишь один Антон Чехов».
Слова Пристли можно было бы поставить эпиграфом к работе, прослеживающей связь — иногда проступающую довольно четко, иногда трудноуловимую, подспудную, но все же реально существующую — между путями английской новеллы последних десятилетий и уроками «чеховской школы». Мы назвали бы эту связь своеобразной перекличкой: отклик, освоение, заимствование — осознанное либо невольное — каких-то особенностей чеховской поэтики нередко встречается в творческой практике авторов, очень от него далеких по своей писательской сути. Это поистине перекличка с разных берегов, и расслышать ее бывает трудно еще и потому, что ведется она как бы с двух движущихся точек.
Многообразные и нередко противоречивые процессы происходят в англоязычной, в частности — английской новеллистике. Но одновременно «движется» в нашем восприятии и понимании само творчество Чехова: освобождаясь от многих догм и стереотипов литературоведческого мышления, мы различаем новые грани и контуры его художественного мира.
Как известно, некоторые чеховские рассказы были переведены в Англии в конце XIX в.4 Но по-настоящему англичане получили представление о русском писателе благодаря литератору и переводчику Р. Лонгу, который в 1903 и 1908 гг. выпустил два сборника рассказов Чехова в своих переводах, а еще ранее выступил со статьями о нем5. Первым английским беллетристом, откликнувшимся в печати на сборники К. Лонга, был, вероятно, Арнольд Беннет; в 68-м томе «Лит. наследства» приведены отрывки из его рецензии: («Ни у нас, ни во Франции нет и никогда не было такого писателя, который умел бы материалу жизни, ничуть его при этом не искажая, придавать такую сложную и бесконечно прекрасную форму...») Здесь Беннет выступает как критик. А вот в его дневниковой записи от 26.II.1909 г. раздается голос писателя, очень лично и непосредственно воспринимающего непостижимую тайну искусства русского автора, которого он не может не считать соперником: «Все больше и больше поражает Чехов и все больше и больше склоняюсь к мысли написать множество коротких рассказов в той же самой технике. Собственно говоря, у меня такой рассказ уже есть — «Смерть Саймона Фьюджа» — он написан задолго до того, как я узнал Чехова, и пожалуй, не уступает чеховским. Хотя надо обладать некоторым нахальством, чтобы счесть какие-то свои вещи равными «Палате № 6» или «Черному монаху»». В писательском сознании Беннета, который вместе с Уэллсом и Голсуорси представлял направление критического, социально насыщенного реализма начала XX в., Чехов присутствует неизменно. И нет ничего удивительного в том, что и русского художника Беннет неосознанно стремится «вписать» в английскую литературную жизнь, сделать союзником, единомышленником.
Вот запись от 27.IV.20 г.: «Сегодня, перечитывая «Палату № 6», вдруг поразился тому, как непохож этот рассказ на другие из того же тома, и как мало есть вообще чеховских рассказов, похожих на этот. Местами кажется, будто вещь эта написана под английским влиянием. Это очень страшный рассказ, и один из самых сильных примеров того, как одержим был Чехов темой русской распущенности, неумелости, коррупции»6. А 15.IX.24 г., записывая впечатления от сборника рассказов О. Хаксли «Маленький мексиканец», отмечает ««Краска на лице» — чеховский рассказ». (Рассказ этот, о старой больной горничной, которую чувствительная к «антиэстетичному» ее виду хозяйка заставляет накраситься, некоторыми деталями перекликается с чеховским «Спать хочется». Но по общему звучанию он ближе к новеллистике К. Мэнсфилд — ощущаются нажим, сентиментальность, известная манерность.)
Надо сказать, что с самого начала не только социальная значимость, но и новаторский характер самой поэтики Чехова был по достоинству оценен в Англии (хотя и не всегда находил верное толкование). Стоит процитировать хотя бы отрывок из введения Э. Гарнетта к одному из рассказов Чехова в переводе К. Гарнетт (1915 год). Отмечая искусство, с которым Чехов, всего лишь несколькими, как будто бы разрозненными нотами передает целую шкалу настроений, раскрывает дисгармонию человеческих связей, «...иронический узор, образуемый временем и случаем, играющими в кошки-мышки с человеческими судьбами», Э. Гарнетт говорит в заключение: «Если мы подчеркиваем здесь эту сторону его дарования, то делаем это с целью показать, как его гибкий, прозрачный метод воссоздает само биение пульса жизни, ее тяжесть, ее текучесть, ее ритм, ее многообразие с удивительной уверенностью и непринужденностью»7.
В 1920-х годах импрессионистическая техника чеховского повествования вызывала активный интерес «блумсберийцев» — группы литераторов-модернистов, выступавших против «омертвелого», «материалистического», «социологического» реализма Беннета, Уэллса, Голсуорси. Здесь не место излагать перипетии бурного литературного спора, в котором преломлялись характерные идеологические процессы того времени. Но к Чехову спор этот имел самое непосредственное отношение.
Суждения о Чехове Вирджинии Вулф, Уильяма Джирарди (автора первой английской монографии о нем), Эдварда Гарнетта, Десмонда Маккарти, Джона Миддлтона Марри, Джона Голсуорси и других литераторов, опубликованные в 68-м томе «Лит. наследства», отчетливо выявляют не только их — порой контрастные — эстетические позиции, но и подспудное стремление каждого «заручиться поддержкой» самого Чехова. В 1920 г. появились его избранные письма в английском переводе8, таким образом спорящие получили возможность ссылаться и на прямые высказывания русского писателя о литературе и собственном творчестве.
Очень интересно размышляет о Чехове В. Вулф. Высказывания этой писательницы, на наш взгляд, неверно интерпретируются в советском литературоведении. В художественном своем творчестве В. Вулф, несомненно, если и ориентировалась на русский опыт, то в высшей степени избирательно. Ее известная новелла-этюд «Кью-Гарденз» — великолепный образец чисто импрессионистического письма, проза, наэлектризованная яркими визуальными впечатлениями. И все же перед нами возникает всего лишь литературный «ландшафт с фигурами», застигнутыми в какие-то моменты текучего бытия, но так и не обретающими собственной жизни.
Однако и наблюдения и выводы В. Вулф-критика, относящиеся к творчеству Чехова, выходят за пределы догматичной «неопсихологической» интерпретации, против которой обоснованно выступал Голсуорси, защищая Чехова-реалиста от полного растворения в «надматериальном».
«Для Вирджинии Вулф Чехов был писателем, интерес которого целиком сосредоточен на «неизведанных сторонах психологии», на больной духе современного человека. По мнению Вулф, Чехов связывает душевный недуг современного человека не с социальными условиями его жизни, а всецело с вечными и непостижимыми свойствами психологии. Отсюда атмосфера грусти в его пьесах и рассказах». Так излагает концепцию В. Вулф М. Шерешевская в своем комментарии к публикации выдержек из статьи «Русская точка зрения»9.
Все ли здесь точно и справедливо? В. Вулф ведет речь о рассказах «Гусев», «Дама с собачкой», «Почта» — рассказах, на первый взгляд кажущихся читателю, привыкшему к традиционному жанру новеллы, «странными». В них нет четкого, завершающего вывода, нет финала, нет декларации авторского отношения к рассказанному, к персонажам. Для чего же написан рассказ? — спрашивает В. Вулф от имени гипотетического читателя. Она ищет смысловую доминанту, проходящую через все творчество писателя. Эта доминанта должна быть, ибо мы видим, что «...Чехов не просто бессвязно перескакивает с предмета на предмет, а намеренно трогает то одну, то другую струну, чтобы полностью раскрыть свою мысль».
Поиски приводят ее к рассказу «Случай из практики» — к словам врача о том, что родители нынешних людей по ночам не разговаривали, а крепко спали... «мы же, наше поколение, дурно спим, томимся, много говорим и все решаем, правы мы или нет». Далее следует ключевое положение В. Вулф:
«Из этих дурных снов и бесконечных разговоров и родилась наша литература — и социальная сатира и утонченный психологизм. И все же между Чеховым и Генри Джеймсом, между Чеховым и Бернардом Шоу существует огромное различие. В чем оно заключается? Чехов не менее других отдает себе отчет в существовании зла и несправедливости в обществе; его ужасает положение крестьян, но при этом он не обладает темпераментом реформатора. Нет, это еще не тот сигнал, по которому нам следует остановиться. Человеческое сознание сильно интересует его. Он самый тонкий, самый проницательный исследователь человеческих отношений. Но и это еще не все, и это еще не конец <...> Душа больна, душа излечена, душа не излечена. Вот что самое важное в его рассказах»10.
Мысль, на наш взгляд, вполне верная. Ведь не клинику душевной болезни имеет в виду В. Вулф (хотя, как известно, Чехов и эту тему не обошел, сумев вывести ее за рамки чисто медицинских наблюдений). Под здоровьем и болезнью души современного Чехову, — и В. Вулф, — человека подразумевается норма жизни человеческой личности и отклонения от нее, т. е. прямо сформулированное самим Чеховым средоточие его писательских интересов. Меняются социальные условия, политический строй, государственные границы, быт, идеология, но душа человека, в ее норме и отклонениях (здоровье и болезни), остается в сути своей неизменной. Именно потому, что человеческая душа — ее тревоги, стремления, драмы, болезни и способность к исцелению — составляет живой центр художественного мира Чехова, он и остается близким людям разных стран и эпох. Точно подметила В. Вулф и различие между «утонченным психологом» Генри Джеймсом и Чеховым. Для Джеймса процессы, происходящие в человеческом сознании, являются преимущественно объектом скрупулезного аналитического наблюдения. У Чехова, кроме того, есть нечто другое — скрытый пафос творчества, заключенный в страстном человеческом стремлении к «норме».
Нет смысла вновь возвращаться к новеллистам, открыто признававшим воздействие Чехова на свое творчество: К. Мэнсфилд, А. Коппарду, Г. Бейтсу, Дж. Голсуорси; о них написано уже немало. Следует лишь подчеркнуть (отмеченное и некоторыми английскими современниками), явное преувеличение степени родства Кэтрин Мэнсфилд с ее русским учителем, к которому она действительно относилась с глубочайшим почитанием, пониманием и любовью. К. Эйкен, рецензируя первый сборник рассказов К. Мэнсфилд («Bliss», 1921), писал, что молодая английская новеллистка явно причастна чеховскому методу «поэтической прозы». Но если у Чехова эта поэзия существует и как лирика, и как эпос, то К. Мэнсфилд «берет всего лишь одну дискантовую октаву из всего чеховского регистра»11. Еще более определенно сказал об этом же 30 лет спустя Г. Фелпс, в книге, посвященной русскому влиянию на английскую прозу. Чехов, — находит он, — несомненно дал импульс личным литературным пристрастиям К. Мэнсфилд. «Однако, читая многие ее рассказы, невольно начинаешь сомневаться, дает ли содержащийся в них скромный заряд искреннего чувства и наблюдательности основания для подобных сближений. Конечно, она не способна столь же проницательно и широко, как Чехов, увидеть человека в его связях со своей социальной средой и еще более обширным окружением — Природой. Она не обладает чеховским прочным душевным здоровьем, его объективностью и самодисциплиной. И уж во всяком случае не у Чехова позаимствовала она сентиментальность, робость, и несколько манерную изысканность — свойства, которые так сильно портят многие ее произведения»12. Два других писателя — современника К. Мэнсфилд, на взгляд Фелпса, более эффективно использовали «уроки Чехова» — та же В. Вулф в своих романах и Э.М. Форстер. В романах В. Вулф критик ощущает «неуловимо меняющуюся фактуру человеческого опыта», на поверхности которой «житейские мелочи», а на глубине «тайна бытия». Но по этому поводу можно лишь повторить, что, сближаясь с Чеховым в импрессионистической технике восприятия жизненных впечатлений, английская писательница далека от него в главном: в том, как и во имя чего эти впечатления организуются в художественное целое. Несколько иначе обстоит дело с Э.М. Форстером, который, как и Чехов, формировался в переломное время на рубеже XIX и XX вв. и, продолжая в своем творчестве традиции реализма, как критик и теоретик был близок к «блумсберийцам». С чеховской новеллой можно сравнивать лишь немногие его рассказы психологически-бытового плана (Форстер писал также фантастические новеллы-притчи). В таких рассказах как «Дорога из Колона», «Вечное мгновенье» — оба они посвящены теме «англичане за границей» — привлекают спокойная тональность, отобранные детали, ирония, лаконичный психологизм. И сам Форстер был во многом личностью чеховского склада: умным, тонким человеком, последовательным гуманистом, врагом всевозможных форм ограниченности и предвзятости.
Один из талантливейших прозаиков, выступивший еще в 30-е годы, но достигший расцвета и признания в послевоенные десятилетия — Джойс Кэри известен главным образом своими романами, в которых английская комическая традиция обрела новую, удивительно своеобразную — острую, философичную, полную яркого воображения сущность. Есть у Кэри и книги рассказов, и можно предположить, что, обращаясь к этому жанру, он осваивал многие «уроки Чехова». Один из рассказов — «Бегство» читается как сугубо английский, приземленный вариант «Черного монаха». Правда, легкое и быстро излеченное в фешенебельной клинике душевное расстройство заурядного бизнесмена Тома Спонсона не сопровождалось галлюцинациями, и ни с кем он не вел долгих «русских» бесед на вечные темы. Все сложилось куда проще и банальнее. Преуспевающему, погруженному в дела мистеру Спонсону давно уже казалось, что он — чужой в своей семье, которую, однако, вечно хвалил в деловом клубе, что жена и взрослые дети смотрят на него лишь как на источник материальных благ. В одно прекрасное утро он бежит из Лондона. В пустом (не сезон) отеле курортного городка, особенно после встречи со знакомым, который с серьезным видом произносит пошлые трюизмы на политические темы (еще недавно так же вещал и Том Спонсон), герой осознает, что вся его жизнь — деловая, семейная, социальная — была сплошной бессмыслицей и фальшью. Целую неделю он чувствует себя свободным, честным и счастливым. Но семья настигает его — в сопровождении «всепонимающего» психиатра. И через шесть недель Том Спонсон снова на работе, и все так же хвалит свою семейную жизнь в деловом клубе. Но подчас шевелится в его мозгу тревожная мысль: если он все же не был безумцем в ту неделю (а в это он никак не может поверить), то что же происходит с ним сейчас, когда он снова «в колее»? Кэри по-чеховски искусно координирует свои отношения с героем — внешне сливаясь с ним, но оставляя крохотный «зазор». А читателю, тоже по-чеховски, предоставляет решать самому: что лучше — пошлое здравомыслие или иллюзорная, но упоительная душевная свобода?
Чеховские ассоциации возникают и при чтении других рассказов Дж. Кэри, таких, например, как «Повзрослели», «Психолог», «В ногу со временем»13. Первый из них — тонкий, мягкий, но и очень трезвый психологический этюд о детях. Во втором — иронично, и в то же время сочувственно рассказано о том, как довольно сумасбродно возник, достаточно скверно начался и в конце концов обрел прочный фундамент брак между застарелым нескладным холостяком и весьма озорной молоденькой девицей; третий рассказ, выдержанный в духе сардонического нравоописания, высмеивает «прогрессивные взгляды» на семейные устои, которыми герой — стареющий чиновник, маскирует перед собой и окружающими банальнейшую ситуацию: попытку «начать новую жизнь» с юной секретаршей. Обе эти семейно-адюльтерные истории и вправду, казалось бы, тривиальны по сюжету. Но Кэри рассказывает их с таким искусством, с таким точно выверенным соотношением авторской отстраненности и присутствия, юмора и проницательности, что перед нами возникают очень выразительные жанровые гравюры. Главным оказывается не быт, не фабульный зигзаг, а психологически достоверная парадоксальность человеческого поведения. А здесь Кэри безусловно мог чему-то поучиться у Чехова.
В 50-х годах, на гребне первой волны «литературы рассерженных» (в которой комическое начало оказалось элементом чрезвычайно активным) в Англии появились, в частности, два сатирических «университетских» романа: знаменитый «Счастливчик Джим» Кингсли Эмиса и «Кушать людей нехорошо» Малькольма Брэдбери. Среди множества откликов критики на эти книги очень любопытным — в интересующем нас аспекте, — но и спорным представляется высказанное Ч.П. Сноу предположение об одной из траекторий чеховского влияния на английскую комическую прозу, высказанное в его статье «Наука, политика и роман».
«Характерный тип комического романа — сугубо персональное и капризно прихотливое повествование, которое Эмис столь искусно ведет в «Счастливчике Джиме», а Брэдбери — в «Кушать людей нехорошо», зародился не на британской почве. Среди зачинателей его, видимо, был Гоголь, а затем Тургенев, позднее Чехов — большой и в высшей степени влиятельный художник — развил его на свой собственный лад.
Чехов и является главным предшественником современной английской комической прозы. Русифицированный англичанин У. Джерхарди позаимствовал эту форму и внес в нее элементы фантастичности. Джерхарди — сам не очень удачливый писатель — оказал очень большое воздействие на нескольких талантливых молодых людей, начинавших в 20-е годы: Ивлина Во, Э. Поуэлла, У. Купера <...> Именно через Во и Купера прихотливая комедия Чехова-Джерхарди дошла до молодых университетских авторов, вступивших в литературу вскоре после конца второй мировой войны. Это — один из нагляднейших примеров литературной родословной, которые мне известны. Правда, должен признать, что результаты могут нас удивить»14. Далее Сноу противопоставляет «серьезность и нежность «Моей жизни»» «эскападам Джима Диксона», — комического антигероя Эмиса.
Спорно здесь прежде всего неприятие отечественного происхождения английского комического романа — ведь юмор, эксцентриада, гротеск, как известно, неотделимы от имен Смоллетта, Филдинга, Стерна, Диккенса... Все это справедливо считается исконным достоянием именно английской прозы. Что же касается генеалогической линии «Гоголь-Чехов» (Тургенев сюда, пожалуй, не вписывается), то, конечно, до Англии она дошла. Но вряд ли через Джерхарди, который и в своей книге о Чехове менее всего занимался его комическим даром. Очень трудно усмотреть нечто общее между юмором Чехонте и Эмиса в «Счастливчике Джиме», если не считать того, что и рассказы Чехонте и роман Эмиса очень смешны. Однако сам комизм возникает из разных источников: у раннего Чехова, наряду с дерзким озорством анекдотических фабульных ситуаций, с самого начала, с «Письма ученому соседу», преобладает комизм характерности. У Эмиса же (да и у Джона Уэйна в его первом романе «Спеши вниз») сильнее всего юмор самих ситуаций.
Гораздо убедительнее представляется параллель с Ивлином Во — и не только с первыми его романами, но и с более поздней новеллистикой. Лаконичная, блистательная, опасная ясность стиля английского сатирика, который невозмутимым тоном повествует о вещах возмутительных, абсурдных, не раз наводит на мысль о Чехове. Конечно, Чехову была органически чужда злая мрачная издевка, пронизывающая комические повествования Во. Однако своей виртуозной способностью очень скупыми средствами создавать выразительнейшие фигуры никчемных, паразитирующих, нелепых и просто тупых представителей «хорошего общества». И. Во может соперничать с Чеховым.
Современная новеллистическая школа в Англии представлена рядом интересных писателей, — правда, почти никто из них не посвятил себя только малой прозе. Наиболее значительны Виктор Сноуден Притчетт, Френсис Кинг, Уильям Тревор — авторы многочисленных книг рассказов. Творчество их становится теперь известно и русским читателям15.
В 1980 г. в Англии издан однотомник, содержащий все новеллистическое наследие Элизабет Боуэн16 — писательницы тонкого, умного дарования, в рассказах которой несомненны элементы чеховской поэтики. Об этом пишет в своей рецензии на книгу У. Тревор, кстати, как и Э. Боуэн прозаик «двойной» — англо-ирландской принадлежности, отмечая, что обновление жанра рассказа (форму которого Чехов «вывернул наизнанку») оказалось наиболее эффективным именно в Ирландии, с ее давней традицией (некогда изустных) историй... Э. Боуэн несомненно близка к Чехову многими чертами своей повествовательной манеры — объективной, нередко ироничной, предельно внимательной к деталям; с этими свойствами сочетаются, однако, внутренний драматизм, поэтическое видение ландшафта, особенно в рассказах с ирландским фоном. В историях, рассказываемых Э. Боуэн, обычно не происходят ничего внешне значительного. Маленькие драмы и комедии, переживаемые ее персонажами — обитателями ветшающих «дворянских гнезд», интеллигентами, служащими, домашними хозяйками — будничны и с трудом поддаются словесному выражению. Чаще всего эти люди страдают от чувства пустоты и бесформенности своего бытия, от неумения найти себя, от взаимонепонимания.
Писательница часто использует прием «оборванного конца» — рассказы ее не имеют событийной развязки, а если происходит некий сдвиг, то лишь в умонастроении, душевном состоянии героя. Проникновенно, тепло, с тонким юмором освещает Э. Боуэн внутренний мир ребенка и подростка, лучшие ее новеллы написаны о них.
Рядом с Э. Боуэн художником совсем не чеховской тональности кажется В.С. Притчетт — один из немногих английских прозаиков, давно и полностью посвятивших себя малой прозе. (Правда, одновременно занимается он и критикой, и в этой области тоже пользуется прочным авторитетом.) Притчетт — новеллист сухой, резкий, любитель и мастер острых, нередко гротескных психологических и фабульных ситуаций. Тем не менее, можно найти «чеховские отзвуки» и в его прозе. Таков, например, рассказ «Ложка дегтя» (буквально — «Муха в елее» — в оригинале название обыгрывается, — муха «участвует» в действии). Рассказ этот сразу же вызывает в памяти чеховского «Отца». Здесь тоже — отец и сын, их встреча в момент отцовского финансового краха, желание сына (который и сам нуждается) помочь, желание отца, принимая помощь, «спасти лицо», его жалкое и комичное бахвальство, игра в собственное достоинство... Только у Чехова речь идет о рублях и паре сапог, об очередном посещении нищим пьянчугой-папашей долготерпеливого сына, а у Притчетта — о банкротстве владельца фабрики, главы фирмы, да и сын — преподаватель университета, хоть и захолустного... Словом, в социальном плане все на порядок выше, но насколько же ниже, мельче, корыстнее и лицемернее в плане человеческом! В «Отце» Чехова есть некие «достоевские» нотки — тема приниженной, искаженной и стыдящейся своего падения человеческой личности, но одновременно — и настоящей, нерассуждающей доброты. Причем все это доносится до нас без единого авторского «разъяснения» — одним лишь диалогом и подбором деталей. Притчетт ведет рассказ иначе: он открыто анализирует, обнажает подоплеку душевных движений, контраст между внешней и внутренней линиями поведения. Но делает все это очень сдержанно, без нажима. Как видим — разные житейские обстоятельства, разный подход к теме. (Как раз сугубо «чеховский» прием — надоедливая муха, которую все время пытаются поймать собеседники, — выглядит искусственно, назойливо.) Чеховские ассоциации порождаются не столько сходством сюжетов, сколько самим авторским взглядом на происходящее — объективным, ничуть не сентиментальным, но исполненным понимания, а значит и сострадания.
С рассказом этим хорошо соотносится мысль В.С. Притчетта о том, что представляется ему самым важным в художественной системе Чехова, — мысль, высказанная в его пространной рецензии на новые издания чеховских писем, вышедшие в США в начале 70-х годов17.
«Мы всегда чувствуем, и в самых печальных, и в самых сардонических рассказах Чехова простую, упорную волю человека, стремящегося прожить свою жизнь до конца; и в этом нет ничего пустого, бессмысленного (futility). Сильнее всего — ощущение человеческого мужества»18.
Френсиса Кинга — он, как и Притчетт, принадлежит к старшему поколению и обладает еще более резкой, «неприятной» (с подробностями физиологического порядка) повествовательной манерой, — можно уподобить многоопытному ворчливому врачу, которого ничем не удивишь и не шокируешь. Однако за ворчливостью угадывается его суховатое, но несомненное сострадание к людям, которые не умеют жить достойно, разумно, неспособны радоваться, погрязли в мелочах быта, в рутинной служебной круговерти. А тот, кто обладает вкусом к жизни и умением радоваться, обычно устраивает свои дела за счет ближнего своего. Именно так и распределены человеческие свойства (но не светотени) в большом рассказе Кинга «Братья» между двумя братьями — британским чиновником, служащим в Японии, и его праздным гостем, гостем, так сказать, «профессиональным». Психологический рисунок «Братьев» вызывает ассоциации с поздними повестями Чехова — «Тремя годами», «Моей жизнью».
Но ближе всего к «чеховской линии», пожалуй, новеллистика англо-ирландского прозаика Уильяма Тревора. Казалось бы, Тревор погружен в ту же самую сферу житейских впечатлений, что и Ф. Кинг и В.С. Притчетт. Рассказывает он о будничных драматических (а нередко и комических) коллизиях обыкновенных англичан. Можно называть их и «маленькими», но это определение затаскано и в общем довольно бессмысленно — ведь Акакиев Акакиевичей среди современных английских клерков давно не наблюдается. Но от того же Кинга или Причетта его отличает природная душевность дарования. При этом Тревор совершенно чужд чувствительности и даже снисходительности. Этические акценты в его конфликтных узлах расставлены совершенно четко, хотя и без всякой дидактичности. В рассказах Тревора часто звучит горечь, но сухая едкость иронии ему совсем не присуща. Простота, ясность, внешняя невозмутимость тона свойственна всем рассказам Тревора, о чем бы он не повествовал. Убогие связи в стенах офиса крупной фирмы питают иллюзии одиноких женщин («Служебные романы»). Мальчик, отданный в элитную закрытую школу, стыдится разведенной с его отцом матери, которую горячо любит («Чокнутая дамочка»). Жене приходится примириться с тем, что ее преуспевший на телевидении муж начинает принимать участие в «сексуальных играх» заскучавших жителей респектабельного лондонского пригорода («Ангелы в Ритце»). Фермерская дочка выходит замуж за сына буржуа-нувориша, купившего старинную обветшалую усадьбу, которая с детства владела ее воображением и помыслами. И постепенно сама становится подобием прежней хозяйки этого фамильного гнезда — эксцентричной одинокой дамы, одержимой ностальгией по прошлому (маленькая трилогия «Англия Матильды»). В почти фарсовых обстоятельствах (разводящаяся особа нанимает нуждающегося в средствах пожилого холостяка для инсценировки адюльтера в загородном отеле) едва не обретают друг друга два неприкаянных одиноких человека; но чуда не происходит, мешают инерция недоверия к людям и застарелый вздорный эгоцентризм («Адюльтер в среднем возрасте»). Большая группа рассказов Тревора связана с Ирландией — и с прошлым ее, и с настоящим. Писатель не может уйти от страшной реальности Ольстера, непрекращающейся войны между католиками и протестантами, порожденного этой войной террора, захлестнувшего и Англию. Но в рассказах своих он избегает изображения самих исторических событий, — занимает Тревора воздействие этих событий на частные судьбы, взаимоотношения людей, их образ мыслей и душевное состояние. И в этом плане есть несомненное сходство с чеховским способом интерпретации общественных проблем и политических явлений, будь это кризис народовольческого движения в «Рассказе неизвестного человека», споры о пользе «малых дел» в «Доме с мезонином», толстовство в «Хороших людях» или участие в работе на голоде в «Жене»... Разумеется, здесь можно говорить лишь о принципе, о методе — не о художественной силе произведения. Тревор — писатель большого, своеобразного дарования, однако и он — далеко не «английский Чехов». Но ведь поиски такового — занятие заведомо бесплодное. Д. Рэйфилд — автор английской монографии о Чехове — имеет все основания заявить, что именно этот художник более, чем кто-либо, среди русских авторов, повлиял на развитие малых жанров и драматургии в Англии XX в.19 И все же, если в Англии (как, впрочем, и в США, и в любой стране мира), суждено появиться еще в пределах нашего существования «новому Чехову», то он обязательно окажется художником иного, нового звучания. Только так, в чем убеждается поколение за поколением, и вершится дело преемственности в мировой литературе. Но в этом новом — порой подспудно — продолжает свою жизнь все, что было накоплено художественным гением человечества. И когда в одном из интервью Грэм Грин — крупнейший английский прозаик нашего времени, как будто бы менее других ориентирующийся на «русское влияние», заявляет: «Мой идеал — Чехов»20, мы слышим в его словах еще одно подтверждение этой простой, незыблемой истины.
Х. Питчер. «Главная женщина Чехова». Портрет актрисы Ольги Книппер. Лондон. 1979. Суперобложка
Х. Питчер. «Главная женщина Чехова». Титульный лист с автографом автора. Собрание Э.А. Полоцкой
Примечания
1. См.: Шерешевская М.А. Мэндсфилд и Чехов // Уч. зап. ЛГУ. 1957. (Серия филол. наук. Вып. 37). С. 211—237. Английские писатели и критики о Чехове / Публ. и введением М.А. Шерешевской // ЛН. Т. 68. М., 1960. С. 801—832; Пучкова Г.А. А. Коппард и Чехов. — К. Мэнсфилд и традиции Чехова // Ученые записки МГПИ им. Ленина. Т. 245. М., 1966. С. 121—142, 143—158; Пучкова Г.А. С. Моэм и А.П. Чехов // Ученые записки МГПИ им. Ленина. Т. 280. М., 1967. С. 398—423; Субботина К. Чехов и Мопассан в традиции английского рассказа XX в. // Ученые записки ЛГПИ. Т. 308. Л., 1966. С. 327—247; Воропанова М.И. Художественный опыт А.П. Чехова в осмыслении Голсуорси // Литературная теория и художественное творчество. М., 1979. С. 104—117.
2. См.: Елизарова М.Е. Мировое значение творчества А.П. Чехова // Ученые записки МГПИ им. Ленина. Т. 245. М., 1966. С. 3—50; Бердников Г. Чехов в современном мире // Вопр. лит. 1980. № 1. С. 65—97; Затонский Д. Вклад Чехова // Иностранная литература. 1980. № 5. С. 173—181; Урнов Д.М. Необходимая точка зрения. Толстой и Чехов в творческой ориентации английских и американских писателей // Чехов и Лев Толстой. М., 1980.
3. Priestley J.B. Anton Chekhov. L., 1970. P. 84 (здесь и далее перевод автора статьи).
4. См. статью М.А. Шерешевской в наст. кн.
5. См.: Субботина К. Р. Лонг — переводчик Чехова // Нева. 1963. № 5. С. 221—222.
6. Bennett A. The journals. N.Y., 1933. P. 312, 729.
7. Garnett E. Friday nights. L., 1929. P. 45.
8. Chekhov A.P. Letters to his family and friends, with a biogr. sketch / Transl. by C. Garnett. L., 1920. XIII. 424 p.
9. ЛН. Т. 68. С. 803. Теперь эта статья В. Вулф опубликована полностью в переводе К. Атаровой в сб. «Писатели Англии о литературе» (М., 1981).
10. ЛН. Т. 68. С. 822.
11. Aiken C. A reviewer's ABC. L., 1961. P. 292.
12. Phelps G. The Russian novel in English fiction. L., 1956. P. 110. Еще один исследователь, Дж. Кэрратерс, обнаруживает адаптацию чеховского метода в романах В. Вулф, которая заменяет последовательно развивающееся и всесторонне показанное действие «по видимости разрозненными, живыми и много открывающими эпизодами». См.: Carrathers J. Scheherazade or The future of the English novel. L., s. a. P. 66—68.
13. Все они вошли в однотомник Кэри (Изд. «Прогресс») в серии «Мастера зарубежной прозы»; рассказ «Бегство» напечатан в журнале «Знамя» (1981. № 5).
14. Snow Ch.B. Science, politics and the novel // Kenyon review. 1961. № 1. P. 4—5.
15. Кинг Ф. Дом. М., 1985; Тревор У. За чертой. М., 1986; Притчетт В.С. Птички в клетках. Рассказы. М., 1988 и др.
16. Сб. рассказов Э. Боуэн «Плющ оплел ступени» вышел в Библиотеке журнала «Иностр. литература» в 1984 г.
17. Chekhov A.P. Letters / Transl. by M.H. Heim, S. Karlinsky. N.Y., 1973. XIV. 494 p.; Chekhov A.P. Letters / Sel. a. ed. by A. Yarmolinsky. N.Y., 1973. 490 p.
18. Pritchett T.S. Hearing from Chekhov // New York Review of books. 1973. 28/VI. № 11. P. 3—4.
19. Rayfield D. Chekhov. The evolution of his art. L., 1975. P. 1.
20. См.: Евтушенко Е. Не старайтесь стать священником. В гостях у Грэма Грина // Лит. газета. 1981. 5 авг. № 32. С. 15.
| Предыдущая страница | К оглавлению | Следующая страница |