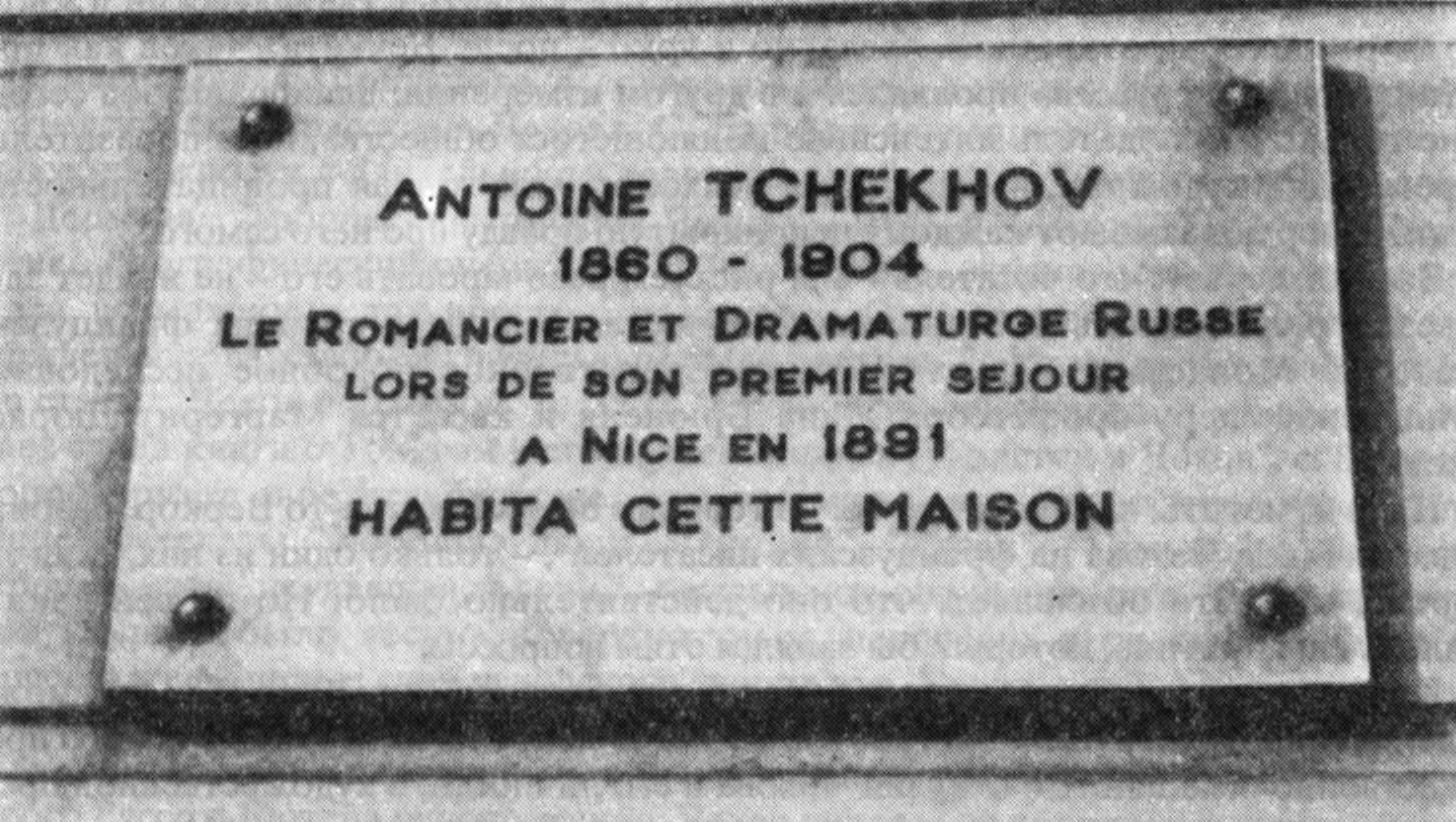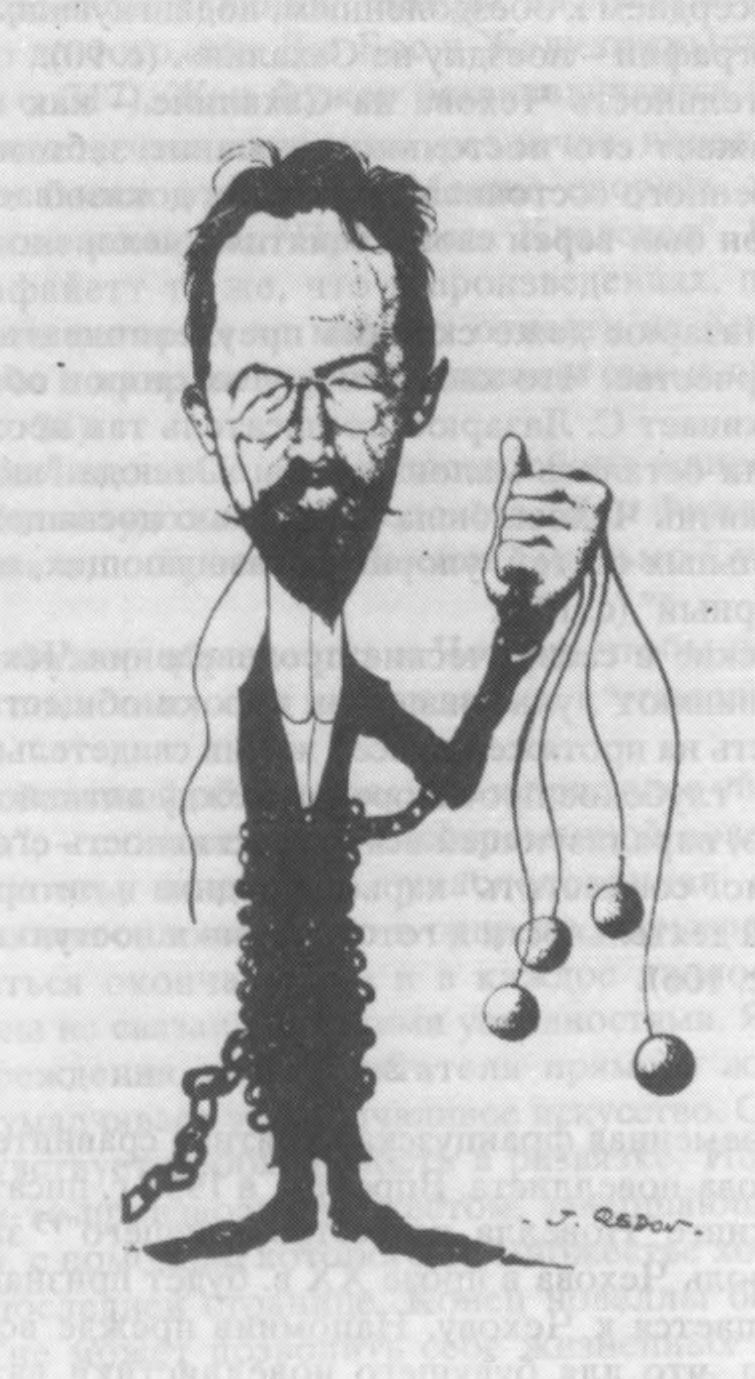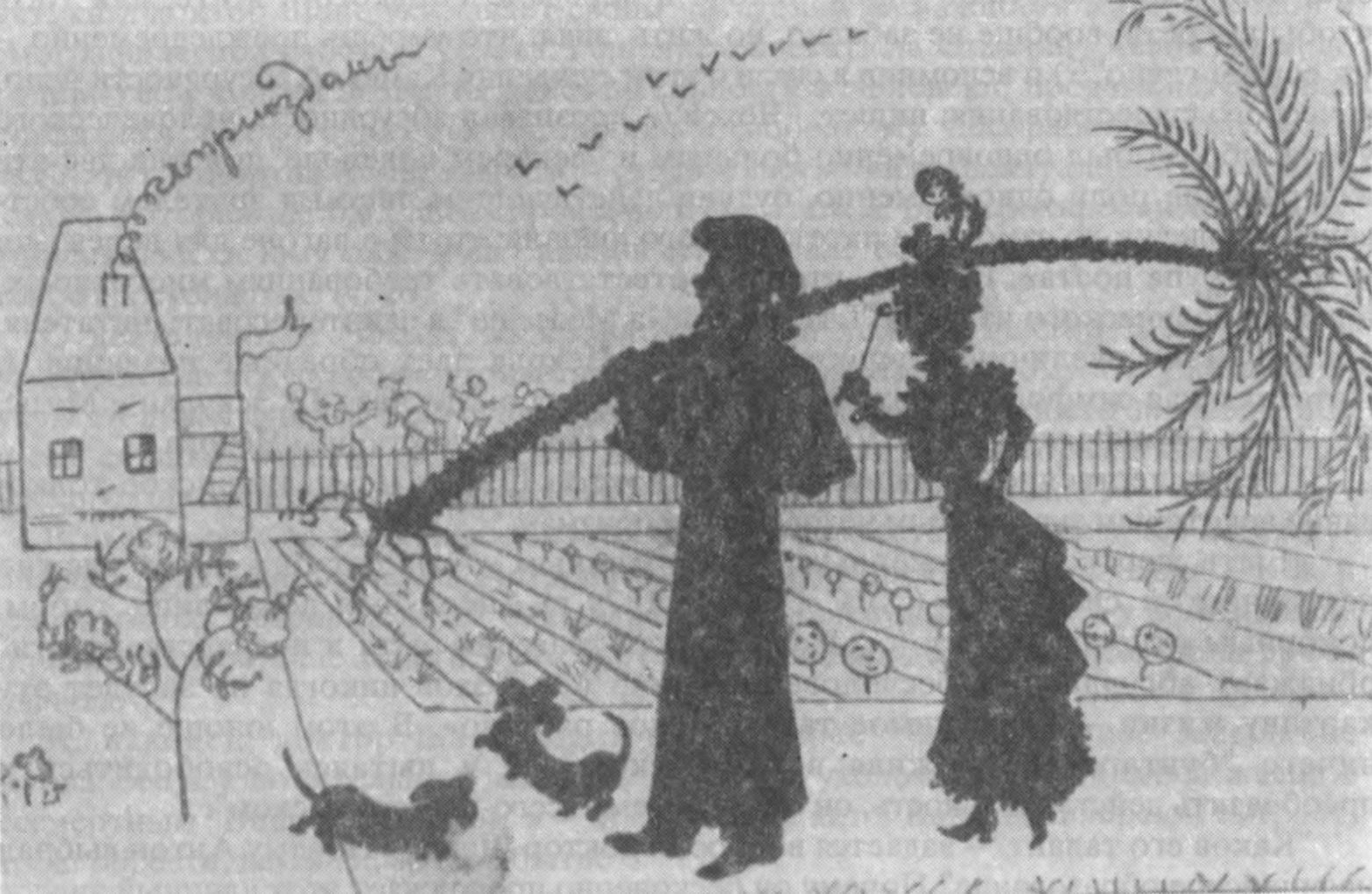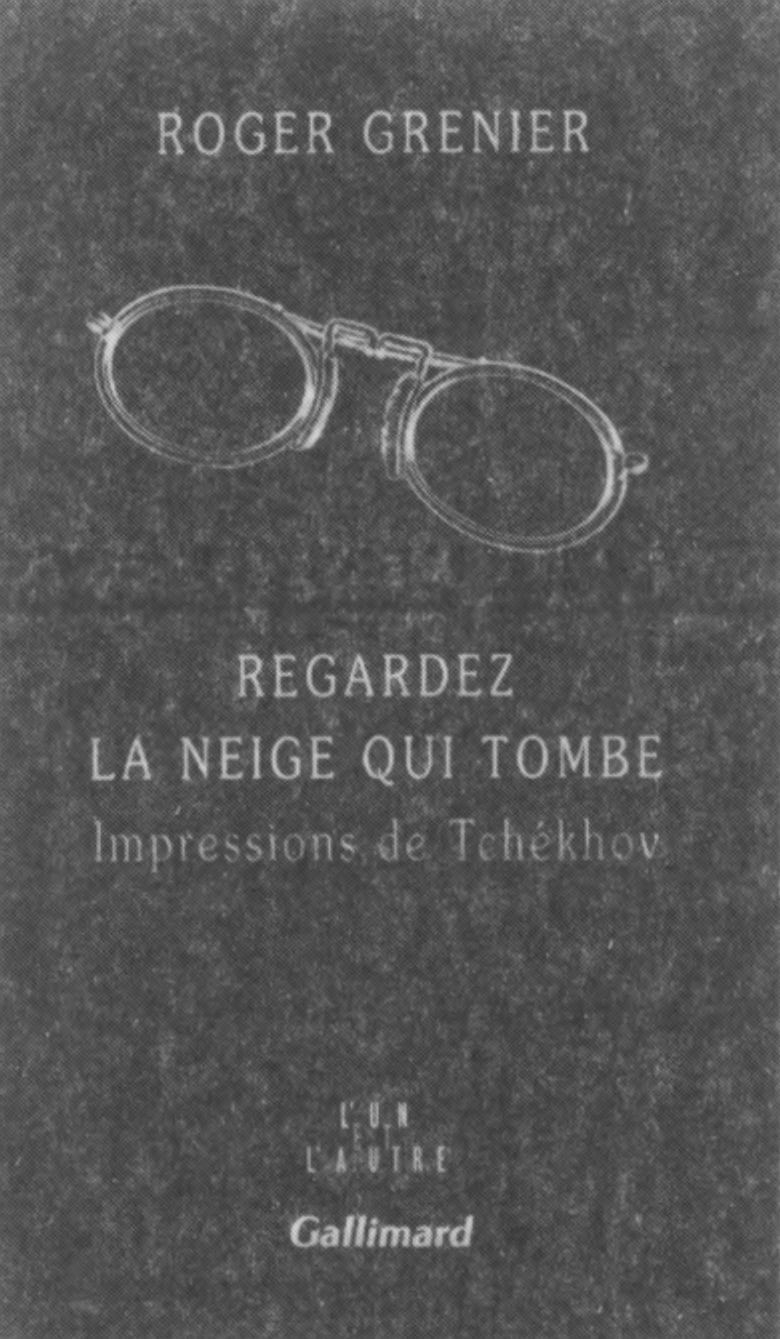В томе 68 «Литературного наследства» Софи Лаффит рассказала о все растущей известности Чехова во Франции (см. ЛН, 705—746).
Ее исследование охватывает больше полувека — от визита к Чехову французского литературного критика Жюля Легра в 1895 г. до анализа критических работ конца 50-х годов.
Гармонично сочетая свои собственные суждения о личности и творчестве Чехова, «таком тонком, сложном и совершенном», с оценками литературной критики и анализом постановок, Софи Лаффит определяет своего рода итог популярности «одного из самых признанных во Франции зарубежных драматургов» накануне столетия со дня его рождения.
Работа Софи Лаффит ясно показывает, как Чехов — несколько позже чем в Англии — становится для французов классиком. Поначалу его творчество ценили только в узких литературных кругах, но постепенно он завоевал благосклонность широкой французской публики. Его слава достигла в конце 1950-х годов и провинции — благодаря активизации театральной жизни в многочисленных городах, кинофильмам, изданию его произведений в «карманной библиотечке» и т. д.
Назовем основные этапы знакомства французской публики с Чеховым, как их представляет Софи Лаффит в обзоре 1960 г.
Перед первой мировой войной, хотя уже был осуществлен ряд переводов отдельных произведений и вышло в свет несколько специальных, впрочем весьма неравноценных по глубине понимания чеховского творчества работ (от поверхностных М. де Вогюэ, Осипа Лурье до значительно более серьезных Ивана Странника, С. Перского), писатель, как показывает С. Лаффит, остается в сущности неизвестным широкой французской публике.
Картина меняется только в начале 20-х годов, когда во Францию приезжают Людмила и Жорж Питоевы. С. Лаффит с полным основанием посвящает им многие страницы своего обзора, потому что именно они открыли Франции величие Чехова, ставшего с тех пор в этой стране «наиболее любимым и уважаемым из иностранных драматургов». Питоевской постановкой «Трех сестер» в 1929 г. и спорами вокруг нее Франция отметила 25-летие со дня смерти писателя.
Хотя среди зрителей этой необычной для французов пьесы были недовольные монотонным течением дней и часов, мнимым бездействием героев, культурные круги Франции встретили ее как «шедевр гуманности и поэзии». Театральные деятели (Андре Антуан, например) были поражены оригинальностью и свежестью пьесы Чехова. Благодаря несравненному художественному таланту, его способности проникать «в бездонные пропасти души человеческой» зрителям понятнее стала дореволюционная Россия и причины революции, «русское отчаяние», сумрачная атмосфера, в которой медленно гибнет приговоренное общество. Жозеф Кессель, не колеблясь, называет «Трех сестер» исторической пьесой.
Трактовка Чехова труппой Жоржа Питоева на долгое время определила общий подход к писателю во Франции. Благодаря Питоевым французы привыкли видеть в Чехове художника «нового настроения» и считали, что в его персонажах нашла воплощение не только тоскливая тревожность славянской души, но и проблемы, волнующие «остальное человечество» (ЛН, т. 68, с. 727).
Перевод собрания сочинений Чехова, предпринятый в то время Дени Рошем, начавшим свою деятельность переводчика Чехова еще при его жизни и с его одобрения, позволяет «лучшей части французской интеллигенции» узнать «волшебный талант» новеллиста. Вслед за этим в печати появляются проницательные работы Шарля дю Боса (записи о Чехове в его «Дневнике»), исследования Эдмона Жалу «Зарубежные силуэты» и Даниэля Ропса «Карта Европы», первая медицинская диссертация: «Антон Чехов, врач и писатель» Анри-Бернара Дюкло.
В связи с исследованием Даниэля Ропса Софи Лаффит яростно критикует негативный взгляд на Чехова Льва Шестова, который и по сей день влияет на некоторых французских критиков.
После второй мировой войны выходит первая во Франции биография Чехова — блестящая работа Ирен Немировской, которая, наконец, показывает французам всю жизнь Чехова, а переведенная переписка писателя с Горьким знакомит читателей с его духовной эволюцией.
Когда театральная жизнь вновь начинает бурлить, дети Питоевых перенимают семейные традиции и ставят «Дядю Ваню» и «Трех сестер» в 1952 и 1954 гг.
В связи в 50-летием со дня смерти писателя на парижских сценах ставятся почти все его пьесы. Большим событием была постановка Жаном Виларом в Бордо и Париже пьесы «Платонов» (1956), совсем незнакомой французам и мало известной даже на родине Чехова. Благодаря этой новой странице в чеховском репертуаре французы смогли судить полнее о его драматическом искусстве.
Слава писателя, пишет С. Лаффит, во Франции достигает своего «апогея» в год 50-летней годовщины его смерти. Теперь, по прошествии времени, можно точнее сказать, что это был не апогей, а более высокая ступень в познании Чехова, потому что вслед за этим в любви французов к Чехову и его театру не было спада. Но как бы то ни было, одно бесспорно — рядом с блестящими спектаклями Андре Барсака («Чайка») и Жака Моклера («Иванов») существует постановка, которая стала главнейшим событием в истории чеховского театра во Франции — это «Вишневый сад», поставленный Мадлен Рено — Жаном-Луи Барро в 1954 г.
Если питоевская традиция в чеховском театре выявляла типично русское начало, то Барро привлекает универсальная значимость «Вишневого сада». Манера Чехова передавать то, что «наименее уловимо в человеческой жизни» — «существование в медленном течении времени» — вот что, по мнению Барро, делает «Вишневый сад» Чехова шедевром мирового значения. Барро стремился показать в некоторой степени и то, что Чехова можно играть и на нерусской сцене, не русифицируя постановку или, если угодно, дерусифицируя пьесу для выявления ее общечеловеческой гуманистической значимости.
С того времени манера толкования чеховского театра на нерусской сцене открыла возможности для новых поисков, о которых будет сказано ниже. Но в 1954 г. постановка Барро получила искреннее признание публики и была безусловно новой вехой в восприятии чеховского искусства во Франции. Большое внимание, которое Софи Лаффит уделяет высказываниям Барро и работам, написанным в связи с этой постановкой, вполне оправдано энтузиазмом публики, вызванным ею.
В тот год появился специальный чеховский выпуск журнала «Europe». Софи Лаффит цитирует из этого номера только предисловие Веркора («Влияние Чехова») и статью Мишеля Кадо о ложном пессимизме Чехова1.
В то время, когда издательство «Editeur Français Réunis» выпускало полное собрание сочинений Чехова в новых переводах, в свет вышли новые монографии (Эльзы Триоле — «История Антона Чехова», 1954; Софи Лаффит — «Чехов о себе», 1955; Пьера Бриссона — «Чехов и его жизнь», 1955; Роз Селли — «Искусство Чехова», 1957). Известные писатели столь разного темперамента, как Анри Труайя и Клод Руа, также признались уже тогда в своих чувствах к Чехову. Всем этим научным исследованиям и отзывам отведено в обзоре Софи Лаффит надлежащее место.
Последнюю главу своего исследования Софи Лаффит посвящает парижским гастролям МХАТ (1954) и успеху «Дяди Вани», «Трех сестер» и «Вишневого сада». В заключение она пишет о «глубинном родстве» между идеалом гуманизма русского писателя и идеалом французского народа.
Выводы Софи Лаффит верны и сейчас, двадцать лет спустя. Мы добавим только — и это будет для нас отправной точкой для продолжения ее обзора — что это «глубинное родство» не есть абстракция. Речь идет о живой связи, которая — как и все живое — эволюционирует и меняется. Поэтому, характеризуя два последних десятилетия, особенно оживленных за время всей истории восприятия Чехова во Франции, можно говорить одновременно о продолжении традиций и о разрыве.
О продолжении — потому что Чехов продолжает быть известным и любимым широкой публикой преимущественно как драматург.
О разрыве — потому что новое театральное движение, зародившееся в Европе в конце 60-х годов, смело пережитки сентиментальных, часто лишенных яркой индивидуальности постановок Чехова, Спектакли Отомара Крейчи и Лючиана Пинтилие, Джорджо Стрелера и Питера Брука открыли французам иного Чехова и существенно обновили подход к его текстам. Но эти открытия — также плод медленного созревания, и «разрыв», который мы имеем в виду, более кажущийся, чем действительный. История французской литературы обязывает отдать должное авторам, когда-то имевшим успех, но совершенно забытым во времена, когда С. Лаффит писала свое исследование (она обходит их имена молчанием). Спустя время становится совершенно очевидным, что родоначальники «школы пауз» и «интимного» театра до войны, не обращаясь непосредственно к Чехову, явно разделяли художественные искания русского драматурга и пошли путями, им проложенными: отказавшись от искусственности и декламационности, испытывая страх перед пустословием, они стремились к простоте действия, к искусству «недомолвок» и предпочитая героев заурядных, часто слабовольных, готовили французские умы к лучшему восприятию чеховского творчества.
Ануй, более близкий нам по времени, был блестящим знатоком Чехова и тоже не избежал схождений с его драматургией. Как считает профессор Филипп Селлье, «даже если их проблематика и различна, сходство между двумя писателями несомненно, и в чистых девушках Ануя нетрудно найти следы «чайки» и Сони из «Дяди Вани» (из письма автору этих строк).
То, что в театре Чехова незаметно прокладывало путь к новейшей драме, но оставалось для современников в тени, что́ не мог уловить Станиславский и многие другие режиссеры, открылось внезапно и ярко — после Беккета. Чехов как предвестник нового искусства проявился и в другом измерении: для французов сегодня он не только наблюдатель интенсивно меняющегося общества, но и поразительно современный художник, выдающийся психолог, чьи тонкая проницательность и легкий юмор показывают каждому неприкрытую правду про него самого.
Заметим сразу, что читатель — мы рискуем разочаровать его — не найдет здесь серьезного сравнительного анализа творчества Чехова и великих французских писателей Мопассана, Пруста, Камю. Единственное подобное исследование принадлежит перу профессора Жана Брюнеля и касается Маргерит Дюрас и Чехова.
Надо отметить, впрочем, что бы ни говорил об этом когда-то Веркор, разбирая общее влияние Чехова на французских писателей2, — только один из них, Жан-Луи Кюртис, открыто объявляет, что оно действительно было. Но по сей день не нашлось еще критика, который бы занялся этим вопросом.
Книги, статьи и исследования о Чехове, появившиеся в 1960—1983 гг., можно разделить на три группы — в соответствии с вопросами, которые в них преимущественно освещаются: о жизни Чехова и его личности, о художественной прозе, о драматургии и ее театральной интерпретации. Разумеется, это деление весьма условно, потому что в любой биографической работе о писателе есть суждения о его творчестве и наоборот, анализ творчества редко обходится без привлечения материалов о жизни и личности художника.
1
Начнем с обзора биографических работ, в которых главное место занимает характеристика личности Чехова.
В юбилейном сборнике «Anton Čehov. Some Essays», выпущенном в Лейдене Т. Экманом к 100-летию со дня рождения писателя, две работы, опубликованные на французском языке, освещают отношения Чехова с современниками.
Первая статья — К. Вильчковского «Любовь Чехова». Опираясь на свидетельства И. Бунина («О Чехове». Нью-Йорк, 1955), которому он склонен вполне доверять, К. Вильчковский оспаривает утверждения Б. Зайцева («Чехов, литературная биография». Нью-Йорк, 1954) и Софи Лаффит («Чехов о себе». Париж, 19553) о том, что посмертный рассказ Л. Авиловой «Чехов в моей жизни» — всего лишь художественный вымысел. По мнению Вильчковского, «классические» биографии плохо объясняют эволюцию любовной темы в творчестве Чехова, тогда как, если «мы признаем существование платонической и страстной связи между писателем и Авиловой, все станет на свои места... Взяв за точку отсчета воспоминания «Чехов в моей жизни» и добавив известные биографические факты, мы получим связную историю, в которой последовательность позиций станет вполне логически обоснованной». Для Вильчковского «воспоминания» Авиловой «облегчают толкование чеховского творчества» (с. 324).
Другое биографическое исследование в этом сборнике — работа Софи Лаффит «Чехов и Толстой» (с. 109—135). К ней примыкает глава «Толстой и Чехов» из прекрасной книги С. Лаффит, рассчитанной на широкого читателя — «Лев Толстой и его современники»4.
Это двустороннее исследование Лаффит — первая подробная работа о взаимоотношениях двух великих писателей, опубликованная на французском языке.
Сходные по концепции и идентичные в выводах, эти две работы С. Лаффит лишь слегка различаются по стилю и манере письма, поскольку адресованы разному читателю. Их основная ценность для французского читателя — в том, что в них впервые собраны все высказывания Толстого о Чехове и Чехова, преисполненного почтения к великому писателю, — о Толстом. В исследовании С. Лаффит отмечаются точки соприкосновения между двумя писателями, как личные, так и творческие, отмечаются различия в эстетических, философских, религиозных взглядах.
Придерживаясь принятого в советской науке деления на «толстовские» и «антитолстовские» рассказы Чехова, С. Лаффит соглашается с А.Б. Дерманом в вопросе о важности и длительности толстовского «гипноза» (имеются в виду книги А.Б. Дермана: «Творческий портрет Чехова», 1929, и «Антон Павлович Чехов. Критико-биографический очерк». М., 1939), но у нее, однако, есть предощущение, что все, возможно, не так просто, как кажется. Отсюда — ряд противоречий в ее утверждениях: «глубоким и длительным было влияние Толстого на Чехова» — пишет она в статье «Чехов и Толстой» (с. 117), «влияние это несомненно», — замечает она в главе своей книги о Толстом и его современниках («Толстой и Чехов», с. 89) и тут же опровергает свое утверждение, отмечая ниже, что так называемые «толстовские» рассказы «Хорошие люди», «Нищий», «Казак», «Письмо» и особенно «Встреча» — эта «неудавшаяся вещь» — вызывают ощущение, что «влияние мэтра Ясной Поляны было весьма поверхностным, наносным и ни на мгновенье не проникало в глубинные слои чеховского творчества. Чехов, художник индивидуальный и независимый, не мог подчинить себя эстетическим канонам, пусть оригинальным, но не своим. Околдованный, притягиваемый грандиозным дыханием этого русского Руссо и Лютера одновременно, Чехов никогда не проникался пуританством и абсолютизмом, совершенно противоположным его натуре и составляющим основу толстовской доктрины»... («Толстой и Чехов», с. 190; «Чехов и Толстой», с. 117).
Не отмечая влияния Толстого на творчество Чехова до 1886 г., Софи Лаффит настаивает на том, что Чехов вел энергичную дискуссию с Толстым на протяжении всей своей литературной деятельности. Освещение этого вопроса, предложенное в ее книге «Лев Толстой и его современники», представляет собой интересное дополнение к тому, что было сказано ею в статье «Чехов и Толстой», т. к. французскому читателю предлагается здесь малоизвестный ему текст неоконченного чеховского рассказа конца 1880-х годов — «Письмо».
Для Софи Лаффит «атмосфера» этого фрагмента, «его психологический климат типичны для отношения Чехов — Толстой и еще раз свидетельствуют о фундаментальном различии их природы». Перечислив то, что, по ее мнению, является характерным для Толстого, Лаффит далее пишет: «Любовь к жизни, способность наслаждаться теми маленькими радостями, которые она предлагает, вера в прогресс и достоинства труда, в конечное совершенствование человечества без всякого божественного вмешательства, тоько волей и сознательными повседневными усилиями человека, — вот кредо Чехова» («Толстой и Чехов», с. 210).
В сжатой форме основные мысли этого исследования, а также статьи «Два друга. Чехов и Левитан»5 С. Лаффит повторяет в своей книге «Чехов, 1860—1904» (1963 г. Изд. Hachette. Книга была удостоена премии французской Академии и переиздавалась в 1971 г.). Этот литературный портрет, предназначенный для широкой публики, написан очень просто, но, к сожалению, лишен иллюстративного материала. Эволюция Чехова представлена в традиционной манере, и привычным делением жизни Чехова на географические периоды — Таганрог, Москва, Мелихово, Ялта.
Софи Лаффит прекрасно рисует картину несчастного детства, одинокого отрочества и юности, проведенных в прилежных занятиях, но, к сожалению, она лишь упоминает его медицинские работы, как если бы они не имели для него никакого значения.
В книге есть замечательные страницы о суете московской жизни, аде Сахалина, открытии западного «искусства жить», о погруженности в умиротворяющую близость природы в противовес «всепожирающей» жизни в Мелихове, борьбе против невежества и нищеты, о вынужденном затворничестве в Ялте, о мотивах увядания, смерти.
В главе, названной «Исследования», С. Лаффит по памяти (и неточно) цитирует материалы университетской работы Чехова-медика, приводит строки из его писем о неосуществленных научных замыслах. Буквально несколько фраз посвящено художественной и научной работе писателя над книгой «Остров Сахалин», тогда мало известной французам; большую же часть главы занимает анализ рассказа «Припадок». По мнению Лаффит, описание «человеческого таланта» студента Васильева «во многом объясняет самого Чехова» (с. 61).
Дополняя материалы, содержащиеся в книге «Чехов о себе», изданной в 1955 г., эта монография Софи Лаффит ставит своей главной задачей облегчить французской публике понимание столь неясной им личности Чехова.
«Чем внимательнее вглядываешься в жизненный путь Чехова, — пишет Лаффит в начале главы «Сердечный друг Исаак Левитан», — тем отчетливее ощущаешь, что любовь и дружба занимают в нем лишь незначительное место, что его одиночество было более чем материально — и носило метафизический характер <...> Он был лучший из сыновей, лучший из братьев; самый преданный и внимательный друг. Но он был окружен невидимым барьером, который никто никогда не мог преодолеть. И внутри этого круга он был одинок, лицом к лицу со своим творчеством — только творчество любил он по-настоящему, только с ним считался. Он знал, что обладает исключительным даром. И этому дару он готов был принести в жертву все» (с. 79).
Настаивая на «незаурядной воле» и «прозорливости» Чехова, Лаффит заключает, что ему не была присуща так называемая «любовь к человечеству». Ему подобные, по мнению Лаффит, были для него прежде всего эстетической категорией. Он ценил людей исключительных или примечательных и восхищался ими: Толстым, Сувориным, Левитаном, Горьким или каким-нибудь крестьянином, чья живость, юмор, наивность и сердечная чистота нравились ему. Но все те, кто не отвечал его эстетическому вкусу или не удовлетворял его моральное чувство, на редкость требовательное, отталкивали, утомляли и раздражали его» (там же, с. 7980). По мнению Лаффит, «мизантропия» доктора Астрова, вполне возможно, отражает и чеховскую.
Лаффит упрекает Мережковского в «отсутствии психологической интуиции», т. е. тот удивляется, что Антон Павлович «был внимателен к мельчайшим деталям, явно лишенным интереса...» Особый талант Чехова, — замечает Лаффит, — призывал его именно к наблюдению типичных деталей, которые оставались вне поля зрения других людей, к группировке этих деталей, к манере неожиданной и тонкой, к получению из них нового соединения, богатого бесчисленными оттенками... «Внешние события, их логическое следствие мало его волновали, — продолжает она, — Чехов был гораздо больше, чем социолог, антрополог, психолог, он прежде всего был поэтом. Его интересовала скрытая сторона вещей, то, что подразумевается и никогда не выражено явно, — подземное пространство, в которое погружены корни человеческих чувств и действий» (с. 130).
Лаффит, отвечая на критику Ильи Эренбурга, упрекавшего ее за отрицание чеховской человечности в книге «Чехов о себе», не удовлетворяется тем, что подчеркивает гуманность таланта Чехова. Не отказываясь от своей интерпретации чеховского «равнодушия», «бесстрастия», «лишенного иллюзий взгляда» на «жизнь и на людей», Лаффит пытается все же доказать, что Чехов «продуманным усилием воли» (с. 155) каждый раз выходил из состояния моральной подавленности, которая одолевала его, — ибо у него был «всемогущий мотор», эта «насущная потребность души», которая заставляла его «служить всеобщему счастью».
«Эта потребность служить всеобщему счастью проистекает, — как поясняет Лаффит, опровергая здесь собственный тезис об отсутствии у Чехова «любви к человечеству», — из невероятной действенности Чехова в социальной сфере, что вызывает особенное восхищение, ибо это способность забывать о самом себе, абстрагироваться от своих чувств, мучений, от своих собственных страданий» (с. 156).
Как подчеркивает Лаффит в главе «Толстовская интермедия», одно из убеждений, помогающих Чехову жить и творить, — «это — вера в прогресс, которая сосуществует в нем с пессимизмом и неизлечимой мизантропией» (с. 178).
Одна из последних глав книги называется «Чехов и женщины». Лаффит пишет здесь о притягательности женской красоты для Чехова, но также и о его «осторожности» и «женоненавистничестве», вызванных, по ее мнению, желанием Чехова посвятить всего себя искусству» (с. 183—184).
Споря с легендой о «великой любви» Чехова к Авиловой, Лаффит пишет, что Чехов запрещал себе всякую «великую любовь», всякую глубокую привязанность, «до тех пор, пока оставался самим собой и не был сломлен болезнью, слабостью, страхом близкой смерти...» (с. 198).
Книга завершается солидной главой, посвященной чеховскому искусству. Общий вывод таков: «Очевидно, что Чехову удалось создать свой собственный стиль с богатым подтекстом и удивительно экономный в средствах. Он воплотил советы Бодлера о благотворных результатах сдержанности, и насыщенность, эмоциональный заряд его «бессюжетных» пьес или коротких рассказов глубже передают идею бесконечности, чем многие пространные и посягающие на обобщение полотна» (с. 124).
И наконец, отметим в заключение этой части нашего обзора, посвященной исследованиям Софи Лаффит, ее прекрасную статью, опубликованную в 1971 г.6 Анализируя «исполненную внутреннего огня жизнь», «неповторимое искусство» и «оригинальность драматургии» Чехова, Лаффит здесь пишет: «Чехов — русский мастер короткого рассказа. В отличие от Мериме и Мопассана, Чехову-новеллисту удается на одной страничке передать ощущение сложности, богатства и трагичности всей жизни. Трагичность человеческого бытия — вот где проявилась его бесконечная одаренность понимать и чувствовать. Чехов-драматург очаровал целые поколения зрителей тонкой правдой, которой исполнены замедленное развитие и паузы его глубоко музыкальных драматических композиций».
С начала 1960-х годов стали появляться статьи, посвященные пребыванию Чехова во Франции (1897—1898, 1900—1901).
Так, в 1962 г. под рубрикой «Памятные места духовной жизни на Ривьере» в ежедневной газете Ниццы «L'Espoir» были напечатаны две заметки Эммы Сегур-Даллони: «Чехов на Лазурном берегу» — о времени, когда писатель работал над «Тремя сестрами», — и «Антон Чехов в Болье» — о месяцах, когда Чехов следил за делом Дрейфуса7.
Несколько десятилетий спустя, в 1973 г., Людмила Налегатская опубликовала описание жизни Чехова в Ницце в ноябрьском и декабрьском номерах «La Nouvelle Revue des Deux-Mondes»8.
В 1974—1975 гг. Самюэл Кернер в статье «Антон Чехов — дрейфусар» пишет об особом моменте в биографии Чехова. На нескольких страницах Кернер представляет читателям газеты «Les Nouveaux Cahiers» суждения Чехова о деле Дрейфуса и выступлениях Золя. Он показывает, что Чехов не только пристально следил за ходом «дела», но и протестовал против трактовки этих событий в «Новом времени»9.
В тот же период, в 1967 г., в издательстве Julliard вышел в свет толстый том Даниэля Жиллеса «Чехов, или разочарованный зритель»10. Опираясь на доступные в то время русские источники, эта «деятельная и захватывающая» биография, по выражению рецензента «Figaro Littéraire», остается по сей день наиболее документированным биобиблиографическим справочником по Чехову на французском языке.
«Мы постепенно, читая Чехова, — пишет по поводу труда Д. Жиллеса также Жинетт Гитар-Авист в «Le Mond» (1967), — начинаем лучше понимать его творчество, такое гладкое на первый взгляд, но сложное и многозначное по сути своей. Мало-помалу познаем с возрастающей нежностью и уважением эту гордую душу, «неотступно преследуемую мыслью о крахе всей жизни человеческой» и, однако, чуждую отступничеству и вялости».
Труд Жиллеса представляет собой попытку толкования личности и творчества Чехова в их единстве. Даниэль Жиллес не видит ни «внезапных разрывов, ни существенных перемен» в развитии мысли и в творчестве Чехова. «Во всех его произведениях — от самых ранних до последних — он находит общие темы: «износ души», ужас деревенской жизни и, наконец, — неизбежный крах всякой человеческой судьбы...» (с. 344).
Под впечатлением тяжелого детства Чехов с ранней юности стал «разочарованным скептическим наблюдателем <...> несмотря на свою веру в будущее науки, благотворной для человечества» (с. 60). «Тройной опыт главы семьи, нуждающегося газетного хроникера и стажера в больнице, не ожесточая и не повергая в отчаяние, укрепил его в мысли о том, что мир — это спектакль, от которого лучше держаться подальше» (с. 74), — таким предстает в книге Жиллеса внутренний облик Чехова, только что окончившего университет. «Бесстрастный», как и его герой Иванов, «грустный, разочарованный, лишенный жажды жизни» (с. 138), даже став известным и удостоившись премии, Чехов остается в глубине души человеком грустным, «ибо в двадцать восемь лет он увидел перед собой пустую жизнь — жизнь, которая еще не началась, но уже ни к чему не вела» (с. 139).
Эта черта характера, по мнению Жиллеса, объясняет тот факт, что «Чехов так никогда и не смог стать романистом, по крайней мере в традиционном смысле этого слова. Прекрасный рассказчик, но бессюжетных новелл, прекрасный драматург, но автор пьес без интриги, Чехов не обладал кипучим воображением и творческой силой, несколько наивной, если угодно, — поскольку она верит в то, что творит, — которая отличает подлинных романистов, Чехов, человек без страстей, с мягкой горестью наблюдавший страсти других, — не мог переживать чувства воображаемых персонажей, так сказать, «по доверенности», что и является секретом романиста <...> Но зато, каким художником он становился, когда надо было показать разочарованную душу» (с. 146—147).
По мнению Д. Жиллеса, что бы ни говорил сам Чехов в то время, когда писал «Скучную историю», в его творчестве было много черт, присущих и старому профессору: отсутствие идеала и следующее за этим страхом убеждение, что внешний успех — ничто» (с. 147—148).
Желлес разделяет общепринятый взгляд на нравственные и другие мотивы путешествия Чехова на Сахалин, но не соглашается с биографами, которые преувеличивают влияние на писателя толстовской философии (с. 152).
Переходя к анализу критики интеллигенции в «Дуэли», Жиллес замечает, что в последние месяцы 1891 г. «слабая нотка надежды проскользнула в чеховском скептицизме: он, конечно, не примкнул ни к какой доктрине, но теперь ему казалось, что научные открытия, особенно медицинские, смогут облегчить человеческую участь... Он не стал тем не менее сциентистом, ибо для него, кроме науки, существовали и другие ценности: красота, культура, изящество мысли» (с. 206—207).
Вступление во владение Мелиховым сделало Чехова, по словам Жиллеса, сначала «самым счастливым из людей», но вскоре стало ясно, что «прелесть деревенской жизни» все же не победила его «разочарованности».
С интересом наблюдая за всем, что он видел, сдержанный с мужчинами и осторожный с женщинами — для Жиллеса воспоминания Авиловой всего лишь «воображаемый роман новой разновидности щедрой на выдумки вдовы» (с. 405) — Чехов более всего дорожил своим творчеством и ради него избрал жизнь одинокую, монотонную, как считает Жиллес, — «в стороне» (с. 225).
И если дело Дрейфуса и вывело Чехова из его индифферентности, то просто потому, что он был верен самому себе. Случай с Золя предоставил ему «возможность раз и навсегда ясно определить свою концепцию роли писателя в политической жизни, он лишился всех иллюзий относительно своего друга Суворина: их интеллектуальная дружба, как это нередко происходило в это время и во Франции, разбилась о дело Дрейфуса» (с. 300).
В произведениях последнего периода Жиллес подчеркивает мотив «разочарования».
В «Архиерее», — пишет он, — более чем где-либо, «исподволь», за спиной персонажа возникает сам Чехов... «Словами своего героя Чехов высказывает разочарованное удивление, которое он испытывал, ощущая себя между жизнью и смертью...» (с. 368).
В блестящем анализе «Трех сестер», «самой чеховской из всех пьес», Жиллес особое место уделяет вопросу о смысле жизни. «Именно этот вопрос, много раз ставившийся или подразумевавшийся, но никогда так и не разрешенный, лежит в основе всей пьесы. Чехов построил свою драму вокруг этой центральной темы как музыкальное произведение, вопросник на несколько голосов, которые пересекаются, противореча друг другу, согласуются, воодушевляются и впадают в отчаяние. Нетерпеливым вопросам трех сестер вторят вопросы более скептические, часто не требующие ответа, — офицеров, подполковника Вершинина, поручика Тузенбаха, майора Чебутыкина» (с. 372).
Далее Жиллес пишет о душевном «поэтическом» сотрудничестве автора со зрителем: «Чехов ждет от зрителя не поисков сюжетного продолжения своей драмы, т. к. у нее нет продолжения, и призывает его не к порицанию или безмерному восхищению ближним, а к погружению в самого себя. Он приглашает его — очень спокойно — в тонкой, неотразимой манере, оборванными фразами, безответными вопросами и почти мучительными паузами — в свою очередь задуматься о смысле жизни, вспомнить и спросить себя, не является ли счастье всего лишь иллюзией. Так незаметно поэзия проникает со сцены в зал и завоевывает его» (с. 374).
В документальном повествовании о ялтинских годах жизни отмечаются «трудности» его личного общения с Толстым, поскольку это был диалог проповедующего «пророка» со скептиком, нетерпеливого «отца» со смиренным и терпимым «сыном». «...Они достигали взаимопонимания только говоря на профессиональные темы, то есть — о литературе» (с. 400).
В главе «Жизнь в переписке» Жиллес набрасывает, опираясь на переписку Чехова с Книппер и воспоминания его друзей, обобщенный портрет писателя. Он отвергает образ «нежного» Чехова, каким его изображают почти все его биографы: это благая, но напрасная ложь. «Они — вольно или невольно — смешивают художника и человека», — замечает Жилес. «...Если не считать своего рода чувственную нежность, проявленную Чеховым в письмах Ольге, — пишет он, — этот человек вовсе не нежен, и сердечные порывы ему не присущи. Чтобы убедиться в этом, достаточно вспомнить, как он обращался со своей сестрой в момент женитьбы на Ольге или перечитать его переписку с Горьким, в которой на живые и непосредственные уверения последнего он отвечает формулами вежливости». Считая все же, что «бесстрастность» Чехова и отсутствие в нем «непосредственной» нежности компенсировались сознательной добротой и великодушием, Жиллес подчеркивает отзывчивость Чехова. «Измученный болезнью, он продолжал принимать просителей, ободрять начинающих авторов и оказывать моральную и материальную помощь учителям — этим париям интеллигенции. Но присоединившись к Софи Лаффит, Жиллес настаивает, что «в этих всеобъемлющих хлопотах <...> никогда не участвовало его глубинное «я»» (с. 423—424).
В соединении этой «пассивной чувствительности» с тем свойством, которое А.И. Куприн называл «проникновением» и «тонким вниманием к чужой тревоге», Чехов, по Жиллесу, не одинок: «Вспомним Руссо, Жида, и более близкого к нам Кокто. Именно потому, что эти писатели всегда сохраняют в глубине индифферентность и обладают ничем не скованной ясностью видения, они, благодаря самому парадоксу искусства, могут часто лучше понять других и помочь нам их понять, ощутить биение чужих сердец. Будь Чехов страстным энтузиастом, он бы мог, может быть, дать больше своей жене и друзьям, но безусловно — меньше нам, его читателям» (с. 424—425). Ибо «единственной пламенной страстью Чехова всегда остается искусство, литература» (с. 425).
Знакомству французской публики с личностью Чехова и основными вехами его жизни содействовали переводы биографических материалов и исследований, изданных на других языках.
Кроме переведенного фундаментального труда американского исследователя Э.Дж. Симмонса, кроме избранных писем Чехова в издании EFR в руки любителей Чехова попала книга воспоминаний, впервые изданная в 1970 г. издательством Gallimard. Жак Нанте в «Nouvelle Revue des Deux Mondes» в мае 1971 г. высоко оценил значение этой книги.
Вышедшему переводу избранных писем Чехова в EFR (том 20 Сочинений, 1967) мы обязаны прекрасным портретом писателя в очерке Роже Шатоне, опубликованном в журнале «Europe» (1967. № 458. С. 240—242). Вот что пишет Роже Шатоне: «За этим стоическим обликом скрыта пылкая, терпеливая, независимая, решительная любовь к человеку, такому, как он есть, и в его слабостях, и на вершине славы. Это не вялая нежность людей со спокойной совестью (здесь Шатоне расходится с С. Лаффит), а твердое стремление к добру, вооруженное наукой, терпеливое и внимательное, склонное к абсолютному приятию жертвенности, лишенное лирической позы или ожесточения... Воспитатель, медик, защитник обездоленных, Чехов никогда не желал играть роль апостола. Всемогущество его добра и сила гения созданы были скромностью и питались слиянием с природой — совершенно иного характера, чем у Гете. Поэт теряет малейший след нарциссизма и не заклинает мир быть его наперсником: «Камские города — серы»» (П. IV, 71). «Мы постоянно ощущаем, — пишет Шатоне, — звуковую ткань, поддерживающую повествование, — жалобу аккордеона, крик иволги, лягушачью флейту. А жизнь проходит. Человек вовлекается в поток действительности, который имеет свое объяснение, свою этику и свою необходимость» (с. 242).
В 1971 г. Эме Александр публикует книгу «В поисках Чехова. Очерк внутренней биографии» (264 с.)11. Она написала этот «очерк» «без всякой мысли об издании, просто потому, что не могла поступить иначе», — уведомляет нас издатель Бюше-Кастель.
Но этой оговорки все же недостаточно, чтобы оправдать небрежности, которые были немедленно отмечены критикой того времени. При первом чтении бросается в глаза отсутствие точных ссылок в начале библиографии и оглавления в конце. Эссе «психо-биографической критики», предполагающее безукоризненное знание деталей «внешней» биографии, вылилось в длинный список мелких вопросов, относящихся к жизни и творчеству Чехова. Как заметил Клод Мориак в рецензии, опубликованной в «Le Figaro», «чеховские тексты отвечают на них, но только отчасти: к многочисленным цитатам, переведенным Эме Александр из прозаических и драматических произведений Чехова и его переписки, добавлены сведения скорее вымышленные, хотя и не лишенные иной раз правдоподобия. Но нам интересна только правда — в той мере, в какой ее можно обнаружить, а гипотезы Эме Александр не могут нас удовлетворить».
Действительно, книга Э. Александр изобилует погрешностями. Перед нами — многословное повествование с претензией на психоаналитические взгляды: «Чехов всегда «запрещал» себе «освободительный крик»» (с. 40), с фактическими ошибками («тема матери отсутствует в его творчестве» — с. 123). Слишком часто употребляемые обороты: «кажется», «что», «более вероятно», «представляется», «можно подумать», «возможно» и т. д., — все это носит характер личных впечатлений автора, а не научного истолкования чеховского творчества.
Не считаясь с известными высказываниями Чехова о своих героях, Эме Александр утверждает, что во всех своих произведениях он повествует о «своих муках», скрываясь за разнообразными масками. Чехов, по ее словам, лихорадочно ищет себя в своих персонажах и распыляется во всех них, включая женщин... Он ищет себя и в жизни, во всех своих поступках, но ему никогда не удается сказать: «Я Антон Чехов, и точка».
Говоря о травмах, оставивших неизгладимый след в душе Чехова-ребенка и юноши, Эме Александр приписывает «огромное значение» «трагической незначительности матери», при «параноическом» деспотизме отца, ее неумению утешить своего ребенка, впадающего в отчаяние, подчас невыносимое (с. 15).
Отсутствие материнской любви, будто бы в самом раннем возрасте убившее в Чехове нежность, «пустыня чувств», в которой он рос и которая «навсегда» повергла его в одиночество, — все эти утверждения Эме Александр, объективно сближаясь с соответствующими мотивами в работах С. Лаффит, Д. Жиллеса и др., несут на себе отпечаток особого, обостренного интереса к явлениям патологической психологии. Считая, что Суворин и Л. Мизинова в какой-то мере восполнили одиночество Чехова, она оговаривается: но это ни истинная дружба, ни истинная любовь (с. 192); Авилова же со своими «ретроспективными иллюзиями» никогда ничего и не значила для Чехова.
Эме Александр много пишет о «так называемом женоненавистничестве» Чехова, хотя ничуть не сомневается в «его невероятной способности быть счастливым, когда он временно попадает в свою стихию» (как это было в Любимовке) (с. 240 и сл.).
Признавая важную роль социальной среды для мировоззрения писателя, которая будто бы «внушила Чехову страх перед смешным» и «украла у него весну», Эме Александр пытается разобраться в сложных последствиях религиозного воспитания, которое получил Чехов (с. 44). Предполагая, что «страх перед Господом» уберег его и он не стал «малолетним преступником», обманывающим покупателей в лавке отца, она в то же время считает, что религия привила ему «чувство виновности, навсегда сделавшее его несчастным» (с. 247).
Детально исследуется в книге отношение Антона Павловича к отцу, причем источником сведений для этого служит односторонняя характеристика Павла Егоровича в известных воспоминаниях старшего брата писателя — только как семейного деспота. «В один прекрасный день — мы не можем знать, когда именно, — Чехов решил создать из себя личность... и он делал это не положительно, а «от противного». Основной целью было «неотождествление» с отцом. Стать «другим молча, по секрету» — таким было «великое дело Чехова на протяжении всей жизни»» (с. 20—21).
«Как Чехов преодолел свое детство?» — спрашивает далее Эме Александр. — Обойдясь без бунтарства и бегства. Не так, как другие писатели, «которые утверждают, продлевают, углубляют и постоянно обращаются к любимому или ненавидимому ими детству». Чехов же «просто решил уничтожить, ампутировать его, чтобы не испытывать ненависти», — отсюда и взялось так странно звучащее его высказывание: «в детстве у меня не было детства» (с. 22).
«Чехов никогда не звал на помощь, — подчеркивает Э. Александр, — он избрал молчание. Говоря о своих страданиях, он никогда не говорит «я»... Но тем не менее он расскажет о своем печальном детстве. Говоря «он» или «она», меняя пол, ситуацию, одежду, он будет наивно думать, что за маской никто не увидит кровавых слез, скрытых этой маской на его лице» (с. 24—25).
Первые проявления «нового» Чехова Э. Александр видит в «неуместном», «полном бессознательной лжи» и «ретроспективных иллюзий» по отношению к своим родителям письме, написанном Чеховым своему двоюродному брату М.М. Чехову 29 июля 1877 г. (I, 25). Она задается вопросом, почему Антон Павлович в отличие от своих старших братьев все-таки не потерял интереса к семье. Для Чехова семья прежде всего представляла «первую его лабораторию поисков идеального, но искусственного «я», которое он хотел себе создать. Убедившись в своем эгоизме, унаследованном от отца, он решил воплотить в жизнь альтруизм, а семья являлась лучшим полем деятельности» (с. 46). Вторая причина заключалась в том, что Чехов сознавал в себе унаследованную отцовскую жажду власти и желание занять его место главы семьи. Стать Отцом Антоном вовсе не претило ему поначалу. В той страсти, которую он вкладывал в «менторство» и исправление других, чтобы «самому не распуститься», Эме Александр видит «своего рода сублимацию этой жажды власти и яростное желание ее побороть» (с. 50).
В свете этого длинное письмо Николаю в марте 1886 г. представляется Э. Александр «написанным скорее по внутренней необходимости», чем для того, чтобы убедить брата стать воспитанным человеком (с. 81).
Развивая мысль об одиночестве Чехова и исходя при этом из существования многочисленных «подземелий» в личности писателя, Э. Александр отмечает борьбу между темным (естественным) и светлым (искусственным) началом. Утверждая, что величайшей победой воли Чехов освободил себя, как «узника», томящегося в «подземелье» и поднялся до вершин культуры, она в конечном счете провозглашает это поражением Чехова как естественной личности.
Этот путь духовного развития Чехова, трактуемого как жертва, принесенная условностям цивилизации, отразился, по ее мнению, на идейном содержании и на настроениях всего чеховского творчества. Глубочайшим унынием, отчаянием проникнуты, по ее словам, рассказы «Тоска», «Горе» («отчаянное погружение в последний круг человеческого одиночества»), «Враги», «Припадок» и пьеса «Иванов», повесть «Скучная история». Считая «Иванова» и «Скучную историю» «неоценимым документом для понимания Чехова», она снова возвращается к мысли о тождественности Чехова своим героям и пишет, что Николай Степанович — это сам автор, «несчастный, потерянный, отъединенный, превратившийся в старика» (с. 120).
В рассказе «Жена» — в мотиве «невозможности супружеского счастья и абсолютного отсутствия взаимопонимания между партнерами» (с. 156), Э. Александр также видит отголоски автобиографических переживаний Чехова, приписывая ему самобичевание... за бессилие в любви.
«Попрыгунья» рассматривается в связи с интересом Чехова к двум типам, будто бы живущим в нем (Чехов «неотесанный», или «побежденный», и Чехов «цивилизованный», или «победитель»). Рябовский относится к типу «побежденного», Дымов — «победителя».
В «Попрыгунье» — замечает Э. Александр, — автор впервые без колебаний «склоняет чашу весов в пользу Чехова — такого, каким он хотел себя видеть. Он не достиг святости Дымова и его истинной скромности. У него нет веры в то, что он делает... Но Дымов — такой, каким Чехов хотел видеть себя» (с. 199).
В «Чайке» — Эме Александр специально анализирует только эту пьесу — чаша весов — по ее мнению — склоняется в другую сторону. Ни Тригорин, ни Треплев не воплощают того Чехова, каким он себя видел во время написания «Чайки». Но есть две возможности: треплевская — упущенная в прошлом, и тригоринская — предчувствуемая в будущем... (там же).
Обращая внимание на то, что Чехов, считавший себя объективным писателем, реалистом, жестоко смеявшийся над «новаторами»-декадентами, вдруг почувствовал интерес к Метерлинку (с. 200), Эме Александр пишет: «Чехов тосковал по новому ветру, достаточно мощному, чтобы смести структуры абсурдного и отжившего мира. Он завидует Треплеву, потому что тот пытался это сделать... продолжая издеваться над ним...» (с. 201). Таких рассуждений, произвольных и малообоснованных, в книге много.
В творчестве Чехова второй половины 1890-х годов Э. Александр отмечает то «настоящую тоску» по любви («Дом с мезонином» и др.), то «резкий взрыв негодования социального, захлестывающего привычный его скептицизм» (с. 213), то «страстные поиски чего-то и в то же время — оживленную уверенность, что он больше ничего не ищет» (с. 219).
К концу книги Э. Александр все же признает для Чехова возможность «возрождения»: «если бы Чехов жил еще долго, если бы смог вылечиться, прекратить бегство от смерти, от самого себя, от своего страха, своего изумления <...> его внутренний ледник растаял бы...» «Устав от поисков собственного «я», он окончательно принял бы себя таким, как он есть, и стал бы добрым и великодушным в любви, сердечным, сочувствующим и привязчивым. Уже в течение последних двух-трех лет жизни, испытывая жажду по человеческому теплу, он и сам относится к окружающим с большей теплотой». «Очевидно, прежде чем навсегда уйти, Чехов почувствовал в себе новую, отличную от прежней, тягу к людям».
И вот последнее лето, последний бокал шампанского, «последние слова, произнесенные на немецком этим человеком, умершим так, как он жил.
«Великому, прекрасному писателю Антону Чехову, — пишет в заключение Э. Александр, — не удалась жизнь, но удалась смерть» (с. 264).
Мы завершим эту биографическую часть кратким обзором Софи Лазарюс «Общественная деятельность писателя Антона Чехова», опубликованной в 1981 г.12
Осветив все аспекты этой разнообразной деятельности, хорошо известной из многих источников, Софи Лазарюс особое внимание уделяет двум: путешествию на Сахалин и постоянной помощи больным в качестве врача и общественного деятеля.
«Вся жизнь Чехова, — пишет С. Лазарюс в начале статьи, — это проявление неисчерпаемых жизненных сил и мужества. Его постоянное стремление помогать другим было единодушно признано и оценено современниками. Это было не чистой филантропией, чувством, которое «баюкает сознание богатых людей», как сказал К. Чуковский, но милосердием к обездоленным, подвигнувшим его на самый значительный шаг в его биографии — поездку на Сахалин» (с. 90).
Медицинская деятельность Чехова на Сахалине — как и в других местах, в другое время, — выражает его постоянное желание заботиться о больных вне зависимости от собственного состояния здоровья и доказывает, что «до последних месяцев своей жизни он был верен своим занятиям человеколюбивой медициной» (с. 95).
Пожалуй, Софи Лазарюс даже склонна преувеличивать место медицинской темы в чеховском творчестве. Что касается других сторон общественной деятельности Чехова, подчеркивает С. Лазарюс, то писатель так неохотно говорил о них, что современникам они остались малоизвестны. Отсюда «любопытное» явление: «несмотря на то, что жизнь Чехова была полностью посвящена людям, появилось много неблагожелательных статей, упорно доказывающих, что Чехов — писатель пассивный, бесхарактерный» (с. 106).
Хотя юмористические и сатирические произведения Чехова, — считает Софи Лазарюс, — всегда «обвиняют», указывают на пороки общества того времени, его социальная деятельность на протяжении всей жизни свидетельствует об обратном.
Хотя и существует «глубокое противоречие между активной жизнью писателя и неудовлетворенностью, парализующей всякую активность его героев», сам Чехов, — заключает она, — «смог совместить» карьеру медика и литературное призвание с вкусом к общественной деятельности и готовностью к поступкам, сопряженным для него лично с риском» (с. 106).
2
К сожалению, современная французская критика сравнительно мало внимания уделяет искусству Чехова-новеллиста. Впрочем, в 1953 г. писатель и литературный критик Жан Фужер в книге «Новелла, искусство будущего»13 заметил, что рано или поздно значительная роль Чехова в прозе XX в. будет признана. В этой работе он неоднократно возвращается к Чехову. Напомнив прежде всего слова Толстого, который «предощутил, что для будущего новеллистики важен не Мопассан, а Чехов», Жан Фужер пишет: «Чехов быстро преодолел влияние натурализма, предпочтя обыденное исключительному. Он понял, что рассказ отнюдь не обязательно должен быть связан с каким-то кризисным моментом. Это не значит, что он отверг драматизм. Драматизм в рассказах оставался, поскольку драматична сама жизнь. Отсюда не следует, однако, что необходимо бить по нервам читателя, избирая момент, когда разражается трагедия. Новым в Чехове было умение позволить нам остро ощутить мучительную тайну существования, не прибегая к изображению трагических событий, и вызвать у нас жестокий смех над комизмом этого существования, не пользуясь приемами водевиля. У Чехова впервые в истории новеллы сюжет утратил свое господствующее значение. По прочтении короткого рассказа могло возникнуть впечатление, что «ничего не произошло», если воспользоваться выражением тех, кто придерживается устарелой точки зрения, полагая, будто тем самым выносит окончательный приговор рассказу. Действительно, в чеховском рассказе почти нет внешних перипетий. И однако на этих страницах — вся сложность, все многообразие самой жизни. Достаточно нескольких фраз, чтобы захватить читателей. Два-три слова, жест — и мы знаем больше, чем могли бы рассказать тридцать страниц детального описания (в духе романистов XIX в.), об этом несчастном извозчике, который поверяет свои невзгоды на ухо лошади. Факт у Чехова не оторван от жизни. События, чувства никогда не единичны. Они приобретают общезначимый характер, ибо каким-то таинственным, неизъяснимым способом связаны с множеством возможных событий и чувств, заключенных в прошлом и в будущем человеческой жизни. Именно по поводу одной из подобных новелл «В овраге» Горький написал: «...если бы я начал последовательно излагать содержание его рассказа, то мое изложение было бы больше по размерам, чем самый рассказ»»14 (с. 33—34).
Напомнив об «огромном влиянии» Чехова на литературу США и особенно Англии, еще «задолго до того, как Дю Бос и Жалу открыли его французам» (см. наст. кн. и ЛН, т. 68, с. 717), Жан Фужер останавливается на жанровой природе его прозы. Он замечает, что жанровые различия новеллы и романа сейчас «обнаруживаются все более отчетливо. Можно спорить, является ли длинной новеллой или коротким романом «Принцесса Клевская». В самом деле (здесь) приемы мадам де Лафайетт те же, что в произведениях, подобных «Принцессе Монпансье», краткость которых не мешает отнести их без всяких колебаний к жанру романа. А вопрос о жанровой принадлежности самых длинных новелл Чехова даже не возникает» (с. 38).
Рассматривая отличительные особенности обоих жанров, а также специфические трудности работы художника-новеллиста, Жан Фужер иллюстрирует свою мысль словами Чехова о построении «Именин» (письмо Суворину от 27 октября 1888 г.) (с. 41).
И, наконец, Жан Фужер обращается к Чехову, чтобы показать, что «новелла стоит выше романа, поскольку она не нуждается в утяжеляющих повествование условностях...» (с. 42).
«Сравнительно небольшой объем новеллы и присущее ей единство тона делают ее подвижнее романа», — считает он. — «В современной новелле часто ощущается некая неопределенность, возможно, унаследованная от великих русских рассказчиков, так что она склоняется то в одну, то в другую сторону, не позволяя нам ни в чем увериться окончательно и в каждое данное мгновение создавая впечатление, будто она не связана никакими условностями. Я уже говорил, что она без всякого предупреждения кидает читателя прямо в жизнь. Он сам должен домыслить то, о чем умалчивает это молчаливое искусство. Он сам должен вывести заключение, если чувствует необходимость в развязке. Ибо новелла никогда не заканчивается каким-то произвольным жестом, завершающим развитие, «эффектом» удовлетворения, с помощью которого во множестве хороших романов дается понять, что мы на последней странице. Конец новеллы более неопределенен и неожидан <...> Она «не может позволить себе жизненных поучений. В этом она соприкасается со стихотворением, их родство очевидно. С известной точки зрения она ближе стихотворению, чем роману».
В 60-х годах одним из самых активных пропагандистов Чехова во Франции был Пьер де Лескюр. Он никогда не упускал случая приветствовать в «Les Lettres Françaises» появление очередного тома Полного собрания сочинений Чехова, издаваемого на французском языке EFR. Мы становимся на некоторых его суждениях.
По поводу произведений, вошедших в 15-й том (1893—1894 гг.), П. де Лескюр в «Les Lettres Françaises» (1962. № 911. 31 января. С. 3) писал: «Чеховские новеллы не замкнуты. Они выходят из собственных границ, продолжаются в нас и во всем, что мы воспринимаем сегодня. Мы не ищем в них конца, заключения. Ничто в них не написано ради последней строчки.
Отсюда — никаких преувеличений ради эффектного конца; никаких ситуаций, поражающих жестокостью или приторной сентиментальностью. Нарочитость и искусственность Мопассана, у которого Чехов учился, были им вскоре преодолены с помощью пластичной внутренней конструкции. Автору «Бабьего царства» с его изменчивой атмосферой легко дышится в этом непрерывном движении, отражающем разные аспекты человеческой жизни, которая сама все время меняется, и впечатления, порождаемые определенным часом дня, запахом улицы, взрывом смеха. Ему удается очистить наш взгляд от всех наслоений социальных условностей. Он освобождает нас от заученных машинальных жестов, предначертанных социальными отношениями, позволяя вдруг ощутить, что наша жизнь потекла по пути, не связанному с застойной и безликой повседневностью.
Так, чеховская композиция — будь то «Рассказ неизвестного человека» или «Черный монах» — зиждется отнюдь не на сопоставлении событий. Отбирая элементы действительности, это искусство как раз отбрасывает второстепенные элементы, заключенные в фабуле. Это вовсе не значит, что Чехов пренебрегает подробностями. Напротив, подробности подчас даже кажутся необязательными. Они не принадлежат внешнему действию, которое при классическом изложении событий составляло интригу, движущуюся к определенному финалу.
Чехов не нуждается в интриге и «действии», понимаемом драматически. Он стремится ловить движение человеческих существ, их противоречия, и его повествовательные приемы не направлены на точное воспроизведение обстоятельств или персонажа, застывшего без движения. Он не перестает искать органические связи, в результате которых человек действительно меняется...»
Перечитывая Чехова, П. де Лескюр всякий раз «поражается» тому, «как свободно писатель обращается с фактами». «Главное достоинство» Чехова, подчеркивает в заключение П. де Лескюр, в том, что Чехов никогда «не мерил других по себе, но предоставлял каждому жить по-своему».
Развивая эту мысль в связи с появлением 16-го тома (произведения 1895 г.), П. де Лескюр в статье «Чехов-спутник» («France Nouvelle». 1962. № 873. С. 25) отмечал, что, знакомясь с этими произведениями, «читатель вновь обретает в Чехове спутника, который разделит с ним будни; спутника, который умеет выразить то, о чем, не будучи писателем и художником, может задуматься и захотеть сказать каждый просто как человек. Каждый может в один прекрасный вечер оказаться лицом к лицу с собственной посредственностью и, видя несправедливость, глупую или сознательную жестокость, осознать, что его возмущение бессильно. Чтение Чехова сообщает нам трезвую ясность ума, которая вовсе не является признаком равнодушия или неуважения к людям, но, учитывая мерки этих людей и наши собственные мерки, отводит нам соответствующее место в том великом потоке мира, где сливаются контрасты и противоречия жизни».
Марсель Брион, литературный обозреватель «Les Nouvelles Littéraires» (1963. № 1862. С. 5) в рецензии на последний, 18-й том сочинений Чехова (произведения 1898—1903 гг.) об искусстве Чехова-новеллиста пишет: «Чехов, который поначалу намеревался только рассказывать забавные и колоритные анекдоты или воссоздавать, следуя методу французских натуралистов, «некий кусок жизни», вскоре понял, что новелла дает великолепную возможность проникнуть в тайну личности. Он отвернулся от документа, столь дорогого Золя, чтобы погрузиться в те промежуточные состояния сознания, в те безграничные сферы необъяснимого, неведомого, которые окружают самое заурядное, на первый взгляд, существование. И тут открылись бездны неудовлетворенности и скуки в неосуществившихся судьбах всех этих провинциалов и сельских жителей, снедаемых меланхолией безделья, неспособностью сделать усилие, болезненной апатией, описанной также в «Обломове» Гончарова, которого надо бы переиздать <...> «Человек в футляре», «Дама с собачкой», «В овраге», «У. знакомых» относятся к самым замечательным рассказам Чехова, вызывающим всеобщее восхищение. Здесь искусство рассказчика достигает совершенства формы, повествование соткано из умолчаний, недоговоренностей, сомнений в своем праве на предполагаемую исповедь и уж тем более на насильственное проникновение в сокровенные тайны. Великолепное искусство Чехова, построенное на полутонах, намеках, столь же быстро снимаемых, сколь они брошены, на размытых линиях, обволакивает сюжет и героя, проникает в него — это своего рода осмос, не имеющий ничего общего с тем, что именуется психологическим анализом; на мой взгляд это скорее некая магическая операция, совершаемая в тигле алхимика, где из разных элементов возникает единый сплав».
В 60-е годы Чехову-новеллисту было посвящено всего лишь одно тематическое исследование — Пьера Роллана «Чехов и тоска по счастью» (Europe. 1963. № 407).
Во введении П. Роллан отмечает, что после великих чеховских пьес французская публика проявляет известное недоверие к якобы «второстепенному» для Чехова жанру новеллы. Он объясняет это недоверие страхом, «как бы наполняющее новеллу разнообразие жизни не разорвало кокон, образовавшими вокруг театра «душевной смуты». И так действительно и происходит, ибо разнообразие жизни выявляет все проблемы, которые ставило перед Чеховым его время и, в частности, проблему счастья в обществе, зиждящемся на презрении к человеку» (с. 139).
П. Роллан не видит существенной разницы между театром Чехова и его новеллистикой. «Тональность, темы, персонажи тяготеют к созданию единого впечатления», достигаемого «очарованием, магией, которые исподволь овладевают сердцем и умом читателя, в театре все это именуется «подтекстом»» (с. 142).
Этот «подтекст», по мнению П. Роллана, не менее ощутим и в новелле, где сила Чехова не в сентиментальности, а в жизненных наблюдениях и «выношенной уверенности в постыдной и тупой несправедливости» окружающего. «Именно отсюда идет «подтекст» его рассказов. Своей способностью взволновать читателя Чехов обязан знанию человеческого сердца, знанию своих современников, своему дару сообщать им жизнь, передать присущие им особенности языка, дурные привычки, навязчивые идеи, слабости, обязан ясному пониманию того, чего не хватает этим людям для счастья» (с. 143).
Рассматривая большие рассказы Чехова, в частности «Огни», «Гусев», «Дом с мезонином», П. Роллан прежде всего отмечает, что «Чехову присуща способность великих писателей отождествлять себя с каждым человеком». Ему представляется, что есть, к примеру, «ничто невероятное в подобном самоотождествлении автора с Гусевым, человеком-вещью, приемлющим такое свое существование. В этой новелле подтекст явен. И он отнюдь не связан с душевной смутой. Чеховское очарование во всем диапазоне — от лиризма, окрашенного грустью, до ярости — это очарование реализма и человечности» (с. 144).
Поздние рассказы, Такие, как «Ионыч» (где, по мнению П. Роллана, Чехов «создает современный романтизм»), «Крыжовник», «О любви», «В родном углу», «У знакомых», «Случай из практики», позволяют судить об эволюции Чехова. Хотя Чехов убежден, что в условиях русского общества, где попирается человеческое достоинство, счастье невозможно, он все более и более верит, «что счастье должно существовать на земле и что люди способны этого добиться» (с. 145)... В «тоске по потустороннему» Чехов смысла не видит. «Это бесплодная мистика <...> Если некоторых из его героев постигает неудача, если они падают, не дойдя до цели, их поиски не бессмысленны, не напрасны; другие довершат их. Отсюда та пронзительная тоска по счастью во всем творчестве Чехова — нежная тоска и страстное желание, ожидание — то смутное, то нетерпеливое; от этого ожидания волнуется даже трава в степи. Тон Чехова не пессимистичен, даже не скептичен; он проникнут трепетом, слова излучают смысл, выходящий за их строгие рамки, — это и создает подтекст» (с. 147).
По мнению П. Роллана, в последних рассказах Чехова до такой степени усиливается «это нетерпение и зарождающийся энтузиазм, что Чехову случается проявить безжалостность по отношению к тем, кто отстает» (например, в рассказе «У знакомых»). П. Роллан напоминает в заключение известное свидетельство Елпатьевского об оживлении интереса Чехова к политическим событиям в стране в начале века.
Чехову посвящено несколько диссертаций: Дюралдин Гассана — «Сатирический элемент в ранних рассказах Антона Чехова» (защищена в университете Париж X-Нантер в 1971 г.); Вероники Лосской («Чехов и А.С. Суворин», защищена в университете Париж-Сорбонна). Работы эти не опубликованы.
Новые научные исследования прозы Чехова появились только на рубеже 80-х годов.
Одна из работ — «К истокам чеховского лиризма: псевдоромантизм, антиромантизм и романтизм в изображении природы (1880—1883)», принадлежащая автору этих строк, — увидела свет не во Франции, а в США, в 1980 г., в журнале «Canadian-Américan Slavic Studies», в номере, посвященном русскому романтизму (т. 14, № 2, с. 149—196). Прослеживая шаг за шагом зарождение лиризма в изображении природы у Чехова, автор пишет о важной роли в этом процессе романтической традиции. Чехов не только не отметал и не презирал ее в целом, но, напротив, учился у нее. Посмеиваясь над ее устаревшими формами, подражая им или пародируя их, дабы доказать себе самому непригодность этих форм, попадая подчас в их ловушки, Чехов сумел также воспользоваться по-новому романтическими приемами. Мало-помалу Чехов выработал «собственные принципы изображения природы — плод долгих раздумий и терпеливых поисков. Эти принципы не укладываются ни в какие «измы». Тем не менее в годы ученья он пролагал свой путь, опираясь, как на лучшее в романтическом наследии, так и на наследие реализма» (с. 196).
Наконец, в исследовании «Антон Чехов и Герберт Спенсер», недавно опубликованном в т. 54 «Revue des Etudes Slaves» (вып. 1—2, с. 177—193), Меланж Пьер Паскаль, автор этих строк, анализирует первое соприкосновение Чехова с философией Герберта Спенсера, главным образом, по его книге «Об интеллектуальном, нравственном и физическом воспитании». По мнению автора, чтение этой книги, которое, как показывает переписка, может быть приурочено к началу февраля 1883 г., оказало на формирование взглядов молодого Чехова более сильное влияние, чем полагали до сих пор. Прежде всего в этом чтении он подчеркнул «философское обоснование двойной ориентации собственной жизни» (с. 185) — художественной и научной. Утверждая, что Чехов откликнулся на мысли Спенсера как свидетель своей эпохи, автор работы показывает, как чтение трудов Спенсера отразилось на формировании чеховских идей в области воспитания и на его постоянной заботе о самовоспитании. В феврале и марте 1883 г. в письмах впервые появляются слова «воспитанность» и «невоспитанность», а по таким текстам, как «Что лучше? (Праздные рассуждения штык-юнкера Крокодилова)», «Умный дворник», «Случай с классиком», «Дочь Альбиона», видно, что Чехов следил за спорами, которые велись в это время о воспитании и женском вопросе, и в скрытой форме принимал в них участие. Из этого анализа вытекает, что Антоша Чехонте не только «не всегда был безыдейным писателем», как любят иногда доказывать, но напротив, был глубоко втянут в социокультурные дебаты своей эпохи и стремился занять определенную позицию, пусть даже с помощью ничтожнейшего из своих «пустячков» (с. 192).
В рассматриваемый нами период определенное влияние на восприятие рассказов Чехова имели переводы иностранных книг и переиздания уже известных французскому читателю работ.
Книга Э. Триоле «История Антона Чехова», вышедшая в свет в 1954 г., была переиздана в 1968 г.15, труд Л. Шестова «Творчество из ничего» (1-е изд. 1931 г.) переиздан в 1966 г.16 В 1962 г. появилась на французском языке книга И. Эренбурга «Перечитывая Чехова», впервые опубликованная в СССР в 1960 г.17
В заключение обзора критики чеховской художественной прозы предлагаем читателю отрывки из работы Жана Бонамура, профессора Сорбонны18.
«Роман находится сейчас в упадке, и взлет новеллы объясняется, без сомнения, обновлением проблематики, которая становится скорее экзистенциальной, чем социальной.
Творчество Чехова, разумеется, не поддается классификации, которая, как правило, всегда произвольна. В том, что его прозе присущи сатирические элементы и осуждение социальных пороков, сомневаться нельзя. Современники также признавали глубокую актуальность чеховских произведений».
Как пример актуальности Чехова для своего времени Ж. Бонамур приводит известный отзыв Короленко, который сравнивал Чехова с кучером Дениской в «Степи»19.
«Со многих точек зрения новеллы Чехова вписываются в романическую традицию, — продолжает Ж. Бонамур. — Художественное исследование психологии на основе повседневной жизни у Чехова может напомнить Гоголя, Гончарова и Толстого. Техника гармонического соединения автономных глав, очень отчетливо проявившаяся в «Степи», отсылает нас к пушкинской традиции. Кроме того, неоднократно отмечалось уже, что темы его рассказов могли бы составить интригу романа (можно, например, вообразить Тургенева, взявшегося за тему «Дама с собачкой»).
Поэтому тем более удивительно, что он выбрал именно форму рассказа. Рассказ его прежде всего — атмосфера, атмосфера типично чеховская, которую создают кропотливые наблюдения и сдержанное сочувствие автора к изображаемым людям. Если чеховские персонажи и не обладают ярко выраженной индивидуальностью, то это объясняется тем, что на них лежит печать единого авторского взгляда на самую жизнь — мир, произвольно разделенный на обособленные отрезки индивидуальными точками зрения. Профессор из «Скучной истории», врач из «Палаты № 6» следуют по пути, повторить который приглашается и читатель. Никогда еще до Чехова литература не порывала так резко с исключительностью: его рассказ превращает анекдот в трагедию, а трагедию в анекдот, на уровне невидимой нити, которая объединяет людей и все развитие действия. Невозможность коммуникации, стоящая в центре большинства произведений, есть не что иное, как движение жизни, которое разводит в разные стороны индивидуальное сознание, как морское течение — корабли. Строгий выбор деталей — знаменитая чеховская краткость — фиксирует самые тонкие эмоциональные реакции человека, ощущающего себя в неразрывном единстве с окружающей обстановкой. Судьбы персонажей не есть результат их сознательной воли, но сама конструкция рассказа, с помощью музыкальной системы контрапунктов стягивает их воедино в повествовании. Толстой сравнивал манеру Чехова с искусством импрессионистов (мысль о мазках, которые на первый взгляд никак не связаны между собой, но, если отойти от картины, создают целостное впечатление»20.
В течение периода, который освещается в нашем обзоре, некоторые французские медики почувствовали интерес к личности и творчеству своего собрата. Ранее была известна работа доктора Бернара-Анри Дюкло — его медицинская диссертация: «Чехов, писатель и врач» (1927) (См.: ЛН, т. 68, с. 718—719). Теперь, спустя 35 лет, доктор Дебре Квентин Ритцен опубликовал в 1962 г. с предисловием профессора Пастера Валери-Радо новую работу о Чехове-враче21.
К сожалению, эта работа поверхностна. Рядом с содержательными оценками в ней масса банальностей, тонущих в многословии и слишком много безапелляционных утверждений типа: ««Безотцовщина», написанная в 1881 г., впоследствии была заброшена» (с. 52); «Чехов никогда не читал ни Лаврова, ни Михайловского, ни Бакунина» (с. 31); «До 1888 г. Чехов много пишет для денег, не задумываясь, а потом переходит к более строгому отбору» (с. 32).
Квентин Ритцен сосредоточивает внимание на темах: «Степь», как основополагающее начало, где Чехов обретает себя как писатель»; «травмирующее детство», которое могло бы послужить извинением Чехову, если бы он стал шалопаем»; «...поиски человеческого достоинства — упрямая реакция его требовательной натуры <...> ибо он «кожей» ощущает необходимость обуздать инстинкт и завоевать свободу»; «биологическое видение мира» по Литтре и др.
«Медицина — лучший просветитель человека, — пишет Квентин Ритцен, — привела Чехова к скептицизму монтеневского толка, позволив ему спокойно противостоять царской тирании, толстовской доктрине, обману наивно-великодушных идей, мифологизации смысла истории и революционным излишествам, побуждая, напротив, на пять-десять лет раньше, верить в постепенный прогресс, который породит знание, грамотность, «пар и электричество» (с. 23).
Говоря о рассказах, подписанных А. Чехонте, Ритцен находит в комическом начале Чехова много общего с Диккенсом. Самые сатирические рассказы, по его мнению, разоблачают, «как правило, нищету, невежество, несправедливость, абсурдность человеческого удела». Так, Ритцен считает, что «стиль чеховского «В суде» предвосхищает Кафку. Чехов подводит к мысли, что зло не сводится к пороку социальной системы, что оно глубоко заложено в самом человеке. И эта тема усилит в Чехове, которому чуждо понятие искупления, пессимистическую сторону, наиболее явную, наиболее освещенную его творчеством... оптимизм же его раскроется мало-помалу на протяжении его жизни в сдержанной, робкой вере в далекий прогресс» (с. 37).
Для Квентина Ритцена молодой Чехов «не только поверхностный комический автор. Уже тогда началась эволюция, приведшая его впоследствии к величайшей глубине, но эта глубина сбивает с толку, ибо никакая мораль и никакая эстетика ее не определяют. Если она и открывает неожиданные горизонты, то ничто в ней не выдвигается на первый план. Это дело читателя».
Восхищаясь тонким психологизмом Чехова, Ритцен замечает, что если бы надо было назвать, как это иногда делается, в честь Чехова болезнь, то его имя следовало бы дать «износу души»22, к которому приводит жизнь, и лекарство от этой болезни. Он мучительно искал всю жизнь, можно сказать, что он осознавал ее и с юных лет исследовал во всех формах — душевную неудовлетворенность, «увязание в буднях», «страх некоммуникабельности». Самым чудовищным образом «проклятие этой болезни сказалось в «истории увядания Иванова»» (с. 53).
В дальнейшем Ритцен несколько раз возвращается к философской позиции Чехова и указывает на ее сходство с философскими взглядами Клода Бернара (Чехов мог бы вместе с Клодом Бернаром сказать: «я занимаюсь только вторичными причинами» — с. 107). Он пишет также об «эволюционизме» Чехова: «сделав из прошлого «tabula rasa», Чехов испытал соблазн абсурда, но смог преодолеть этот ложный вывод — навязчивый плод слепых человеческих поисков, ибо доктор Чехов нашел намек на разрешение этой необъятной проблемы, единственной темы искусства — человек перед загадкой жизни — в научных достижениях XIX в. Он осознал страшный секрет, вырванный у земли Ламарком и Дарвином <...> глубочайшую истину, которая помогает нам понять самих себя больше, чем любая философия, понять эволюцию всего живого» (с. 111). И эта идея, по Ритцену, на закате жизни овладевает Чеховым «почти до навязчивости и вплетается в большинство его произведений».
Эссе Квентина Ритцена получило положительный отклик в рецензии Жильбера Сиго в газете «Preuves» (1962. № 134. С. 86—88) и вызвало резкую критику Клода-Мишеля Клюни в «Lettres Françaises» (1962. № 1229).
В числе медицинских исследований, написанных в последнее десятилетие, — диссертации молодых авторов. Так же как и их предшественники Анри Бернар Дюкло и Квентин Ритцен — они восхищаются Чеховым-медиком, его гуманизмом, и видят в нем пример, достойный подражания.
Медицинская диссертация «Больные и врачи в творчестве Антона Чехова», опубликованная в 1963 г. доктором Мари-Клод Шабра в Тулузе23, — исследование, которое до сих пор остается несправедливо забытым.
Размышляя о сложности взаимоотношений между литературой и медициной, об «очарованности» Чеховым его современников и следующих поколений, доктор Шабра задавалась вопросом, не проистекают ли его необыкновенные качества «дар сурового и объективного аналитика, потрясающая интуиция в понимании людей, — из его медицинского опыта». Опыта, который представляется ей «наиболее значительным для писателя, и верно, что медицинская профессия — одна из тех, которые более всего овладевают человеком, создают его, меняют психологически и социально».
Прочтя все, что было опубликовано из произведений Чехова и о нем на французском языке до 1962 г., доктор Шабра заметила, что не существует исследования, посвященного «основному источнику чеховского искусства, которое одновременно объясняет и обусловливает его — его опыту медика»; также не оказалось и работы, посвященной другой стороне этого опыта: во всем его творчестве присутствуют медики и больные» (с. 10).
Задача доктора Шабра — показать, что сила и значительность творчества Чехова восходят к его личному, человеческому опыту.
Первое, что вполне очевидно для нее: прежде чем решить посвятить себя медицине, «Чехов уже обладает всеми качествами врача». Мельчайшие подробности его жизни убеждают ее в том, что он «прежде всего» и «в основном» врач.
Первая часть первой главы («Медицинский опыт Чехова») не содержит в себе нового материала — в ней есть даже неточности. Но здесь интересны ее строки о путешествии Чехова на Сахалин как об эпизоде, сыгравшем в его жизни такую огромную роль потому, что и здесь он прежде всего был медик, рассказывающий об увиденном на Сахалине беспристрастно, с чувством меры, с профессиональностью научного обозревателя, которым он был <...> Этот репортаж, — продолжает она, — тем более потрясает, что не содержит никакой жалостливой или сентиментальной ноты: он написан с сухостью и сдержанностью судебного протокола» (с. 20).
Вторую главу («Болезнь Антона Чехова») доктор Шабра посвящает медицинскому опыту, пережитому самим Чеховым. «Мы не сможем досконально проанализировать, — замечает она, — привнесение этого опыта в творчество, не учитывая другой аспект: то, что Чехов сам страдал как больной». Недостаток сна в детстве, перитонит, последовавшая за этим кишечная недостаточность, антисанитария первых московских квартир, первое кровохарканье, расстройство пищеварения, которое усугубляло легочное заболевание, и т. д. Так же скрупулезно доктор Шабра отмечает все изменения характера Чехова, возникавшие с течением болезни: различные проявления астении, нервное состояние — предвестник нового ухудшения здоровья, «жажду жизни» и «разочарование» туберкулезного больного (с. 31).
В главе третьей («Больные в творчестве Чехова») доктор Шабра указывает на существенность того факта, что «в произведении, где действует масса персонажей, значительное место уделяется больным и болезням». Вместе с тем, она отвергает чрезмерные сообщения Осипа Лурье, который во всех без исключения героях Чехова склонен видеть неврастеников, больных и сумасшедших.
Доктор Шабра не стремится составить перечень болезненных натур и симптомов, порождаемых наследственностью, но она безусловно в состоянии написать «историю болезни каждого персонажа», что считал возможным и доктор Дюкло. Более важным ей представляется анализ некоторых из этих полных клинических описаний болезни у чеховских героев, подлинность которых тем более поразительна, что они сделаны с помощью коротких и смелых заметок (с. 39).
Доктор Шабра полностью соглашается с доктором Дюкло и ссылается на его труд «Антон Чехов, врач и писатель». Чехов, утверждал Дюкло, описывает своих героев как врач — но отмечает лишь отдельные симптомы, необходимые для диагноза, — и как писатель: «стараясь изгнать из своих произведений всякую дидактику, избегает приводить диагнозы болезни и чаще всего заменяет медицинскую терминологию выражениями, почерпнутыми из бытовой речи» (см. ЛН, т. 68, 719).
Однако для читателя-медика, — замечает она, — очень просто выявить этот диагноз, даже если Чехов не дает подробной информации. Например, в «Степи» Чехов просто замечает, что у Васи был отекший подбородок, т. к. он работал на спичечной фабрике — и врачу ясно, что Вася страдает от «омертвения челюсти из-за белого фосфора». Читателю-медику также очевидно, что повествование в рассказе «Архиерей» разворачивается как раз во время последней недели тифозной горячки, от которой умирает преосвященный Петр.
Однако эта легкость определения диагноза, поставленного Чеховым, не является для доктора Шабра самым существенным. «Существенно», по ее мнению, то, что, когда Чехов описывает больного, его больше всего интересует правда переживаний человека, его страх и великое удивление перед смертью, «постоянное внутреннее беспокойство, усиленное близостью смерти (с. 41). Наиболее часто Чехов описывает туберкулез. В рассказе «Невеста», в состоянии Саши, пишет доктор Шабра, с «душераздирающей ясностью» видны признаки болезни самого Чехова.
Менее удачными ей представляются описания других болезней — а именно психических заболеваний. Она согласна с доктором Дюкло, который находит, что описание душевной болезни Громова или героя «Черного монаха» «слишком романтично». Однако ей представляется правдивым изображение нервной депрессии у Иванова. «Здесь, — замечает она, — Чехов доказывает и «медицинское» и «поэтическое» чувство реальности».
В главе четвертой («Врачи в творчестве Чехова») доктор Шабра пишет, что Чехов «провел свою жизнь медика, наблюдая за людьми». Его творчество представляется доктору Шабра «гигантской фреской — то жестоко трезвой, то печально нежной — русского общества». Он описывает здесь весь народ с его тоской, слабостями, тщеславием, невзгодами — простых людей и известных артистов, интеллигентов, но особое внимание, как она считает, писатель уделяет медикам. Для чего же он это делает? Разумеется, не для того, чтобы рассказать о себе, но потому, что в современном ему обществе медики заняли место священников. В обществе, «близком к гибели», — а именно в таком положении находилось русское общество конца XIX в. — врачи стали «волшебниками, к которым люди обращались с вопросами». «Эти свидетели русской жизни — конкретной, разнообразной, — такой, какой Чехов нам ее представил, — открывают нам те ее аспекты, с которыми они имели преимущество находиться в тесном контакте» (с. 51).
Доктор Шабра анализирует некоторые образы врачей, нисколько не идеализированных Чеховым: это Дымов, Самойленко, Дорн, Чебутыкин, Трилецкий, Устинович, Львов, и конечно, Астров, «одна из самых привлекательных фигур в творчестве Чехова». Из отсутствующих в этой работе мы бы назвали Ионыча.
В этих персонажах ее поражают два момента. Первый — что среди них нет ни одного, к которому автор «не был бы втайне привязан». И это касается даже наименее симпатичных героев-врачей. Второй — что Чехов часто доверяет врачам выражение собственных мыслей: «Если есть падший или заблудший, то всегда на долю врача выпадает миссия спасти его, или вынести заключение, или расставить все по своим местам своим здравым и справедливым суждением о ситуациях и участниках» (с. 60).
В главе пятой («Медик и социальная проблема — свидетельство Чехова о современном ему обществе») доктор Шабра обнаруживает свою осведомленность в вопросах санитарного состояния российских заводов и фабрик конца прошлого века и уделяет особое внимание эпизодам в произведениях Чехова, которые характеризуют условия и гигиену труда того времени.
Доктор Шабра считает, что на тревожный вопрос «Что делать?», который ставят все персонажи Чехова, врачи отвечают, рисуя «достаточно отчетливую картину социального состояния России конца XIX в. <...> а это не что иное, как свидетельство самого Чехова об обществе своей эпохи» (с. 70). Это свидетельство очень ценно для нее, т. к. «в уста этих врачей, вынужденных благодаря своей профессии проникать во все слои общества, Чехов вкладывает не суждения — он никогда не выступает в качестве мыслителя, а трезвые констатации, поразительное понимание неизлечимой болезни, от которой умрет это общество». Доктор Шабра анализирует торжество косности и бюрократизма в больницах, заклейменное Чеховым в «Палате № 6», моральное и физическое убожество крестьян в «Моей жизни», приводит примеры убогости, невежества», «футлярности» в рассказах «В родном углу», «Человек в футляре» и т. д.
Доктор Шабра считает, что «позиция врача, привыкшего в человеке искать больного», лежит в основе «скрытого» пессимизма Чехова (с. 81). Но именно врачу, выявившему зло, предстоит сказать больному «слова надежды», — таков и Чехов, открывающий в своем творчестве «перспективы общественного преобразования», о которых можно догадываться, когда он говорит об этом в подтексте рассказов или более открыто — в самом тексте (с. 82).
Последнюю главу своей работы доктор Шабра озаглавила «Медицинский опыт Чехова и его гуманизм». Она отказывается видеть в Чехове скептика и считает его мудрецом, чья «мудрость раскрывается только после прочтения всех его произведений» (с. 88).
Доктор Шабра вовсе не стремится «извлекать философию из творчества Чехова». Это было бы чрезмерно, по ее мнению. Но, как и Квентин Ритцен, она считает, что из размышлений о «бытии человеческом» встает «поистине биологическое видение мира» (выражение заимствовано у Э. Литтре).
Чехов, несомненно, «верит в науку, но этой вере, — замечает доктор Шабра, — сопутствует более широкое, более сбалансированное видение мира, которое стремится показать нам всю суетность нашего поспешного желания все классифицировать, ко всему приклеивать ярлыки» (с. 91). Ежедневное соприкосновение с тайной жизни и смерти не может не привести медика к поискам конечной цели, — пишет она. «Если в самой природе человека заложено беспокойство, если судьба его — в бесконечной постановке вопросов самому себе, то Чехов дошел до крайней точки этого беспокойства как врач, который исследует всего человека» (с. 93).
Чехову как врачу и художнику свойственна, пишет в заключение доктор Шабра, «отчаянная вера в возможности человека, явившаяся результатом его контактов с больными, и глубинное значение человеческой общности», которые придают его творчеству такую пленительность» (с. 101).
Если, по мнению доктора Шабра, Чехов сумел устоять против соблазна идеи абсурдности человеческого бытия, то доктор Полетт Шэне в своих работах начинает с иных рассуждений. В первой из двух статей, напечатанных в «L'Histoire de la Médecine» в 1967 г. под заголовком «Антон Чехов, или лекарь поневоле»24, она, повторив известные слова Чехова в передаче Горького («Жить, для того, чтобы умереть, вообще не забавно, но жить, зная, что умрешь преждевременно, — уж совсем глупо»25) и вспомнив в связи с этим суждения Камю об абсурдности человеческого существования, пишет: «Чехов <...> сознавал абсурдность человеческого удела, ибо он был одновременно больным и «лекарем поневоле» и играл две эти изнуряющие роли одновременно, будучи действующим лицом и зрителем собственной болезни до самого ее патетического финала: трупа в вагоне для перевозки устриц, трупа поэта». Видимо, чтобы соответствовать требованиям многотиражного периодического издания «L'Histoire de la Médecine» и заинтересовать читателя, доктор Шэне различным периодам жизни Чехова дает образные названия: I. Патетическая симфония (адажио: Таганрог, аллегро: Москва). II. Эскулап и Музы. Ш. «Ника Самофракийская». IV. Эроика. V. Последние ноктюрны Чехова.
Преимущественно в таком же стиле доктор Шэне дает медицинское толкование некоторым знаменитым чеховским афоризмам.
«Быть жертвой, «униженным и оскорбленным», — пишет она, — вот адажио патетической симфонии <...> С 1860 по 1879 г. Антон был всего лишь рабом, покорным отцовскому игу <...> Первый акт «трагедии быта и посредственности» обнажает абсурдный и бесчеловечный мир <...> Чехов никогда не забудет эту картину жизни — нестерпимое таганрогское рабство». В этом юноше не было ничего «бунтарского»: «живя в дантовском аду и пытаясь освободиться и преобразить действительность, он отвечает ему всего-навсего смехом».
«Каков его талант? — задается вопросом доктор Шэне. — Почему Антон выбрал медицинское образование? Почему он бесконечно продолжает этот длинный диалог со страданием?» Чехов, по ее мнению, обладает «единственным истинным талантом, который влечет к медицинскому призванию. Как и его персонажу Васильеву из рассказа «Припадок», Чехову дарован особый талант — «человеческий». Он обладает поразительной, всепроникающей интуицией во всем, что касается страданий» (с. 4—5).
С 1879 по 1884 г. («московское аллегро») «Чехов вновь совершил длительное паломничество в медицинское искусство <...> На смену таганрогской школе страданий приходит московская школа воли».
Кем станет Чехов в конце этого периода? «Прежде всего — и поневоле — «лекарем», т. е. человеком, который обладает властью избавлять от страданий, и возможно, исцелять». Но Чехов уже и больной — у него началось кровохарканье. «Одна эта деталь — явный признак болезни — имеет громадное значение в его судьбе. Очевидно, что жизнь приобретает для Чехова двойной медицинский смысл <...> Испытание болезнью, последовавшее за испытанием нищетой и страданиями, — вот главнейший ключ к творчеству и личности Чехова» (с. 6), по мнению доктора Шэне. «...Как будет реагировать Чехов на этот удар судьбы? Опять — никакого возмущения, а только достойная восхищения сила воли, направленная на преодоление судьбы: Чехов просто-напросто будет совершенно сознательно игнорировать свою болезнь в течение тринадцати лет и жить, будто у него нет чахотки... вплоть до 1897 г., когда он вынужден будет отказаться от всякой медицинской деятельности.
Доктор Шэне вспоминает в связи с этим, что туберкулез в 1884 г. был еще социальным бичом. Чахоточный был тогда «изгнанником, обреченным, бесприютным. «Одинокому везде пустыня»26 — этот чеховский афоризм мог возникнуть только у больного туберкулезом», — пишет она.
Анализируя чеховское творчество, доктор Шэне замечает, что его рассказы изобиловали «оригинальными клиническими наблюдениями». Почему Чехов избрал жанр рассказа? Потому что, считает она, «рассказ — предельно медицинская форма. Все — от клинического наблюдения <...> до реализма — такого, как его понимал Флобер, — «нейтрального и суггестивного представления реальности» — написано одним и тем же человеком, «писателем — лекарем поневоле»» (с. 7).
Хотя «Остров Сахалин» тогда еще не был переведен на французский (см. с. 7 наст. кн.), доктор Шэне указывает своим читателям на важность этой «научной и демографической работы» Чехова. Решением поехать на Сахалин «Чехов довел до предела свои поиски познания действительности и человека, продемонстрировав неприятие всяческого деспотизма, любовь к свободному непорабощенному человеку. Этот репортаж о пережитом — свидетельство интеллектуальной честности Чехова, который не был ангажированным писателем, он ангажирован только по отношению к самому себе: и на Сахалин его привело обостренное чувство человеческого достоинства» (с. 26).
О деятельности Чехова во время эпидемии холеры доктор Шэне пишет: «Медицинское искусство не удовлетворяло его полностью, потому что у него была чувствительная душа, а человеческие боли и страдания задевали его за живое, ибо он сам слишком много страдал. Вот почему его поле зрения гораздо шире медицинского горизонта, ограниченного как и всякое специальное знание».
В пьесах особое внимание доктора Шэне, в соответствии с задачей ее исследования, привлекает фигура Астрова «с его явной противоречивостью». «Как и Чехов, доктор Астров <...> идет один навстречу своей судьбе, только у него меньше иллюзий или больше опыта. Он будет и дальше продолжать свою роль врача поневоле».
И, наконец, доктор Шэне видит в «Архиерее» «литературное завещание Чехова, его заключительную исповедь» — «перед уходом из театра своей жизни с бессмертным «Вишневым садом»» — «и последний акт в Баденвейлере он сыграет, чтобы обрести, наконец, вечное бытие».
«...Каждый, кто читает Чехова через шестьдесят лет после его смерти, испытывает то же желание быть, наконец, самим собой. Чехов остается «лекарем поневоле» — каким он был всю свою недолгую жизнь. Ему удалось показать нам наши побуждения, открыть нам глаза на мнимые ценности, мнимую любовь, мнимый ум, наше комическое рабство, одним словом, — на нашу шутовскую манеру жить, на наше существование — жертвы или бессознательного палача <...> Он дошел в своей смелости до того, чтобы представить нас обнаженными, без грима и масок. Он открыл нам книгу мира: природы и человека. Уничтожив наше стремление бежать от ужасов действительности, он смягчил удар. Он замаскировал трагедию комедией, буффонадой, юмором, музыкой, поэзией...»
Начав статью с рассуждений об абсурдности человеческой судьбы, к которой должны были привести, по ее мнению, обстоятельства жизни Чехова, доктор Шэне заключает ее словами чеховского героя о том, что «назначение человека или ни в чем, или только в одном — в самоотверженной любви к ближнему» («Рассказ неизвестного человека»). «Вот кредо Чехова, пишет она, — и он придерживается его во всем творчестве <...> ему надо было добровольно забыть, кто он и как он страдает, для того чтобы одарить нас этой симпатией, этой всеобъемлющей совестью» (с. 11).
Диссертация доктора Пумайу «Антон Чехов, доктор медицины» (1974)27 ставит своей задачей показать в Чехове врача и одновременно активного участника общественной жизни России XIX в.
Для французского читателя наиболее ценная часть работы — начало, где автор дает картину организации санитарного дела в России конца века и экономических причин, обусловивших престижность профессии врача.
Кратко охарактеризовав место русской медицинской науки в современном европейском контексте, доктор Пумайу останавливается на Петербургской школе медицины, во главе которой стоял С.П. Боткин. Несколько упрощая, автор противопоставляет ей московскую школу во главе с Г.А. Захарьиным, который «высмеивал научные взгляды Боткина, считая их оскорбительными для гиппократовской медицины» (с. 6). По ее мнению, «осмотрительность Чехова-терапевта, не раз проявленная им», если судить по письмам, объясняется традиционализмом московской школы.
Мы можем быть признательны доктору Пумайу за то, что она впервые во Франции попыталась поставить вопрос о научном образовании Чехова, но, к сожалению, в ее работе есть и ошибки. Так, она относит знакомство Чехова с Дарвином только к 1886 г. Жаль также, что в отличие от доктора Шабра, она не пытается связать медицинские познания Чехова с его художественным методом. Ссылаясь на десять рассказов Чехова разных лет, она лишь пишет общие слова о стремлении писателя к истине и объективности (Чехов «использует в своих произведениях плоды своего медицинского опыта», «он первый открыл этот источник вдохновения литературного труда» (с. 21).
Доктор Пумайу устанавливает три аспекта биографии Чехова, проявившиеся к 1885 г.: медицина, литература, чахотка. «В течение последующих двадцати лет он будет служить сначала одному, потом другому, пока не станет жертвой третьего» (с. 12). Так как ее почти не интересует Чехов-писатель, то анализ духовной эволюции Чехова в диссертации грешит поверхностностью. Детальное изложение чеховского «служения медицине» не компенсирует этого пробела. Чехов представлен человеком, «колеблющимся всю свою жизнь между медицинской и литературной карьерой», или «увязающим» в «трилогии»: медицина, литература, болезнь. Принимая за чистую монету чеховские шутки насчет «законной жены», доктор Пумайу не устает повторять, что медицина «была скучна» Чехову и «разочаровала его», и «только острое чувство долга заставляло его продолжать ежедневную практику» (с. 74).
Следуя основной идее работы, как ее представляет автор, читатель вправе ожидать серьезного разговора о путешествии Чехова на Сахалин. Но доктор Пумайу ограничивается лишь перечислением внешних причин этого путешествия.
Заглавие «Чехов — антипсихиатр? (Литература и психиатрия в России в XIX в.)», которое дает своей диссертации, защищенной в 1977 г. доктор Мартин Франкфорт28, может в первую минуту вызвать недоумение. Но это серьезная, аргументированная работа. Цель диссертации доказать, что писатель Антон Чехов «мог бы стать блестящим психиатром».
Для подтверждения этой идеи доктор Франкфорт обращается к основным идеям английской школы «антипсихиатрии», возникшей в 1960-е годы.
Во вступлении доктор Франкфорт указывает, что приставка «анти» — в слове «антипсихиатрия» вовсе не означает буквального отрицания необходимости психиатрии как области медицины. Эта приставка свидетельствует лишь о том, что приверженцы антипсихиатрии отрицают подход классической психиатрии к душевнобольным.
Желая «установить с человеком истинные и глубокие взаимоотношения», — пишет она, английские специалисты антипсихиатрии доктора Д. Лэнг и Д. Купер, «стремились завязать с сумасшедшим человеческий контакт, который позволил бы ему выговориться, а им — найти смысл в его бреду». Этот новый подход к душевнобольным привел их к ряду открытий, позволивших несколько раздвинуть традиционные границы между нормальным и патологическим состоянием человека.
Не пытаясь, разумеется, делать из Чехова предшественника английской антипсихиатрии, она пишет только, что «своей исключительной проницательностью он очень верно почувствовал в душевной болезни человека то, что впоследствии современные медики возвели в теорию.
Главу «медицина и психиатрия в России XIX в.» (с. 23—41) автор диссертации открывает характеристикой XIX в. — как поворотного момента истории европейской медицины: «Это век истины, век расцвета клинической и анатомо-клинической медицины, эпоха, отмеченная постоянным стремлением к объективности, точности и жаждой классификации... Психиатрия не избежала этого позитивистского течения».
Цитируемые в работе доктора Франкфорт диссертации по медицине: Ивана Чеболдаева — «Французское влияние на развитие медицинской науки в России» (Париж, 1898) и Ж. Лорис-Меликова — «Организация больниц и больничных бараков в Санкт-Петербурге» (Париж, 1888) и особенно книга Ш. Вийона и А. Марие «Душевнобольные в России» (Париж, 1899) — дают возможность доктору Франкфорт прийти к выводу об ужасающих условиях, в которых содержались в России дома для умалишенных. При этом она отмечает и попытки общих реформ и деятельность отдельных энтузиастов для улучшения обстановки в больницах (например, С.С. Корсакова).
В России в эпоху Чехова, утверждает доктор Франкфорт, «безумие считалось патологическим состоянием личности, как правило, неизлечимым и требующим изоляции», «психиатрам той эпохи и в голову не приходит разобраться в том, что происходит в душе больного», пишет она.
И в этом «столь неблагоприятном контексте» Чехов высказывает «новаторские» мысли о безумии, которые могли возникнуть только «в очень оригинальном сознании — гибком, свободном от окружавших его систем мышления» (с. 42).
Вторая глава (с. 42—130) открывается характеристикой личности Чехова, полной изящества и деликатности. Чеховское глубочайшее понимание человеческой души она связывает с его интересом к психиатрии и «искривлениям души».
Указав на ряд драматических фактов чеховской биографии, непонимание его критикой, она утверждает, что «он пережил нервную депрессию задолго до того, как описал ее». Она не понимает, как такого чувствительного человека можно было обвинить в индифферентности, и выражает надежду, что ей удастся оставить «в сознании читателя живой образ этого человека, страстно влюбленного в жизнь, отвечавшего всегда на нелепость смерти любовью к человеку и к творчеству, боровшегося против лжи, вульгарности, жестокости» (с. 129).
Человек, одаренный душевной щедростью, Чехов прекрасно чувствовал других людей, и это качество, сделавшее его великим писателем, могло бы, считает доктор Франкфорт, «сделать его и блестящим психиатром».
Эту мысль доктор Франкфорт развивает и далее, разбирая эстетические взгляды Чехова и цитируя при этом письма его (с. 131—161). В связи с письмом к Суворину 1 апреля 1890 г. она замечает, что стремление Чехова, как повествователя, в какой-то мере «отождествлять себя со своими персонажами, или по крайней мере ощущать их в непосредственной близости <...> свойственно каждому хорошему психиатру» (с. 134). Чеховские слова о том, что он «полагается на читателя», который добавит недостающие в рассказе элементы, позволяют ей интерпретировать — с профессиональной точки зрения — произведения Чехова как работы писателя-психиатра. Эти слова она сопоставляет со словами Сартра о роли писателя и о его отношении с читателем в статье «Что такое литература?», опубликованной в феврале 1947 г. в журнале «Tel Quel».
Мысли Чехова об объективности, высказанные в письме к М.В. Киселевой 14 января 1887 г. она также соотносит с требованием Сартра о том, чтобы художник излагал абсолютную правду... во всей ее полноте, не проходя мимо «злоупотреблений», которые должны быть уничтожены.
В своей попытке установить в Чехове сходство между «художником жизни» и психиатром, она опирается на мысли З. Фрейда в его книге «Галлюцинации и сны в «Градиве» Иенсена» (1907). Фрейд считает, что художник и ученый каждый своим способом приходят к сходному результату.
Тезис о том, что творчество Чехова близко к «антипсихиатрическому» направлению, доктор Франкфорт подкрепляет конкретными примерами. Она вспоминает пример проницательности Чехова, увидевшего в счастливом приятеле Станиславского кандидата в самоубийцы29. Чехов-художник, утверждает доктор Франкфорт, не удовлетворяется описанием поведения героя, а показывает это поведение как следствие его намерений. Она подтверждает эту мысль примерами из рассказов «Огни» (где инженер Ананьев по характеру надписей на беседке, сделанных путниками, судит об их характере) и «Нервы», где архитектор, жертва спиритического сеанса, представлен человеком абсолютно здоровым и здравомыслящим.
Доктор Франкфорт обращает также внимание на рассказы, в которых Чехов предается «поразительно тонкой критике русского общества» (с. 200) — от «Унтера Пришибеева» до «Человека в футляре» и «Крыжовника».
В «Человеке в футляре» доктора Франкфорт более всего поражает «понимание Чеховым патологического поведения Беликова». Анализ беликовской защиты от действительности, считает она, «если не антипсихиатричен по сути своей, то бесспорно, «психиатричен» в широком современном значении этого слова: Чехов придает смысл явной бессмыслице» (с. 203). Беликов, по ее мнению, воплощает то, что доктор Лэнг называл в своем анализе феноменом деперсонализации. И раз Беликов, — продолжает доктор Франкфорт, — человек «сотворенный запретом», его смерть ничего не меняет, как говорит его коллега. И не Беликов или циркуляры мешают жить городу, как он хочет, но каждый житель сам по существу мешает себе жить, потому что принимает норму общества «молчаливо установленную, молчаливо всеми признаваемую» (с. 207—208).
Доктор Франкфорт сопоставляет жизнь Беликова с развитием индивидуума, описанным в «Психиатрии и антипсихиатрии» Д. Купера. Купер использует образ английской народной песенки «Little boxes on the hillside»*, чтобы доказать, что над жизнью человека властвует «коробочка». У доктора Купера и автора «Человека в футляре», замечает доктор Франкфорт, — общая «идея, что наши жизни заключены в коробочку от колыбели до могилы». У Чехова, влюбленного в свободу, было смутное чувство, что для него и его современников жизнь есть «коробочка» (с. 209). Слова Ивана Ивановича в конце рассказа «Крыжовник» об общем гипнозе, который держит общество в молчании, и что протестует только немая статистика («...столько-то с ума сошло...»), напоминают доктору Франкфорт слова Купера о «неуловимом, почти бессознательном соглашении между родственниками, обществом, лечащим врачом и психиатром считать душевнобольного действительно лишенным разума и применять по отношению к нему насильственные меры: отрицать в нем личность, во имя Добра и Любви». Это признание человека негодным есть, по Куперу, «скрытое насилие, отрицаемое даже теми, кто ему подвергается» (с. 191).
По мнению доктора Франкфорт, в книге Купера и в рассказе Чехова понятия: «козлы отпущения» («Палата № 6») и «такой порядок, очевидно, нужен» («Крыжовник») — одинаково характеризуют несчастье сумасшедших.
Доктор Франкфорт отмечает отрицание Чеховым методов традиционной психиатрии в рассказах «Припадок» и «Палата № 6».
В том, что Васильев видит в женщинах из публичного дома настоящих людей, Франкфорт замечает сходство с отношением современных «антипсихиатров» к душевнобольным (с. 216). «Такого точного описания не содержится ни в одном учебнике по психиатрии» (с. 221).
Описание в рассказе визита к психиатру представляется доктору Франкфорт «обвинением классической психиатрии и в особенности — позиции отстранения врача, делающего вид, что он понимает отчаяние больного, хотя на самом деле он сам не пережил ничего подобного» (с. 223—224).
Обращая внимание на иронию в этом описании, доктор Франкфорт считает, что «Чехов разоблачает бесполезность и полицейский характер казуалистического допроса, который психиатр учиняет Васильеву». «Вопрос о понятии безумия и отрицание традиционной психиатрии достигает апогея, — замечает автор, — в «Палате № 6», которую Чехов мог написать только посетив психиатрические лечебницы.
Доктор Франкфорт убеждает читателя, что чеховское описание палаты № 6 соответствует информации, которая содержится в работах Ж. Лорис-Меликова, Ч. Валлона и А. Мари.
«Что может быть более антипсихиатричным, — замечает она, — чем симпатия повествователя к Громову, признание того, что он болен, но в то же время, что это личность, достойная любви» (с. 229).
В описании истории болезни Громова Чехов далек, пишет она, от наследственных и вырожденческих теорий, популярных в его эпоху, и близок к будущей антипсихиатрической концепции болезни (с. 230). Повествователь видит в Громове и душевнобольного и человека — так же воспринимает себя и сам Громов. Этот безумец, страстно влюбленный в жизнь, восстает — в терминах, достойных антипсихиатрии — против невежественных врачей, не умеющих отличить сумасшедших, разгуливающих на свободе, от здоровых людей. Точно так же и доктор Рагин начинает понимать Громова и завязывает с ним отношения, столь дорогие антипсихиатрам.
Такое поведение, вызывающее для того времени, не могло не показаться «странным» окружению Рагина и особенно доктору Хоботову, пожелавшему занять его место.
Доктор Франкфорт замечает по этому поводу, что отношение Хоботова к больным типично для тогдашнего состояния психиатрии.
Исследуя эволюцию личности доктора Рагина, автор видит у него признаки «скрытого депрессивного состояния». Ухудшение этого состояния объясняет его бегство от реальности, ощущение, что он «пойман в ловушку», попал в «заколдованный круг».
Доктор Франкфорт замечает: «Чехов знает, что болезнь, недомогание, тревога и депрессия могут сосуществовать со здравыми рассуждениями, и эти симптомы требуют понимания, а не изоляции человека» (с. 248). Доктор Рагин не был «понят». Картина медицинского освидетельствования Рагина изображена карикатурно.
Доктор Франкфорт также уверена, что «доктора Рагина отчасти калечит сочувствие его друзей». Чехов блистательно описывает это «бессознательное постепенное калечение человека» во имя любви к нему.
Исследование «Палаты № 6» доктор Франкфорт заканчивает опровержением разбора «Палаты № 6» доктором Анри Бернаром Дюкло. Доктор Дюкло в своей диссертации о Чехове — писателе и медике, опубликованной еще в 1927 г. (см. ЛН, с. 68, с. 718—719), сожалеет об отсутствии в этой повести «медицинского чувства реальности, присущего Чехову в других его произведениях». По мнению Франкфорт, этот негативный комментарий Дюкло «очень показателен для классификаторского мышления, царившего в психиатрии той эпохи». Ей представляется, что новаторские мысли Чехова о душевных болезнях шли вразрез с теориями русской психиатрии того времени (с. 261).
3
Зарождавшемуся увлечению Чехова театром посвящена статья Нины Гурфинкель «Чехов, хроникер театральной жизни» в юбилейном сборнике 1960 г., изданном Экманом (с. 39—58). Автор рассматривает главным образом рассказы, фельетоны, рецензии, появившиеся в малой периодике между 1881 и 1886 гг., и в отдельных случаях обращается к переписке тех лет.
«Как бы ни была надумана фабула, — говорит Нина Гурфинкель, — как бы ничтожен ни был анекдот и грубы нити, за которые дергает автор, характеры и описание среды почти не утрированы. Эти бурлескные рассказы передают удручающую картину жизни актеров в 70—80-е годы, такую, как она воспроизведена, например, в печально правдивых мемуарах Медведева или Давыдова (с. 46) <...> Тем не менее уже в первых своих рассказах Чехов открывает также и другую сторону театра — где иллюзия полна правды и поэзии <...> где за лживым звучанием красивых фраз порой таится подлинная страсть. Это относится, например, к такому шедевру, как «Калхас» (который впоследствии станет «лебединой песнью»)» (с. 49).
«Точно так же и мирок кулис со всеми его униженными и в то же время надменными, тщеславными и голодными персонажами <...> пылко влюбленными в грезу и готовыми на любые жертвы, нашел в Чехове непревзойденного хроникера, все понимающего и братски любящего» (с. 51).
В заключение Нина Гурфинкель останавливается на «Чайке» как «драматургическом манифесте Чехова» (с. 58).
В 1966 г. Нина Гурфинкель возвращается к основным положениям этого исследования в заметке «Чехов и театр» (в ее кн.: «Антон Чехов», изд. Seghers библиотечка «Театр всех эпох», № 4). Это солидное научно-популярное издание остается до сих пор хорошим учебным пособием для знакомства французов с основными темами чеховских произведений и их месте в общем контексте его творчества. К заметке «Чехов и театр» прилагаются чеховские тексты, документальные иллюстрации, хронологические таблицы, указатель произведений и библиография.
Нина Гурфинкель представляет здесь Чехова читателям как «автора, который лучше, чем кто-либо другой выразил трудности жизни». Она задается вопросом, почему живой интерес к Чехову во Франции не угасал на протяжении более чем сорока лет и сохраняется, по всем признакам, и сегодня. Откуда такое постоянство в эпоху, когда ведущее место в драматургии занял театр абсурда с его бесчеловечностью и жестокостью?
«Причина в том, что Чехов задевает те сердечные струны, которые сегодня принято считать износившимися, но которые под его легкими пальцами издают давний, все еще живой зук мягкого юмора, грусти, безрассудной, но неугасимой надежды. Имя Чехова связано с представлением о человечности: возьмите хотя бы ставшее общепринятым употребление прилагательного «чеховский»: оно является синонимом подлинного чувства» (с. 6).
В заключение Нина Гурфинкель дает объяснение тому факту, что Чехов «остается самым исполняемым и любимым иностранным писателем во Франции, как, впрочем, и в других странах Запада <...> Запад познакомился с ним в период, когда его собственная драматургия была на переломе. Предтеча, Чехов, которому Горький писал: «Вы убиваете реализм», сделал это задолго до того, как подобное случилось у нас. Он «убил» его, превзойдя возможности психологического реализма, достигнув с помощью своих персонажей и полной намеков атмосферы, в которую они погружены, высокого уровня насыщенной музыкальной духовности, вызывающей множество откликов и ассоциаций. Пусть даже его герои воспроизводят типические фигуры определенного периода русской истории. Чехов сообщил им трепет вечно человеческого и сделал это в современной форме» (с. 113).
Примерно в те же годы критик Жак Нельс высказывает сходное мнение в статье «Театр Антона Чехова», опубликованной в апреле 1965 г. в журнале «Les Annales» (Conférencia), № 174. «Чехов господствует в нашем театре и обязан он этим человеческой правде своих персонажей, — пишет Жак Нельс. — В его героях, как и у всякого великого драматурга, всякого великого романиста, — наши собственные метания, наши надежды, наши страдания, наши радости.
Чехов говорит нам о постоянных чертах истории по большей части серьезным тоном, зачастую остроумно и не без лукавства, ибо он умеет подметить в жизни и драматическое и смешное» (с. 50).
Для Эжена Ионеско величие Чехова всеобъемлюще. Имя Чехова совершенно естественно встает в его работах рядом с именами гигантов мировой литературы. Так, в «Заметках и анти-заметках», где собраны его статьи и выступления с 1951 г.30, об искусстве Чехова-драматурга говорится в трех работах 1958 г.
В «Опыте театра» Эжен Ионеско пытается сформулировать, что делает драматурга великим. Он констатирует, что основа этого величия — не формальное совершенство художника, а качество «непосредственного охвата им действительности», следовательно, его «подлинная» философия <...> — философия, которая есть сама жизнь, а не абстрактная мысль, что и позволяет «живым философиям, т. е. художественным произведениям», никогда не «наносить ущерба друг другу» и обеспечивает им возможность сосуществования. «Великие шедевры, великие поэты как бы оправдывают, дополняют, поддерживают друг друга. Кальдерон не аннулирует Эсхила, Чехов — Шекспира, Клейст — японский театр «Но». Одна научная теория может аннулировать другую научную теорию, но истины художественных произведений только подкрепляют друг друга. Очевидно, искусство как таковое оправдывает возможность философского (метафизического) либерализма» (с. 72).
Проанализировав «Конец игры» Беккета в эссе «Опять об авангарде» и сделав вывод, что «возможно, как это ни парадоксально, история склеротизируется, а не-история существует вечно», Ионеско берет в пример Чехова: «Чехов, — пишет он, — показывает нам на сцене людей, которые гибнут вместе с соответствующим обществом; одряхление во времени, утекающем и изнашивающем, людей определенной эпохи; то же самое сделал Пруст в своих романах и Гюстав Флобер в «Воспитании чувств», у которого, однако, на заднем плане за персонажами вырисовывалось общество не периода упадка, а периода подъема. Так что главная тема — истина — этих произведений не крушение, не распад или износ определенной формы общества, а износ человека во времени, его гибель, показанная в конкретных исторических обстоятельствах, но неизбежная в любых: всех нас убивает время» (с. 97).
В «Свидетельствах» — в заметке «Когда я пишу» — Ионеско заявляет, что мир предстает ему только в образах угасания и жестокости, тщеты и гнева, небытия и гнусной, бессмысленной ненависти» (с. 220) — в таких образах, которые вынесены им из детства. Он также констатирует, что «подобное «видение» жизни или смерти, древнее и вечное, является в то же время новым, современным» (с. 221). Он находит у Пруста «ощущение бренности существования, в «Воспитании чувств» Флобера и «Мамаше Кураж» Брехта — «иллюстрацию одряхления человека во времени: (там же). «А разве темой чеховских пьес, — задает он вопрос, — не является также угасание? В «Вишневом саде», как и в «Трех сестрах», я вижу не столько агонию определенного общества, — пишет он — сколько показанную через определенное общество судьбу любого общества и любого человека.
У всех этих писателей, как бы ни отличались изображаемые ситуации, страны, эпохи, как бы ни были противоположны их идеологии, каждая особая ситуация не более чем актуализированный вариант одной единственной ситуации, вариант вечной актуальности в актуальностях меняющихся, подобно тому, как одна и та же мысль, не меняясь, может быть высказана на разных языках» (с. 222, «Ответ на анкету «Lettres Françaises»» апрель 1958).
В статье «Чехов и поколение 1880-х годов», опубликованной в «La nouvelle critique» в июне 1963 г. (№ 146. С. 71—76) Мирей Борис рассматривает проблему времени у Чехова (преимущественно на материале его драматургии) под другим углом зрения.
Мирей Борис замечает, что неоднократно изучавшееся отношение время-музыка у Чехова выступает особенно четко. «Проблема времени, не являясь у него ни объектом игры, ни объектом исследования, оказывается главной проблемой, которая тревожит его персонажей. В произведениях Чехова мы находим не метафизику и не эстетику, а психологию времени» (с. 71).
По мнению Мирей Борис, чеховская музыкальность, опирающаяся на повторы, находится на полпути между русской музыкой и современной Чехову французской музыкой — «Чехов заимствует свой материал у первой, а свою манеру у последней (обращение к литоте, юмор, двусмысленность и т. д.)».
Особенно пристально Мирей Борис изучает «разрыв в каждом мгновении жизни», подчеркивающий, что персонажи Чехова «раздваиваются», они насвистывают, ощущают свое тело, прислушиваются к собственным словам). «В момент, когда они говорят, их внимание обращено на собственные слова, на жизнь, как бы не зависимую от их тела, на окружающее, — все подчеркивает несовпадение их сознания и их существования, тем более что из-за отставания осознания, мгновение проходящее воспринимается как уже прошедшее» (с. 73). «Прошлое овладевает ими, — продолжает Мирей Борис, — их жизнь обычно «пассеизирована» повторами и «уже виденным» <...>
Жесты заторможены бесцельностью и немотивированностью существования. Чехов показывает душевное неблагополучие, возникающее от абстрактного повторения дней и недель жизни, лишенной цели.
Точно в тюрьме или в больнице. Ситуация бесконечно воспроизводит самое себя. Замкнутый круг. Развития нет, бегство невозможно. Время не течет. Оно неизменно день за днем, поэтому для чеховских героев дни тянутся медленно, а годы летят (ибо от них ничего не осталось в памяти).
Их непосредственные суждения о времени всегда негативны. Жизненные перемены сводятся к потерям, старению <...>
Охваченные инерцией, мраком, чеховские персонажи реагируют на это двояко <...> они верят в труд, в прогресс. Однако им кажется, что они «отстали от поезда», что их «обошли», что они упустили время.
Самые богатые из них, особенно женщины, «мстят», путешествуя. Одна из них проводит все свое время в извозчичьей пролетке — мнимое овладение мнимым временем с помощью ложного господства над пространством» (с. 74—75).
Перейдя к анализу «непростого» отношения Чехова и всего поколения «восьмидесятников» к прогрессу, Мирей Борис характеризует его как «ожидание момента, когда накопятся объективные условия, чтобы идеи могли проникнуть в жизнь и индивидуальное время совместилось с историческим, слова с делами, становление с музыкой» (с. 75).
Заканчивает свою статью Мирей Борис рассуждениями об «игре» Чехова с противоречиями, напоминающей ей основные положения книги Гастона Башляра «Поэтика пространства»31. «Он один из тех, кто сумел показать сосуществование в каждом факте двух противоположных начал, вот почему он так легко ускользает от анализа. Его персонажи смеются и плачут одновременно, они смешны и трогательны. Охотнее всего он описывает «бахрому» психологического момента. Он любит двусмысленные пейзажи, светлые тени и темные силуэты. Его виденье пространства — живая игра противоречий <...> Игра открытого и замкнутого быстро превращается в игру явного и открытого, излюбленную игру Чехова <...> Чехов спотыкается на противоречии внешнего и внутреннего, но его спасает другая игра противоречий: он весело одерживает временный реванш над болью и тоскливым страхом, овладевая своим сюжетом и своим Я на время, пока пишет. Поэтому чтение Чехова не повергает в уныние» (с. 77).
Журнал «Situation» посвящает свой весенний номер 1970 г. (№ 23) теме «ожидания и исчезновения» в театре (у Олби, Беккета, Бетти, Дюрас, Изаса, Лорки и Чехова). В качестве составителя номера и автора предисловия выступает Пьер Брюнель, профессор Сорбонны. Ему принадлежит здесь эссе: «Чехов и Маргерит Дюрас, контрапункт времени реального и времени психологического» (с. 41—74).
В предисловии к номеру (с. 6—39) Пьер Брюнель также неоднократно ссылается на Чехова. Он замечает прежде всего, что некоторые современные драматурги решительно выступают против господства слова в театре. Ионеско в «Заметках и анти-заметках»32 бичует, — отмечает он, — Сартра, Осборна или Артура Миллера, считая, что следует не «говорить о чем-то», а «быть выражением чего-то»33. Может ли, однако, это «непосредственное выражение» обойтись без слов, не обедняя себя? — задает справедливый вопрос П. Брюнель. Арто безусловно зашел слишком далеко, — считает он, — когда в «Театре и его двойнике»34 отнес диалог к литературе, поскольку в нем якобы нет ничего специфически сценического. Тонкости языка, досконально исследованные Чеховым, открывают во всяком случае не меньше, чем его паузы» (с. 17). «Антитеатр, который мнил себя чистым театром, рисковал погубить театр, стремясь его спасти, поскольку отнимал у него возможность быть связующим звеном, сплетающим в себе все средства выражения», — высказывает опасение Брюнель.
В связи с пьесой Маргерит Дюрас «Сквер», которая по организации времени напоминает «кусок жизни», нередко ссылались на прецеденты Чехова и Беккета. Это свидетельствует, — утверждает П. Брюнель, — о недооценке поразительного контрапункта двух временных протяженностей у первого и искусства выявить через время распад времени у последнего.
Действительно, для Брюнеля все искусство Чехова — в умении ввести в «адажио», событийного времени интриги — времени изнашивающегося — «просто» времени сценического действия, которое изнашивает людей (с. 27).
В этом «тонком переплетении» играет свою роль «язык вещей». Время в «сценическом пространстве» должно быть выражено в предмете, и каждый предмет тут «естественно обретает символическую «ценность»: например, «персонажи Чехова или Пенже непрестанно глядят на часы» (с. 28).
Рассматривая затем, каким образом время оказывается фактором, «сближающим людей», П. Брюнель замечает, что «подчас после острого кризиса двое совершенно чужих людей пожимают друг другу руку» (ср. конец «Обмана» Беккета), «но иногда это случается и в результате терпеливого совместного ожидания двух людей, здесь к такому результату их подводит само качество времени. Эта ориентация на ожидание, обычно обманутое в чеховском театре, намечается в театре М. Дюрас, в частности, в конце ее пьесы «Сквер» (с. 33).
Отталкиваясь от статьи Ж.-Ж. Готье «La Musica и Иванов» («Figaro». 1965. 8 октября), П. Брюнель в эссе «Чехов и Маргерит Дюрас» (1970) поражается «парадоксальному стремлению к краткости, присущему обоим писателям», хотя их «главной темой является медленный износ времени» и их драматургия представляется своего рода «продолжением их прозы». Отсюда «напряженность, волевое усилие выразить себя в языке, который им непривычен, нов». «Эта потребность, это второе призвание» для обоих «тем более деспотично, что оно посягает на тематику длящегося времени, принадлежащую в принципе жанру романа — искусству протяженного времени» (с. 43—44).
В театре Чехова, — подчеркивает П. Брюнель, — «постоянный фон — мир, где царит скука»: персонажи Чехова «не живут, а прозябают... увязнув в замедленном времени» (с. 44).
У некоторых из них «ощущение уходящего времени порождает мечту, что время само по себе, без каких бы то ни было усилий с их стороны, преобразит их <...> но вожделенной метаморфозы не происходит. Разумеется, они меняются от времени, но совсем не так, как надеялись. Медленное иссякание времени влечет за собой иссякание их собственной жизни, бытия, деградацию, тем более коварную, что они осознают ее только тогда, когда она уже необратима. Как ни странно, эти персонажи, так глубоко и постоянно чувствующие износ времени, замечают, что время износило их лишь после того, как это уже свершилось (Астров, Иванов, Аркадина) (с. 46—47). Для других, например, для трех сестер, прошлое станет «иллюзорным убежищем».
П. Брюнель отмечает несколько поразительных аналогий в отношении персонажей Чехова и Дюрас к уходящему и изнашивающему их времени.
Если персонажи Маргерит Дюрас «словно бы созданы, чтоб ниспровергнуть миф о ценности времени» (с. 51), то «отказ покориться времени, который может принять форму самоубийства» (Иванов, Треплев), приводит и разносчика в «Сквере» к «искушению покончить со всем этим» (с. 52), хотя «такого же рода завораживающее чувство может побудить и к преступлению» (с. 53). Случается также, как, например, в пьесе «Леса и воды», что мы сталкиваемся с беспредметным ожиданием, как в финале «Дяди Вани», или с тем, что персонаж, подобно старой даме из пьесы «Дни напролет среди деревьев» «не только смиряется в конечном итоге со временем-небытием, которое уходит попусту» (с. 58), но даже предпочитает «встретиться лицом к лицу, ясно все понимая, с этим медленным загниванием своего индивидуального времени, покончив со всякими ожиданиями. Тут Маргерит Дюрас вновь приближается к бесконечной чеховской грусти, от которой она, казалось, избавилась в последних репликах «Сквера» (с. 59).
Переходя к понятию действия, П. Брюнель констатирует: что бы там ни говорили и ни писали о «нетеатральном» театре Чехова или «пьесах романистки» Маргерит Дюрас, оба писателя соблюдают драматическое правило концентрации времени. Как выразился Анри Гуйе35, «события следуют у них одно за другим во времени, которое является их хронологической и хронометрированной рамкой», но кроме того есть время, которое действует изнутри, время, влекущее за собой душевное увядание и приоткрывающее под поверхностными водоворотами зримой жизни свое монотонное течение» (с. 63).
П. Брюнель замечает также, что как Чехов, так и Дюрас обязывают своих постановщиков мобилизовать все элементы декорации, чтобы намекнуть на иссякание времени» (лучший пример, как он считает, — это гостиная Лебедевых), и оба они придают особую роль музыке. «У Чехова персонажи словно бы вменяют себе в обязанность приручить время, играя на своих любимых инструментах» (с. 64). Но «дым папирос или самовара, бесконечная игра в вист или на биллиарде — это также способы добиться психологического и реального времени, навеять ощущение бесполезной его траты, скуки, с которой все эти мужчины и женщины, в конце концов, свыкаются» (там же).
Маргерит Дюрас предпочитает очистить сцену от «доисторических» деталей («La Musica»). Из ее нейтральных декораций исчезают «рояль, арфа или фисгармония, но музыка и тут пронизывает все, вплоть до названия одной из пьес. Маргерит Дюрас заимствует у Чехова не сонаты или «Молитву девы», но пристрастие к идиотским куплетам, разбросанным точно вышедшая из моды мебель, в стареющем, вопреки своему желанию меняться мире» (с. 65).
П. Брюнель обращается затем к образу пути в пьесах обоих писателей. Он ставит вопрос, «не является ли длинная аллея, которая идет прямо, точно протянутый ремень», как говорит Гаев в «Вишневом саде», «уводящая в прошлое», «скорее символом жизненного пути, на котором время толкает нас вперед и вынуждает, по словам Петрина в «Безотцовщине», поедать самих себя»36. Он сближает эту аллею перспективой «никуда не ведущих лестниц» в «Сквере», усматривая в этом образе «пространственную перестановку» времени, лишенного будущего — беспредметного ожидания, характерного для тех персонажей Чехова, которые решают продолжать жизнь, и, в особенности, для разносчика в «Сквере», вплоть до того, как с ним произойдет финальная метаморфоза»37 (с. 65).
П. Брюнель останавливается на проблеме реализма Чехова и М. Дюрас и высказывает убеждение, что было бы ошибочно принимать гневные нападки Треплева на реализм за художественное кредо самого Чехова (с. 65). Этот последний «черпает свой материал в толще жизни, но использует ее элементы, как знаки, которые приоткрывают едва приметные несовпадения между вялым течением времени и драмами, вызревающими в сердцах» (с. 66). Точно так же, — считает П. Брюнель, — было бы ошибочным усматривать в театре Маргерит Дюрас прямую оппозицию реализму, видя в нем только «пустыню мира, из которого исчезли вещи», как полагает Доминик Нор.
П. Брюнель пытается, наконец, определить «роль, которую играет слово» и форма речи в «драмах изнашивающегося времени». «В театре Чехова, — замечает он, — разговор, как и музыка, игра, курение или чаепитие, позволяет убить время; разговор — это попытка приспособиться к медленному истеканию времени, прибежище неисправимых болтунов, у которых болтовня превратилась в привычку или манию» (с. 66—77).
«Окостенение языка, пустословие передают неспособность речи отразить, как ежеминутно обновляется время» (там же). «Пунктуацией пауз <...> отмечается возврат, падение в медленный поток повседневного времени... или, напротив, возможность осознать внутреннюю эволюцию, выявляемую каждым мгновением встречи» (сцена Нины и Тригорина во втором акте; паузы в «Сквере», «La Musica» (с. 71—72).
В заключение П. Брюнель высказывает мнение, что «важная, подчас даже исключительная роль, отводимая диалогу, с одной стороны, в жанре романа, с другой, в рассказах Чехова и Маргерит Дюрас, бросает свет на их драматургию. Переход к театру был не труден: достаточно оказалось выкинуть картины полной тишины или объяснения, прибегнуть к магии намеков, присущей драматическому искусству, включить в игру тонко продуманные элементы декорации, которые служат здесь знаками языка, проявляющего внутреннее состояние. Оба писателя виртуозно пользуются диалогом для обнаружения конфликтной взаимосвязи между двух временных протяженностей» (с. 70—71). Если «пьесы Маргерит Дюрас — драматические этюды на тему длящегося времени» (с. 72), то «Театр Чехова в первую очередь лиричен. Даже если автор и выделяет некоторых персонажей — к примеру Дорна, — ощущением, будто они живут полной жизнью, можно сказать наслаждаются ею, в пьесах Чехова чувствуется его собственное раздражение или его собственная грусть, вызываемая медленным износом времени... Он питает к своим пьесам презрение, как можно питать его к бесполезным разговорам и вяло тянущейся жизни, абсурдно обреченной на смерть» (с. 71—72).
П. Брюнель проводит здесь две интересные параллели, сравнивая Чехова с Альбером Камю и Джеймсом Джойсом.
«В «Мифе о Сизифе», — замечает он, — А. Камю показал, что ощущение абсурда порождается мыслью, что каждый день бесцветной жизни глупо подчинен следующему, меж тем как время, которое сводит на нет все наши усилия, является нашим злейшим врагом. Театр Чехова иллюстрирует подобное осознание. Остается лишь две возможности — самоубийство или покорность» (с. 47—48). Для тех; кто смиряется, «у времени мало-помалу отнимается будущее», если употребить выражение Анри Гуйе38.
Таким образом, заключительным словом чеховского театра могло бы быть слово «паралич», повторяемое Джеймсом Джойсом при взгляде на трагический город Дублин, где души-пленницы день за днем беспомощно присутствуют при своем собственном падении: «есть только то счастье, которое ждешь и устаешь ждать, или, в конечном итоге, отупение» (с. 48).
Осенью 1970 г. издательство «L'Age d'Homme» в Лозанне начинает выпуск нового журнала «Travail théâtral», дабы «восполнить отсутствие во Франции органа независимого театра».
Предназначенный в первую очередь для информации «работников театра» обо всем интересном, что появляется в Европе в области режиссуры, исполнительского искусства и т. д., этот журнал благодаря своему высокому уровню неоценим также и для критика.
Первые пятьдесят страниц первого номера посвящены работе Отомара Крейчи над текстами Чехова в пражском театре «Дивадло за Брану». Материалы, связанные с Чеховым, помещены также в №№ 15, 20 и 26.
В № 1 следует особо отметить замечательную статью Эрика Копферманна «Сыгранный и обыгранный Иванов» (с. 38—43), опубликованную в сокращенном виде также и в «Les Léttres françaises» в феврале 1970 г. (№ 1323. С. 11—12). «Чеховский Иванов кладет начало глубокому кризису «Я» в буржуазной драме. Иванов не может быть ни Лебедевым, ни Шабельским, ни Львовым. Но он не способен и стать кем-то иным. Он отказался играть в игру, которую они продолжат, но при этом он оказывается ими обыгранным. Они прижимают его к стенке и заставляют «быть», а не просто сидеть между двух стульев. Смерть Иванова не трагическое преодоление. Иванов кончает с собой не из-за неспособности принять требование абсолюта, напротив — по сравнению с канонами классической трагедии пьеса Чехова представляется трагедией опрокинутой» (с. 41).
В № 15 (апрель—июнь 1974) в статье «Пинтилие — постановщик» Жорж Баню, профессор Института театральных исследований Новой Сорбонны, пишет, что «русская драматургия обладает редкой способностью улавливать жизнь. Ее великие произведения — это образцы человеческой правды в сочетании с уменьем подняться над нею, не искажая истины ради художественной выразительности. В постановке «Вишневого сада» Пинтилие как раз стремится сохранить равновесие между естественностью языка и раздумьями об уделе персонажей. Спектакль на редкость умиротворенный, где гротескность некоторых персонажей сочетается, чередуясь, с прозрачной музыкальностью мира, рассыпающегося в прах, мира угасающего, к исчерпанности которого режиссер относится с милосердием, не отрицая при этом, что этот мир уже не способен породить ничего подлинного. В этом синкопированном спектакле все колеблется между бесплотностью и бессилием, непрестанно переходящими одно в другое. Никто здесь не ощущает времени, в котором все медленно тонут, не сопротивляясь, не трепыхаясь» (с. 100).
В № 20 «Travail théâtral» (июль—октябрь 1975) Жорж Баню в статье «Прустовская чайка», высказывает ряд проницательных суждений о постановке Пинтилие в «Théâtre de la Ville» (см. также обзор Кл. Амьер-Шеврель в наст. томе).
«Эта «Чайка», вне всяких сомнений, прустовская, — пишет Баню, — ее территория — память. Прошлое, возникающее со светлой отчетливостью, возрождается вокруг театра Кости, поле реального непрерывно ширится, вбирая поле желаемого, и все колеблется между тем, что угасло, и тем, что еще живо, между правдой плоти и воображением порывов. Память Треплева перекраивает созвездия персонажей, принадлежащие действительности, и они преломляются в пространстве действия и за его пределами. Это расширение памяти может удивить, ибо у Чехова все панически боятся забвения. В мире отъездов и приездов каждому кажется, что он жив для других только сейчас, только пока все они рядом. Выйти за порог — значит скрыться, померкнуть; «вспомните...» повторяется то и дело навязчивый лейтмотив, — мера предосторожности по отношению к памяти, подозреваемой в слабости» (с. 91).
Баню исследует значение каждого из трех перегруппированных спектаклей Кости. Первое представление — «спектакль памяти, спектакль далекого счастья». Второе — «почти суд над памятью, — демистификация». «Совсем иное значение приобретает третье — Нина и Костя, смертельно бледные виденья, почти вмерзшие в это воспоминанье, на воскрешение которого ушли все их силы» (с. 92).
«Три варианта спектакля Кости, — заключает Баню, — представляются диалектическим трехчленом: иллюзорное — высмеянное — трагическое. Диалектика, которая будет заключена и в триаде самоубийств: симулированное, неудавшееся, свершившееся. Последнее не может не быть свершившимся — это цена, которую он платит за то, чтоб его речь была наконец услышана» (с. 93).
Жорж Баню вскоре снова вернулся к «Чайке» в сборнике «Текст и сцена», опубликованном в 1978 г. Научной группой Института театральных исследований при университете Новая Сорбонна39. В рамках исследовательского семинара Анн Юберсфельд, посвященного пространству текста и сценическому пространству, Баню предлагает этюд: «Разрывы в пространстве «Чайки»» (с. 59—78).
В своем разборе пространства «Чайки» Баню исходит из убеждения, что чеховскому письму свойственна полифония: «...текст «Чайки» складывается из дискретных структур, которые в последующих пьесах станут отчетливее и приобретут более строгое сочленение. Внести порядок, отчего, как нам представляется, отказался Чехов, значило бы затушевать прерывность чеховского письма, его разрывы, его переломы. Один момент представляется нам все же постоянным, — продолжает Баню, — это воздействие психического состояния на пространство и пространства на психическое состояние. Именно это взаимодействие мы избрали, как ось прочтения. Отсюда наша позиция выявления пространственных узлов, с одной стороны, и их включения в тематическую сеть произведения, с другой, что позволяет одновременно бросить свет на оба плана» (с. 59).
В статье, пожалуй, слишком много говорится о мотиве «эроса» в психологии героев. Главный момент, интересующий здесь Баню, — «гамлетовское» отношение Треплева к матери. Вся история с треплевским спектаклем затеяна, — считает Баню, — ради Аркадиной, в чьей любви Костя усомнился. Он не может жить без ее любви, и его стратегия очевидна, — Треплев полагает возбудить любовь, вызвав у матери ревность... «Однако Аркадина своим безразличием препятствует самоосуществлению Кости, к которому он стремился и которого может достигнуть только через творчество. Никто, однако, его не читает. Это не что иное, как пренебрежение к личности, которой Треплев никак не может стать. Он принадлежит к «сыновним персонажам» и, подобно им всем, не способен стать взрослым. Все, что он предпринимает, обречено на неудачу, в «гамлетовских» сценах он оба раза попадает под конец в смешное положение. Костя — всего лишь Гамлет в лохмотьях» (с. 95)... «Одетый в черное, этот неуклюжий Гамлет превращается в образ бессилия — бессилия преодолеть порог творчества. Он переступит его только тогда, когда после всех выстрелов и повторных попыток самоубийства, сожжет свои рукописи и уйдет, чтобы умереть вдали от сцены и от матери» (с. 96).
К мотиву «эроса» в работе Баню примыкает мотив «воды» и «сухости». Возвращаясь к драме жизни Треплева, он приписывает ему свойство, которое называет отсутствием воды, и панику перед собственной неплодоносностью, будто бы связанной с этим «безводием». По Баню, эротика «будь она подлинной или поддельной, сокровенной или декларированной, очерчивает тот мир «Чайки», поскольку даже Сорин заявляет <...> что был влюблен в Нину. О любви не говорят только Шамраев и Яков, остальные плетут сложную эротическую сеть», пространством которой «в большинстве случаев является само объяснение» (с. 72).
У каждого акта «Чайки», утверждает Баню, есть «собственное пространство» и их движение организовано Чеховым по «оси внешнее-внутреннее» (с. 59). Это движение извне-вовнутрь сопровождается «сужением пространства» (сначала — вид на озеро, потом «уголок сада», потом комната, столовая).
Появление дверей в третьем акте вводит главный мотив — мотив замкнутого пространства, в котором, тем не менее, каждый на виду у всех и ничто не ускользает от внимания собравшихся. В последнем акте «внутреннее поглощает всякое действие». Костя пытается, столь же безусловно, как в первом действии, изменить пространство: «когда достигнут последний предел замкнутости, спальню (Сорина), забитую мебелью и людьми, охватывает головокружительный вихрь перестановок, над которым тот, кто его затеял, уже не властен» и поэтому он охвачен тягостным чувством. «Угроза внешнего мира, который может вторгнуться в любую минуту, обнажает хрупкость мира внутреннего и неминуемость его взрыва. Открытые проемы возвещают появление Нины извне — как и в первый раз, — и в то же время выход Кости навстречу смерти» (с. 60).
«Если на уровне пространства, — утверждает далее Баню, — мы имеем последовательный ряд, то в плане времени движение идет по кругу». Хотя Чехов и дробит «классический день», — некоторые признаки, выявляющие рисунок замкнутого времени, очевидны: «гроза, обещанная в первом акте, разражается в четвертом, отблески озера, замечаемые в начале, превращаются затем в волны. Временная протяженность замыкается на себе самой, в то время, как пространство медленно сужается, сводясь в финале к игорному столу, этой мышеловке, где в надрывной атмосфере ночи чувствуется запах смерти» (с. 61).
Во внешнем пространстве пьесы Баню отмечает два центра: озеро и театр. Они различаются как оппозиция — выстроенное людьми — невыстроенное, естественное, эта пара дополняется двучленом: бренное/вечное (с. 61).
«...Озеро, застойное пространство, кристаллизует счастливую память Аркадиной» «и свидетельствует о реальности ее воспоминаний». «В настоящем озеро несет в себе символическое значение для каждого из персонажей, эти значения почти никогда не совпадают». Треплев прославляет его, Яков в нем купается, Тригорин удит рыбу, но «Чехов не вкладывает ценностного значения ни в одно из этих отношений. Для каждого озеро функционирует как возможность счастья, и только Шамраев и Сорин к нему равнодушны» (с. 62).
По-иному обстоит дело для Кости, который с помощью театра надеется самоосуществиться как личность; для него «строительство сцены на берегу озера приобретает особый смысл: одновременно разрыв и сближение с материнской памятью. Для него на первом плане — перелом». Воздвигая свою конструкцию, полностью скрывающую озеро, «он хочет разрезать пространство, разделить его, разбить на куски, но в то же время — это «образ занавеса», обрыв преемственности». Косте хотелось бы «присвоить счастливое пространство своей матери, завладеть тем, что остается для Аркадиной очагом ее юности», сделать так, чтобы озеро, привязанное с помощью театра», отныне ассоциировалось с ним самим и Ниной (там же).
Автор статьи дает представление о разных формах и участках пространства в пьесе: он отличает пространство самой усадьбы с барским домом и озером, где можно отдыхать, наслаждаться природой, чувствовать себя беззаботным и влюбленным, от «всего земледельческого» пространства, где люди занимаются хозяйством и трудятся; он вводит понятие пространства «станции», «города».
Большинство примеров извлекается из субъективного опыта героев. Так, «для Тригорина и Сорина городское пространство расплывается в бесконечном перечне, в скоплении, начисто лишенном индивидуальности». Даже городское жилище не имеет своего лица: для них всех это повторяющееся пространство, одинаковое повсюду и именуемое «гостиничным номером»; «Всеобщая поднадзорность, присущая пространству деревни, сменяется в разбросанном пространстве города, где люди растворяются и сливаются в толпу, безразличием» (с. 68).
Баню интересует не только психологическое, но и социологическое наполнение «пространств», о которых он пишет. «Прочтение пространства для него означает выявление общего процесса: «сельское хозяйство находится в упадке, давние владельцы покидают деревню». Там, где некогда собиралось вокруг озера «счастливое общество, теперь господствует оппозиция, раздельные миры» (там же).
В духе психоаналитического литературоведения Баню разбирает мотив памяти в пьесе, связывая и его с пространством. Герои «Чайки», утверждает он, живут с «неотвязной мыслью о забвении». Но «усадьба — остров» обостряет чувствительность памяти, которая, вопреки всем опасениям, работает безотказно». «Один Тригорин жалуется на ее слабость... Стратегия, чтоб уклониться от тревожащего прошлого или он действительно забыл?.. Анализ Тригорина должно начинать именно с его памяти» (с. 74).
С водной стихией, которой Баню так много уделяет внимания, он соотносит все — будь то организация жизни на берегу озера, птица, живущая у воды — чайка, чтение отрывков из Мопассана («На воде») и Пушкина и т. д. «Вода сопровождает персонажей», и в этом Баню видит «их движение к смерти». Это напоминает Баню слова Башляра в книге «Вода и грезы»: «Грезы овладевают человеком перед прозрачной водой, переливающейся в беспредельных отблесках <...> и они завершаются в лоне мутной и темной воды, в лоне воды, передающей странный и похоронный шепот. Грезы у воды... умирают, как затопленный мир»40, — подобно миру Треплева и Заречной.
Отделение от озера и воды приводит героев, по Баню, к духовному опустошению. Так, Нина, удалившись от озера, поражена «сухостью»: «ребенок ее умер, и она в течение двух лет не могла даже плакать». Вернувшись же к озеру (в 4-м действии), «она вновь обретает ту плодоносность, что дается страданиями», которая проявляется в слезах и ее «просьбе о стакане воды», Костя же не преодолевает сухости:» ему «холодно, как в подземелье», и он уничтожает перед смертью свои рукописи...
Примерно в то же время выходит № 26 «Travail théâtral» (январь—март 1977), где театру Чехова посвящена вся первая часть выпуска, которая обычно отводится театральной практике, иными словами около 60 страниц. Здесь французский читатель может ознакомиться с тем, как подходят к Чехову крупные режиссеры. Опубликован перевод «Рабочих заметок» Джорджо Стрелера, относящихся к апрелю 1974 г., когда он ставил «Вишневый сад» (с. 3—20)41, размышления Отомара Крейчи о работе театрального коллектива (с. 29—33), его Введение к «Пьесам Чехова», которое было написано для программы «Вишневого сада», поставленного в Дюссельдорфе (с. 34—39), и его же «Заметки режиссера для актеров», разработанные для того же спектакля (с. 40—50). Мы найдем здесь также перевод статьи Лючиана Пинтилие из «В поисках смысла одной странной комедии» — программы к спектаклю «Вишневый сад» в Бухарестском театре Лючии Струдзы Буландры (с. 56—58).
Публикации режиссерских заметок в журнале сопровождаются комментариями известных театральных критиков.
В статье «Стрелер и чеховское предчистилище» (с. 21—28) Ж. Баню развивает мысль, что персонажи «Вишневого сада» подобны «Дантовским нерадивым — тем, что прожили жизнь бессмысленно и бесцельно, и, будучи неспособными выкристаллизовать ни порок, ни добродетель, проблуждали до последней минуты, когда воззвали к прошению. Благодаря этому среди них нет ни проклятых, ни блаженных; они избавлены от наказания, и им отведена окраинная часть небесной топографии — предчистилище, где они пребывают в ожиданье» (с. 21).
Чеховские герои, по убеждению Ж. Баню, «никогда не соприкасались по-настоящему с жизнью, потому что обходили ее стороной, мороча себя смутным ощущением надежды, источник которой неизменно искали не в своем собственном существовании, а где-то вне его. Они страдают болезнью воли. Им ведомо лишь равнодушие и забвение» (там же). Беспечные, праздные, любящие «почесать язык» и внезапно терзаемые угрызениями совести, «они живут, подстерегая время», «в пространстве, поглотившем время», где «знаки детства тревожат, поскольку отсылают не ко времени, действительно прожитому и потому оставшемуся позади, но говорят о неспособности таких людей, как Любовь Раневская и Гаев достичь зрелости... Они уменьшают действительность до размера игрушки. Здесь, как у Данте, дух обращается к миру детства» (с. 24).
Общее впечатление Баню от спектакля Стрелера: «Эта греза в белых тонах отсылает к прозрачному потустороннему миру Данте. Здесь также исчезает материальность, все плавает в некой смутной зоне между реальным и фантастическим: Все конкретное изгнано — это знак смерти, близкого, но еще скрытого исчезновения <...> Ирреальность этого мира, отвергающего материю, дается со всей очевидностью... «Вишневый сад» — пьеса холодного свечения» (с. 22—23).
На протяжении всей своей статьи Баню сопоставляет мизансцены и толкование персонажей у Стрелера и у Крейчи, показывая разницу между «грезой» (Стрелер) и «поглощением» (Крейчи).
В статье «Повседневность и метафора» (с. 52—55) М.Л. Бабле делится размышлениями о «Вишневом саде» в Дюссельдорфской постановке Крейчи. Ему представляется принципиально важным, что «ставя Чехова, Крейча создает театр глобального человека. Не насилуя пьесу, чтобы сделать ее более социальной, чем она есть, он показывает нам одновременно человека социального, который существует сам по себе и в своих взаимоотношениях с другими, и человека, который отрезан от общества, сведен к своему экзистенциальному одиночеству» (с. 55).
«Чеховский диалог и фарс», которым завершается посвященная Чехову подборка, взят из книги Леониды Теодореску «Драматургия Чехова», опубликованной в 1972 г. в Бухаресте.
К сожалению, выпуск «Travail théâtral» прекратился в 1979 г., и этот журнал не успел осветить работу Питера Брука над «Вишневым садом». Но нет сомнения, что этот спектакль отразил те тенденции в театральной трактовке русской классики, которые Жиль Сандье называет в еженедельнике «Le Matin» от 6 февраля 1981 г. «возвращением к Чехову».
Приведем несколько строк из портрета Чехова, нарисованного Зоей Ольденбург для подборки о великих русских писателях в «Le Matin». Из них станет понятно, чем именно притягивает сейчас французов творчество Чехова.
«...С той правдивостью интонации, которой, возможно, не найдешь ни у одного другого русского писателя, Чехов дает нам живую картину огромного общественного организма — от светских гостиных до городских лачуг, от литератора до крестьянина, от священника до каторжника, от проститутки до графини, от поместного дворянина до высокопоставленного чиновника, от монаха до бедного студента, от купца до бродяги с большой дороги <...>
Множество мелких фактов — смешных, странных, трагических или незначительных, исключительных или банальных, все вперемешку — заставляют пройти перед нами (как в замечательном символическом сгустке всего чеховского творчества — «Степи») множество человеческих существ со всем тем, что есть в каждом из них неповторимого, неожиданного. Они не похожи друг на друга, эти удивительные лица, едва промелькнувшие перед нами и исчезнувшие, так и не раскрыв своей сокровенной тайны. Нас охватывает головокружение — слишком много всего, нет ведущей нити. Нас влечет к себе космический поток, словно бы не имеющий ни начала, ни конца, ни предела, ни оправдания. И один взгляд — сквозь все это множество лиц <...> И на фоне великолепной, пусть бесчувственной, но все же утешительной красоты природы свободно предаются вечной игре бесполезное, смешное страдание и извечная хрупкость странного существа по имени «Человек»».
В заключение позволим себе упомянуть две работы, которые являются переводами не произведений Чехова, а посвященных писателю страниц из французского издания двух «Историй русской литературы», представляющих собой ценный материал для специалистов: учащихся, преподавателей и исследователей.
Начнем с «Истории русской литературы от начала до наших дней», опубликованной во Франции в 1965 г.42 Автор ее — Этторе Логатто (авторизованный перевод с итальянского М. и А.М. Кабрини).
Логатто родился в Неаполе в 1890 г., был преподавателем русского языка и славянской филологии в университетах Неаполя, Падуи и Рима, где проработал более 40 лет. Его труды пользуются международной известностью.
В своем предисловии к «Истории...» автор вносит некоторые уточнения во французский перевод, выполненный с пятого итальянского издания (первое вышло на 20 лет раньше), причем в 1965 г. этот труд не имел еще столь большого успеха, несмотря на живейший интерес к русской литературе в других странах, особенно во Франции. В работе десять глав, каждая из которых снабжена библиографическим указателем. Страницы, посвященные Чехову, мы находим в главе VII, озаглавленной «От реализма к неоромантизму» (с. 528—539). Они дополнены библиографией (с. 605—606) и множеством примечаний, включая именной указатель.
Вторая работа, которую мы имеем в виду, это перевод с английского языка «Истории русской литературы от начала до наших дней» Д.С. Мирского, выполненный Вероникой Лосски43.
Князь Дмитрий Святополк-Мирский родился в России в 1890 г. После завершения курса обучения в Петербургском университете и пяти лет военной службы он уехал в Англию в качестве преподавателя русской литературы в Кингз Колледж в Лондонском Университете.
Страницы, посвященные Чехову (с. 415—431) снабжены именным указателем.
И, наконец, остановимся на последнем специальном труде о Чехове, вышедшем в 1984 г. Автор его — член Французской Академии — Анри Труайа, название «Чехов»44.
В наши дни, когда пьесы Чехова практически не сходят с французской сцены, его биография, изложенная известным французским писателем, была встречена с особенным энтузиазмом.
Анри Труайя, с присущим ему великолепным талантом рассказчика, легко и деликатно описывает всю жизнь Чехова. Он говорит, избрав очень верный тон, о том, как Чехов делил свой труд между медициной и литературой, о его социальной роли, о его отношении к разным членам своей семьи, о его отношении к женщинам — вплоть до самой, довольно поздней, женитьбы. Автор воспринял, и может быть даже с излишним рвением — совет Чехова Горькому: «беллетристика должна укладываться сразу, в секунду» в сознание читателя. На наш взгляд, в психологическом портрете Чехова недостает внутреннего динамизма. Суждения Труайя об упоминаемых им работах, пожалуй, поверхностны, кажутся поспешными его оценки чеховского скептицизма, политической не-ангажированности и отъезда писателя на Сахалин. Анри Труайя мог бы несколько утончить свои суждения, не умаляя при этом увлекательности повествования, воспользуйся он превосходным критическим аппаратом русского академического издания Чехова, а также если бы его советские источники не кончались книгой А.П. Чудакова о поэтике Чехова, вышедшей в 1971 г. Он также мог бы внести много нового по сравнению со своими предшественниками и исправить некоторые их огрехи — например, то, что молодой Чехов не читал Михайловского.
Но эти недостатки меркнут по сравнению с огромной работой, проделанной автором. Как он говорит сам, тема его книги особая, она преследует цель «не столько исчерпывающе изучить творчество Чехова, сколько оживить (курс. наш. — Ж. де П.) образ этого исключительного человека, — исключительного по своей скромности, стоицизму, терпимости, иронии и таланту» (из письма к автору обзора — от 17 октября 1984 г.).
С этой точки зрения, книга А. Труайя — несомненная удача. Она безусловно помогла французам ближе узнать Чехова, доказательством чему служит ее успех в книжных магазинах.
Насколько настоящий обзор отражает эстетическое восприятие Чехова, свойственное сегодня французам?
Прежде всего, на наш взгляд, создается впечатление бесконечного разнообразия в понимании Чехова, в подходе к его произведениям, и разнообразие это вполне в духе французского эстетического сознания, развивающегося в значительной степени под знаком индивидуальных концепций. Это разнообразие, по-моему, свидетельствует о жизненности творчества Чехова во Франции. Для французов сегодня неважно, каково было их восприятие Чехова в прошлом и каким его облик предстанет в будущем — Чехов неисчерпаем: он раз и навсегда принес с собой нечто, не поддающееся полной расшифровке, но тем не менее занятие этой расшифровкой важно для каждого человека.
Внутри разнообразия французских оценок Чехова отрицательные реакции достаточно редки. Признание чеховского таланта можно считать всеобщим, и любовь современной французской публики к писателю, который мог бы остаться далеким от нее во времени и в пространстве, — доказательство его универсальности.
Возможно, однако, что справедливо будет разграничить три оттенка в этом всеобщем признании. Для одних Чехов — «певец отчаяния», мира отмирающего — певец безразличный и порой жестокий. Другие отказываются от такого отрицательного прочтения, и видят — сквозь строки — «новую жизнь». Им помогает в их повседневной борьбе позиция Чехова по отношению к жизни, его прозрачная доброта, мужество, юмор. И, наконец, последние, сближаясь с трактовкой Чехова Никитой Михалковым, считают, что его творчество направлено против всякого отчаяния: каким бы длинным и тоскливым ни был «тоннель», он всегда выведет «на бесконечные просторы, дающие свет и надежду»45.
Мемориальная доска на здании отеля, установленная в честь первого пребывания Чехова в Ницце (1891)
Карикатура на книгу Э. Александра «В поисках Чехова. Очерк внутренней биографии». Рисунок Ж. Редона «Фигаро», 1971
Приезд в Мелихово. Возвращение из Ниццы. Рисунок из «Чехиады» А.А. Хотяинцевой, 1898. На странице письма А.А. Хотяинцевой к Чехову. Тушь, бумага. Литературный музей, Москва
Роже Гренье. Снег идет. Впечатления о Чехове. Париж, 1992. Обложка. В заглавии используется реплика Тузенбаха: «Вот снег идет» («Три сестры»)
Шарж Дэвида Левина на обороте обложки чеховского номера журнала «Силекс». Гренобль, 1980, № 16
Примечания
*. «Ящики-домишки на склоне холма» (англ.)
1. Содержание чеховского номера журнала «Europe» (1954. № 104—105. Август—сентябрь): Веркор. Влияние Чехова. Чехов А. Три рассказа («Бумажник», «Из воспоминаний идеалиста», «Правила для начинающих авторов»). Леонов Л. Слово о Чехове. Грацианов А. Здесь Чехов жил. Руденко С. На родине Чехова. Горкин И. Источник вдохновения Чехова, Истра. Куприн А. Воспоминания о Чехове. Горкин И. Дружба Чехова с Чайковским. Кадо М. Антон Чехов — лжепессимист. Авилова Л. Чехов в моей жизни. Вольман В. Чехов и Художественный театр. Комнян М.-А. От Чехова к Пиранделло. Питоева А. Чехов и Питоевы. Абрахам П. Отражающее озеро. Несколько дат.
2. Предисловие Веркора к юбилейному номеру журнала «Europe» см. ЛН, т. 68.
3. Laffite S. Tchekhov par lui-même. Paris: Le Seuil. Collection «Les écrivains de toujours». № 30. 1955. 152 p.
4. Laffite S. Léon Tolstoï et ses contemporains. Paris: Ed. Seghers, 1960 (глава «Tolstoï et Tchekhov» — с. 167—228).
5. Laffite S. Deux amis. Tchekhov et Levitan // Revue des Etudes Slaves. LXI, № 1—4. 1962. P. 135—136.
6. Enciclopedia Universalis. V. 15. P. 790—793.
7. Segur-Dalloni E. Anton Tchekhov sur la Côté d'Azur Sites d'esprit sur la Riviéra // L'Espoir de Nice. 1962. 10 avril; Sites d'esprit sur la Riviéra. Anton Tchehkov à Beaulieu // Ibid. 1962. 5 juin.
8. Nalegatskaia L. Tchekhov à Nice // La nouvelle Revues des deux-Mondes. 1973. 1 novembre. P. 340—350; 11 décembre. P. 578—589.
9. Kerner S. Un dreyfusard Anton Tchekhov // Les nouveaux Cahiers. 1974—1975. № 39. P. 44—50.
10. Gilles D. Čekhov ou le spectateur désenchanté. Julliard, 1967.
11. Alexandre A. A la recherche de Tchekhov, essai de biographie intérieure. Paris: Buchet-Chastel, 1971.
12. Lazarus S. L'activité sociale de l'écrivain Anton Čexov // Annales de la Faculté des Lettres et Sciences humaines de l'Université de Nice. № 41. 1981. Nice. P. 90—106.
13. Fougère J. Un cadeau utile, nouvelles précédées de La nouvelle, art d'avenir. Paris: Albin Michel, 1953. P. 33—34.
14. М. Горький и А. Чехов. Переписка, статьи, высказывания. М., 1951. С. 121.
15. Triolet E. L'histoire d'Anton Tchekhov, sa vie, son oeuvre. Paris: Les Editeurs Français Réunis, 1968.
16. Chestov L. Anton Tchekhov ou la création ex nihilo // L'homme pris au piège, trois essais (A.S. Pouchkine, L.N. Tolstoï. Anton Tchekhov). Paris: Union générale d'Editions, 1966, № 348. P. 79—119 (перевод Бориса Шлоцера).
17. Переведена под заглавием: A la rencontre de Tchekhov. См. библиографию, с. 147.
18. Bonamour J. Le roman russe. Paris: P.U.F., 1978. P. 136.
19. Имеются в виду слова Короленко в воспоминаниях о Чехове: «Я как-то шутя сказал Чехову, что он сам похож на своего Дениску. И, действительно, в самый разгар восьмидесятых годов, когда общественная жизнь так похожа была на эту степь с ее безмолвной истомой и тоскливой песнью, он явился беззаботный, веселый, с избытком бодрости и силы» (А.П. Чехов в воспоминаниях современников. М., 1960. С. 142).
20. Имеется в виду известное высказывание Толстого в кн.: Сергеенко П.А. Толстой и его современники. М., 1911. С. 228.
21. Ritzen Q. Anton Tchekhov. Préface de Pasteur Vallery-Radot. Paris: Ed. universitaires, 1962.
22. Это выражение заимствовано из книги Пьера Бриссона «Чехов и его жизнь». Париж: изд. А. Соре, 1955.
23. D-r Chabrat M.-C. Malades et médecins dans l'oeuvre de Tchekhov. Диссертация защищена в Тулузском университете. Напечатана в парижской типографии, 1963.
24. Chainet P. Anton Čekhov ou la médecin maigre lui // Histoire de la Médecine, 1967. Février et mars.
25. Горький М. А.П. Чехов // А.П. Чехов в воспоминаниях современников. С. 509.
26. По воспоминаниям современников, Чехов запечатывал письма отцовской печатью, на которой были эти слова. (См. напр., Авилова Л.А. Чехов в моей жизни // А.П. Чехов в воспоминаниях современников. С. 260.
27. D-r Poumailloux. Anton Tchekhov docteur en médecine. Диссертация защищена в университетском Центре Гостеприимства в Бруссэ. Париж, 1974.
28. D-r Frankfort M. Tchekhov anti-psychiâtre. Диссертация защищена на медицинском факультете института Париж—Кретейль, 1977.
29. См.: А.П. Чехов в воспоминаниях современников. С. 400—401.
30. Ionesco E. Notes et contre-notes. Paris: Gallimard, 1966.
31. Bachelard G. La poétique de l'espase. Presses Universitaires de France. 1953.
32. См. примеч. 30.
33. Ibid. P. 338—339.
34. Artaud A. Le théâtre et son double. Paris: Gallimard, 1938. P. 38.
35. Gouhier H. L'oeuvre théâtrale. Paris: Flammarion, 1958. P. 157.
36. Имеются в виду слова Петрина о трех жизненных дорогах для человека: «пойдешь направо — волки тебя съедят, пойдешь налево — сам волков съешь, пойдешь прямо — сам себя съешь» (XI, 37).
37. «Беспредметное ожидание» сорокалетнего разносчика, встречавшегося на сквере с молодой женщиной, кончается тем, что в ответ на ее призыв полюбоваться ею на танцах, он ответил: «Если бы я туда пошел, это было бы лишь забавно», и она ушла, не оборачиваясь, оставив его одного.
38. См. примеч. 35.
39. Le texte et la scène // Groupe de Recherche de l'Institut d'Etudes Théâtrales de l'Université de la Sorbonne nouvelles, 1978.
40. Bachelard G. L'eau et les rêves. Paris: José Corti, 1971. P. 66.
41. На русском языке: Стрелер Д. Театр для людей. Глава: «Вишневый сад» Чехова (1974) // Театр. 1982. № 5. С. 113—120.
42. Logatto E. Histoire de la littérature russe des origines à nos jours / Trad. M. et A.M. Cabrini. Paris: Desclée de Brouver, 1965.
43. Mirsky D.S. Histoire de la littérature russe des origines à nos jours / Trad. V. Lossky. Paris: Arthème Fayard, 1969. На английском языке книга была издана впервые в 1927 г. в Лондоне.
44. Troyat H. Tchekhov. Paris: Flammarion, 1984. 413 р.
45. Цит.: Silex. Grenoble. 1980. № 16. P. 194.
| Предыдущая страница | К оглавлению | Следующая страница |