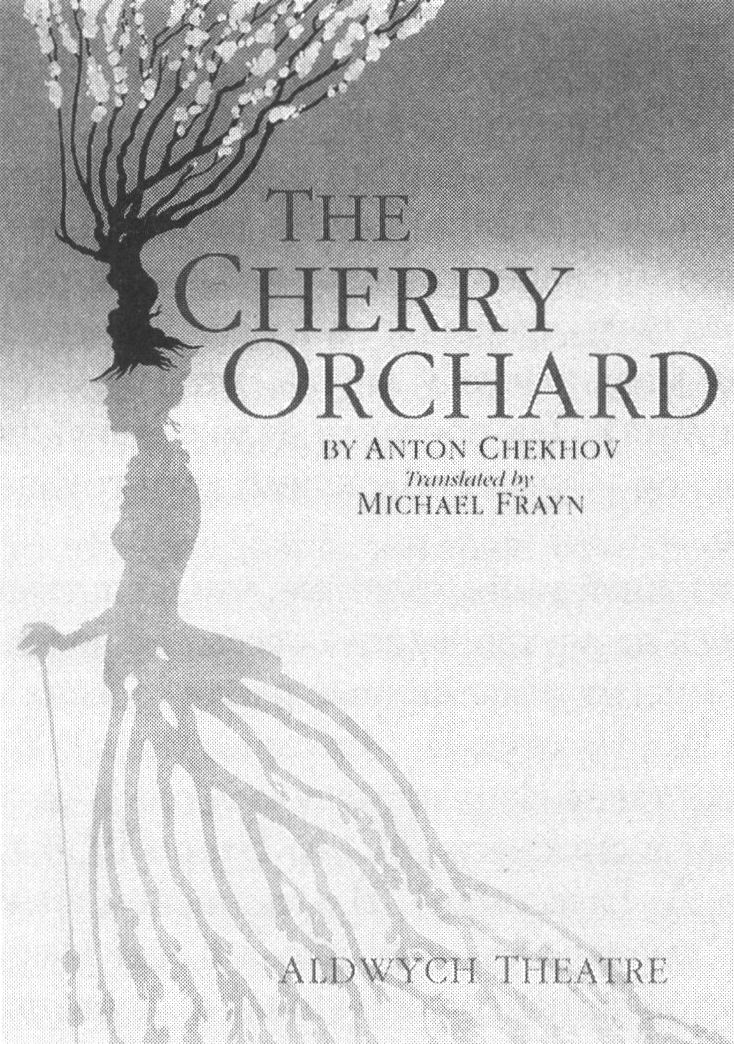Сложный орешек — Чехов. Никак не сыграть «прежними» приемами. Надо мягко и отчетливо, не вылезая и не прячась...
М.И. Бабанова
Слова эти относятся к работе актера над любой ролью любой пьесы Чехова. Но сказаны они были актрисой в дни «вживания» в характер Раневской. И, как увидим, эта роль оказалась «сложным орешком» не только для нее.
Со времени Чехова — и в этом сказалось подспудное влияние театра, одного из самых смелых интерпретаторов литературы, — наше представление о Раневской сильно изменилось. Для автора, писавшего пьесу без традиционного «главного героя», о русской жизни вообще и ее историческом пути, как известно, наибольший интерес представлял Лопахин — антипод Раневской на этом пути. Чехов понимал значительность этого нового в литературе и «центрального» в пьесе характера. Но театры большей частью делают центральной фигурой спектакля Раневскую. Это связано, думается, с тем, что судьба Раневской более других зависит от судьбы вишневого сада, главной поэтической и идейной основы пьесы.
Из современных русских постановок можно назвать, пожалуй, только одну, где Лопахин и Раневская, как говорилось, оказались равно важны для понимания пьесы, — спектакль А. Эфроса в Театре на Таганке. Лопахин — В. Высоцкий и Раневская — А. Демидова, две главные фигуры ансамбля, хотя и олицетворяли собой полярно противоположные жизненные позиции, поражали схожестью нервных, артистических натур. Зато Гаев (В. Штернберг), уверенный в себе, краснобайствующий помещик, перенявший чисто внешние черты народника 1880-х годов, был им обоим чужой по духу человек.
Правда, биографически брат Раневской более, чем она, привязан к имению. В авторской ремарке ко второму действию оно называется «усадьбой Гаева». Возможно, это «рудимент» от первоначального замысла пьесы: в самых ранних устных рассказах Чехова о сюжете шла речь о хозяине (или хозяйке) имения, который, напомним, обращается за деньгами к лакею или управляющему. Пояснение же, заключающее список действующих лиц в начале пьесы, — «Действие происходит в имении Л.А. Раневской», — соответствует завершающей стадии работы, когда не помещик, а его сестра стала в центре событий пьесы. Но почему же автор, или режиссер, или актеры, или внимательнейший к литературным текстам Немирович-Данченко, читавший пьесу в рукописи, не заметили этого разнобоя, а Чехов не устранил его? Конечно, для самих героев эта разница несущественна. Но важно, что усадьба, по Далю, — часть имения. Значит, Раневская — владелица всей земли, а Гаев — ее усадебной части, с домом и садом. Родители могли завещать имение дочери, а не бессемейному старшему сыну, что и соответствует авторским указаниям. В отсутствие же сестры бумаги могли быть оформлены на имя Гаева, и на торги поехал он.
Парадоксально, что не старый холостяк, все интересы которого сосредоточены внутри дома (где есть бильярдная, книжный шкаф, коробочки с любимыми леденцами, и верный слуга не один десяток лет с утра одевает его и раздевает на ночь) или в саду, навевающем сны о детстве, — а его сестра, обходившаяся пять лет без родины, оказалась душевно более связанной с судьбой имения, более страдающей от возможной потери сада. Во всяком случае, выражающей свои чувства более открыто.
Впрочем, сужу по собственному зрительскому опыту, были у нас и актеры, подчеркивавшие привязанность Гаева к вишневому саду и значительность его фигуры. Таким был особенно И. Смоктуновский в телевизионной постановке Л. Хейфеца (1976). И смешной, и чудаковатый, он нес в душе боль о семейной беде как об общей катастрофе своего поколения и класса; в тоне его речей и во взгляде сквозило понимание неотвратимости хода истории, и было видно, что он одинок в этом своем понимании. И если Ю. Каюров в этом спектакле достойно вел партию Лопахина, оттесняя Р. Нифонтову — Раневскую, слишком камерную и отрешенно элегическую, то перед Гаевым — Смоктуновским оба они как-то отступали на второй план. Выдвижение вперед одного героя пьесы как будто противоречит тому равновесию между разными характерами и человеческими судьбами, к которому Чехов стремился, начиная с «Чайки», и что на сценическом языке Художественного театра получило название ансамбля. Но актеры — живые люди, каждый со своим темпераментом, с собственным взглядом на данный сюжет, на выпавшую ему роль и на современное звучание пьесы. Не нарушить ансамбль «выдвигаемый» герой может только соответствуя основной художественной идее пьесы.
В сценическом облике литературного героя может быть нарушено и другое, внутреннее равновесие — между отдельными чертами его характера, созданного автором. Но это «нарушение», являясь результатом самовыражения актерской индивидуальности (отвечающим чаще всего режиссерской установке), оказывается важным для постижения потенциала, заложенного в литературном характере.
Какие же черты Раневской воплощают преимущественно актрисы, исполняющие ее роль?
В пьесе это не молоденькая, но все же достаточно молодая женщина. Вряд ли она вышла замуж поздно, и если Ане семнадцать, а Грише к этому времени могло бы быть тринадцать, то ей, очевидно, около тридцати пяти или немногим больше. Возможно, меняя возраст героини (задуманной, как мы помним, «старухой»), Чехов менял и возраст ее детей. Но это осталось в голове сочинителя или в уничтоженных им черновиках. Не дождавшись для Раневской пожилой актрисы и учитывая возможности почти сплошь молодой труппы, он решил назначить на эту роль Книппер, еще не окончив пьесы, 2 сентября 1903 г. в письме к Немировичу-Данченко («...роль матери возьмет Ольга...»). И тут же естественно возник вопрос о возможно новом возрасте дочери героини: «...а кто будет играть дочку 17—18 лет...». Теперь трудно представить, как сказалось бы на сценическом варианте пьесы участие в спектакле 50-летней О. Садовской, блестящей исполнительницы ролей «старух» в Малом театре, или другой актрисой этого амплуа, на что сначала рассчитывал, по словам Т.Л. Щепкиной-Куперник, Чехов. Сетуя на руководителей театра, не исполнивших его просьбы, он и не предполагал, наверное, как окажется кстати для этой роли возраст Книппер и к каким актерским победам приведет его вынужденный выбор.
Легкость, с которой в Раневской соединяется чисто женское начало с переживанием ею конца целой эпохи, — сущность этого удивительного характера. Работа режиссера и актрисы в спектакле часто вносит коррективы в репутацию легкомысленной и даже легковесной женщины, которая вот уже давно тянется за Раневской, как шлейф ее парижского платья. Но может и усилить эту репутацию.
Тайна обаяния этой героини — в непосредственности движений ее души, в непостижимом соединении в ней, казалось бы, несоединимых свойств — эгоизма и доброты, сознания своей обреченности и того свойства женской натуры, которое Бунин назвал «легким дыханием».
Этой тайной обладала, как видно из воспоминаний очевидцев, первая исполнительница роли Раневской (рецензенты не были словоохотливы относительно конкретных деталей премьеры). Т.Л. Щепкина-Куперник, восхищаясь женственностью молодой Книппер — Раневской, отмечала ее «милое кокетство со всеми, не исключая старого Симеонова-Пищика и начальника станции; но и порывы искреннего чувства при воспоминании об ее утонувшем мальчике, о ее детстве. Слезы и смех, отчаяние и радость — все перемешано в ней и видно по каждому ее жесту, каждому взгляду, так легко переходящему от слез к улыбке...»1. Ясно, писала мемуаристка, «что драма Любови Андреевны не подкосит ее». Это еще раньше говорил Чехов: «Угомонить такую женщину может только одна смерть» (XI, 285).
Правда, в пьесе будущее героини, как говорилось, не столь уж радужно. Но на сцене это подчеркивается редко.
Книппер долго играла эту роль, вплоть до 1944 г. Казалось бы, желание Чехова видеть в этой роли старую актрису, наконец, исполнилось. Но, изменившись внешне, Книппер сохранила внутренний рисунок роли. По поздним впечатлениям от ее игры И. Соловьева писала об особой, простодушной эгоистичности героини: «темно-рыжая, белокожая, с виновато-веселыми глазами — виновата, что чувствует себя молодой, что любит своего парижского мучителя, что легка и безвольна...»2.
И другое свидетельство нашего современника, Б. Зингермана: «Навсегда остались в памяти точные детали исполнения Книппер-Чеховой: ее изящные и беспомощные руки, жест, которым она доставала из портмоне золотой и отдавала прохожему, ее легкая шелестящая походка, живые и капризные интонации ее барского голоса, в которых слышалось иногда что-то нервное, острое, приобретенное в Париже. Чем отчетливее играла актриса, тем более явственно проступало в Раневской нечто дразнящее, неуловимое. Героиня Книппер выглядела и не русской помещицей, и не парижанкой; не эгоисткой и не очень доброй, это было бесконечно прихотливое и бесконечно простое существо какой-то особой породы, не соответствующее привычным представлениям о человеческом характере. Актрисы, исполнявшие эту роль в других постановках, а среди них были и такие замечательные дарования, как М.И. Бабанова, А.Б. Фрейндлих, играли Раневскую законченнее и определеннее, утрачивая загадочное обаяние чеховской манеры»3. Замечательно схвачены в этих словах переливы состояний, причудливость психологического рисунка, созданного актрисой.
Интонации «барского голоса» (чего стоит, например, ее повелительное: «Яша, allez!», притом что влиять на наглого лакея она неспособна: барская власть в этом доме давно утрачена), и поглаживание мебели в час приезда, и горькие слезы при известии о продаже сада — все это относится к другой, грубо говоря, социальной ипостаси образа. Книппер постигла как будто всю глубину и многогранность чеховского создания.
Мнение тонких ценителей актерского искусства, которое мы привели, не совпадает с характеристикой Книппер — Раневской в 1930—1940-е годы в документальном исследовании Г. Бродской. Опираясь на некоторые публичные выступления актрисы с выражением любви к «сталинско-калининской Совдепии», Г. Бродская отмечает ее новые интонации. Как пример утерянной «легкости» приводится изменение реакции Раневской на известие о продаже сада: раньше это были беззвучные слезы, теперь — рыдание, «как на кладбище перед раскрытой могилой». И вместо мягких переходов от слез к смеху — контрастное чередование беспечности и отчаяния4.
Но кто знает, чего стоили актрисе ее публичные выступления? И ее ориентация на советского зрителя в репликах, звучавших более уверенно. Мы можем только догадываться о подлинном отношении вдовы Чехова к той действительности. Вспомним запись Немировича-Данченко в альбоме В.М. Лаврова 1924 г. Чувство разочарования в новой жизни тогда было острым. В годы сталинизма, когда Немирович возглавлял главный театр страны, старая боль если не затихла, то была загнана в тайники души. И он внушал исполнительнице роли Раневской тот рисунок, который она теперь была вынуждена воспроизводить. Тем не менее в сценической истории «Вишневого сада» и в памяти старых зрителей остается нетленным прежний образ этой роли, создающий впечатление адекватной трактовки авторского создания. Вероятно, сквозь новые интонации прорывались и те, давние, о которых с таким чувством вспоминали И. Соловьева, Б. Зингерман.
В дальнейшей сценической истории чеховской героини были и потери, и приобретения.
В «Вишневых садах» второй половины XX в., когда в режиссерской памяти была еще трактовка «первой актрисы» МХАТа, естественно было желание не идти по её следу, а противопоставить ей обновленную героиню Чехова. Так пришли к выбору молодых актрис (Книппер завершила свой путь в этой роли почти в 76 лет и внешне не была особенно моложава).
Возможно, влияние на такой выбор оказал и опыт Л. Добржанской в Театре Советской армии (1965). Ей досталась эта роль не в молодом возрасте. Она сознательно играла, по словам М. Кнебель, мать, тоскующую об умершем сыне, проявляющую нежность к Ане, озабоченность ее и Вариным будущим. На сцене была женщина, оказавшаяся в трудном материальном положении. Страдала она, собственно, из-за гибели не сада, а имения с садом и домом. На этом фоне любовь к бросившему ее мужчине для нее была тягостной. Чисто женское начало оказалось усеченным. (В пьесе же без этого «камня на шее» у Раневской не было бы ощущения полнокровной жизни.)
Однако молодость актрисы не всегда служит углублению образа. Из современных нам «молоденьких» Раневских вспомним двух. Комаки Курихара в постановке А. Эфроса в Японии (1981) была, судя по слайдам, привезенным режиссером, прелестна и нежна, добра, человечна, грациозна — пример сценической идеализации литературного образа. Другая Раневская, Раиса Этуш в постановке В. Плучека, с легкими и быстрыми движениями, неизменно рассеянной улыбкой на лице, — совсем по известному совету Чехова в письме к Книппер. Но чтобы достать до дна души Раневской, актрисе надо было бы погружаться и погружаться в переживания героини, успевшей испытать материнское горе, драму оскорбленного женского достоинства и потерю дома, где она могла бы найти прибежище после пережитого. Показать, что она сохранила легкость характера и бессознательную, тоже «легкую», эгоистичность, потеряв, в сущности, многое, связывающее ее с родиной.
Молодость героини, таким образом, — не свойство ее личности. Но, несомненно, время расцвета ее женского обаяния. Оно-то и является главным свойством Раневской как личности. Любовь Андреевна прежде всего женщина, а потом уж владелица разрушающегося имения. Но отнимите у Раневской ее кровную связь с садом и домом — это не будет героиня «Вишневого сада». А отнимите женственность — это не будет чеховская героиня вообще. У молодых К. Курихары и Р. Этуш оказалась притушенной та сторона личности Раневской, которая в пьесе освещена ее чувством родины, имения, дома.
Несколько раньше Т. Лаврова в первой постановке Г. Волчек играла в основном женскую судьбу Раневской, притом подчеркнуто несчастливую. Ее героиня внешне была молода и изящно одета, но страшась надвигающегося несчастья, она не умела сдержать чувств, металась в лихорадочном ознобе, открыто горюя, чуть ли не голося. Достоинство и легкость, которыми автор наделил свою героиню даже в горе, были утрачены. Сама женственность в этой Раневской оторвана от образа сада (его вообще в спектакле не было). Она выражалась, как сказал бы Чехов, без достаточной грации.
В некоторых «молодых» Раневских очень естественно проявлялась почти детская, бездумная веселость героини, особенно в первом акте. Такова была Наташа Пари у Питера Брука в бруклинской постановке. В соответствии с общей атмосферой непосредственности и жизненного правдоподобия в спектакле она легко, стремительно входит в дом, здороваясь, со всеми целуется, обнимается, от радости подпрыгивает, как дитя. И найден штрих, оттеняющий такой облик: смеясь и задирая брата, как в детстве, эта Раневская не прочь при случае «ткнуть» его зонтом. Ее природная непосредственность смягчает тяжесть последних мгновений брата и сестры в родительском доме. Вот плачут они, прощаясь со стенами. И вдруг, схватившись за руки, кружатся, словно возвращаются на минуту в те далекие невозвратимые времена. Общий рисунок роли, в чем-то новый, чист и ясен, но... в нем недостает той загадочности и неуловимости, которая пленяла видевших в давние годы Книппер.
Под знаком утрированной детскости сложился этот образ у еще молодой актрисы М. Нееловой во второй постановке Г. Волчек. Чувство жалости к этой Раневской, которая не может без страдания слушать скучные для нее, пошлые речи окружающих, в том числе Яши, без лакейской опеки которого она, однако, жить не может, не вяжется с авторской интерпретацией героини. Перед нами не внутренне независимая, как в пьесе, женщина, а беззащитное, с наивной реакцией на мир, существо.
Другая, более редкая тенденция, но тоже с желанием не повторять книпперовский образ, — играть Раневскую сильной женщиной. Сложной была в этом отношении интерпретация роли М. Бабановой (пост. В. Дудина. Театр им. Маяковского. 1956). Не желая напоминать Книппер («Какая из меня барыня!»5), она представила себе Раневскую уже оторванной «от своих русских, дворянских корней». Ей казалось, что в Раневской есть что-то от каботинки: «Недаром ведь сидит она в прокуренной парижской мансарде. Вытерпеть все это можно только на облегченности. Сангвинистический характер, легкомысленный. Легкие и внезапные переходы. Смех и слезы у нее рядом. А то ведь с ума сойдешь. Трагедия получится, а Чехов комедию писал»6. Намеченная программа (единственная в актерском опыте Бабановой) ею была выполнена, но, к счастью, без подчеркнутого духа каботинки, много позже подхваченного, как увидим, другой актрисой. По свидетельству мемуаристки, Бабановой удалось быть легкой и, смеясь, — плакать, но «все же эта маленькая фигурка измученной женщины воспринималась скорее трагически»7. О мужестве и внутренней силе этой Раневской можно судить по впечатлениям М. Иофьева. Восторженность в день приезда, потом потеря внутреннего равновесия от «плоских шуток, высокопарных речений...» и т. д., пишет он, каким-то образом совмещались в ней с умением, например, игнорировать Яшу (на что не хватает сил теперь М. Нееловой) и, главное, с пониманием справедливости расплаты, как ей кажется, за грехи. Поэтому в финале она находила в себе силы прервать стенания по поводу потери сада. «Лицо ее становится замкнутым и сухим. Она торопливо натягивает вуаль и, не оглядываясь, уходит»8. Не станем гадать, будет ли такая Раневская, по Иофьеву, «живым трупом», но безусловно, решительность ей досталась дорогой ценой. Ее сила исполнена внутреннего трагизма. Это отступление от литературного оригинала воспринимается как возможный жизненный исход ситуации.
Совсем иную силу в наши дни подчеркнула западная исполнительница роли — англичанка Джуди Денч. За будущее ее зритель может быть спокоен: эта женщина не пропадет. Премьера спектакля с ее участием в постановке молодого режиссера Сэма Мендеса, учившегося в Кембридже, состоялась в лондонском театре Олдвич 13 октября 1989 г. Первое, что бросилось в глаза, когда эта Раневская входила в свой дом, — выражение лица. Это было лицо нашей современницы, женщины жестокого XX в. Полное впечатление не вяжущейся с этим образом деловитости. И сознание своей силы. Дж. Денч привнесла в роль рациональное и волевое начало, менее всего свойственное чеховской героине. Явно не способная к безоглядности в любви, эта Раневская рвала первую телеграмму из Парижа не так, как после Валентины Кортезе у Стрелера (1974) это делали многие — медленно, с болью... Она рвала телеграмму быстро, решительно и потом, довольная, гладила себя по животу (демонстрируя таким образом радость освобождения). Раневская — Денч при случае не забывала холить себя и как-то прозаично, по давней привычке, протягивала Фирсу продрогшие в дороге ноги, чтобы он их согрел (совсем иначе была построена сходная мизансцена у Брука, где Фирс нежно растирал озябшие ножки Ани). Так обстояло дело с женским обаянием английской Раневской — увы, поблекшим, хотя трудно судить по одному спектаклю.
Отступая от нашей темы, отметим, что женственность в постановке С. Мендеса не растворилась совсем, но перешла к Варе, что характерно для многих современных режиссерских интерпретаций этого образа (у В. Плучека, В. Пахомова и др.). В прежней театральной практике такая Варя встречалась реже (красивую и юную Варю вспоминает в спектакле Ж.-Л. Барро 1954 г. знаток французского театра Л. Гительман). В лондонском спектакле Варя не «монашка», не «глупенькая», как писал о ней Чехов, а душевная девушка, по-настоящему неравнодушная к Лопахину (после лопахинского «ме-е-е...» у нее сверкали слезы в глазах, и вообще она часто обижалась на него и постоянно ощущала его присутствие). Наутро после премьеры, когда на одной из лондонских улиц мне случайно встретилась эта актриса (или, во всяком случае, женщина, чрезвычайно на нее похожая), с младенцем в коляске, нежный облик этой Вари вдруг осветился мотивом ее возможного материнства. И пришло на ум почерпнутое из пьесы, да и из этого спектакля заботливое отношение Вари к молоденькой Ане.
Что касается связи Раневской — Денч с садом, то, по замыслу С. Мендеса и художника Пола Форнсворта, героиня всем существом своим должна бы демонстрировать эту связь: на афише корни вишневых деревьев сливаются с платьем Раневской, цветы их украшают ее шляпу. Но подтверждения этого органического единства в спектакле нет. (Гораздо убедительнее выглядела эта связь с родной почвой в постановке Стрелера 1974 г., где Любовь Андреевна на прощанье брала горсть земли и прижимала ее к груди, словно желала увезти с собой.) Джуди Денч — актриса, прославившаяся шекспировскими ролями (в том числе и ролью леди Макбет), возможно, от них к ее Раневской перешла эта властность. Достаточно много пережившая, эта Раневская выражала душевный дискомфорт необычным для чеховской героини способом: позволяла себе немного распуститься и вела себя, пожалуй, как капризная хозяйка дома. Не желая сдерживать чувства, как подобало бы воспитанной женщине (да еще в исполнении англичанки), она от досады могла почти ударить по лицу то Трофимова, то Яшу.
Еще деталь. Подчеркивая эгоизм героини, лондонская актриса брала у Пищика деньги не беззаботно и машинально, как это подошло бы чеховской героине. Ее Раневская знает цену этой удаче в трудный для нее момент и, целуя их (!), поспешно прячет в кошелек: ведь они могут пригодиться, скажем, для покупки новых нарядов к встрече с возлюбленным. Здесь вдруг в Раневской просыпается что-то от Аркадиной, которая, отказывая Сорину в денежной помощи сыну, говорит: «Пожалуй, на костюм я еще могу <...> Нет, в настоящее время и на костюм не могу». Но ведь Аркадина — из тех, кто дает повару рубль «на троих», а Раневская протягивает случайному Прохожему золотой из кошелька... По сравнению с аккуратной и всегда собранной в делах Аркадиной Раневская — «недотепа». Этого лондонские постановщики не учли.
И только в самом конце спектакля легкость и непосредственность, которых так недоставало актрисе вначале, были восполнены режиссерским приемом, введенным вслед за П. Бруком: погоревав и поплакав, Раневская и Гаев неожиданно брались за руки и кружились, как в детские годы. Еще не высохли слезы, а на лицах уже улыбки. Это, пожалуй, был единственный момент в спектакле, где Джуди Денч отступила от общего жесткого рисунка роли. Но момент рациональности во введении этой сцены в спектакль был несомненен, и отсюда — некоторая сдержанность зрительского восторга. Как заметил автор рецензии, озаглавленной «Недостаток чеховской сердечности», короткий прорыв эмоциональности в этой сцене произошел «едва ли не слишком поздно»9.
В чем же все-таки «неугомонность» такой сильной Раневской? Это не неиссякаемость ее душевной жизни, которую мог иметь в виду отчасти Чехов. Свойство личности, созданное данной актрисой, заставляет предполагать, что она выживет вопреки любым обстоятельствам — потеряв сначала сад, а потом, вероятно, и возлюбленного. Перед такой в целом нечеховской Раневской возникала, казалось бы, реальная перспектива, достаточно определенно намеченная в тексте четвертого акта, в словах Ани о возвращении матери, когда они будут вместе по вечерам «читать разные книги», т. е. заниматься делом... Однако это невольно сорвавшееся из наших уст «дело» отрезвляет воображение, и приходится признать, что приобщение к «новому, чудесному миру», куда зазывает свою мать юная дочь, не отвечает характеру Раневской. Здесь некий гипноз театральной интерпретации, от которого освобождает лишь непосредственное ощущение феномена авторского текста. Сделав было догадку, мы тотчас к ней остываем, и наш поводырь в этом движении — драматург.
Категорию «сильных» Раневских пополнила и М. Томашова, тоже не очень молодая, в спектакле О. Крейчи (Дивадло за Браноу II). В печати отмечались ее прямолинейность, мужественность и решительность, столь не идущие чеховской героине, «сила которой как раз в ее слабости, в неумении и нежелании научиться говорить «да» и «нет»»10. Любопытно, как отозвалась властность этой Раневской на отношении к ней окружающих, например, Лопахина (Ян Гартл). В чеховском Лопахине, безусловно, теплится его юношеское восхищение Раневской. В спектакле О. Крейчи эта теплота перекрывается другим впечатлением: Лопахин здесь то держит чашечку с кофе, пока Раневская ходит по комнате, то поднимает зонт над ее головой, когда она пудрится, и т. д. Это не проявление мужской галантности купца с тонкими пальцами, как можно было бы ожидать. Скорее это суетливость человека, зорко угадывающего желания той, которая ему не безразлична как женщина и... пока еще хозяйка имения. Что-то в этом подобострастном прислуживании есть от лакея. Кажется, что в этом нервном, «интеллигентном», в целом интересном Лопахине могло бы быть больше достоинства, особенно по отношению к такой Раневской.
В исполнении М. Томашовой роли Раневской, на наш взгляд, утеряна сложность ее натуры. Мы видели, как ее героиня плачет, даже рыдает, но переходов к радости, к улыбке, столь свойственных чеховской Любови Андреевне, не почувствовали. Даже подхваченная Симеоновым-Пищиком «на вальсишку», она хотя бы на секунду не забывалась в танце и сохраняла озабоченное выражение лица. Не трогало ее и утешение дочери в конце третьего акта. «Несгибаемый» характер героини, кстати, сказался и в этой сцене: выслушав Аню, Раневская в слезах быстро уходит со сцены в одну сторону, а Аня с Трофимовым — в другую (мотив разрыва между старшим и младшим поколениями, не столь резкий в пьесе).
Но и женственность, и жизнелюбие Раневской воплощались многими европейскими актрисами. Назовем француженку Мадлен Рено в постановке Ж.-Л. Барро. Как и Книппер, она показала, что настоящая актриса и «в возрасте» способна сохранить обаяние женственности. На известной фотографии М. Рено в роли Раневской сидит вполоборота, с чашечкой кофе в руке, чуть улыбаясь, в легкой, непринужденной позе. Кажется, что и поступь у этой женщины должна быть легкой.
Работая с актрисой, Ж.-Л. Барро как режиссер исходил из того, что Раневская — «символ человечности». Но человеку свойственна внутренняя сложность, и М. Рено сумела передать это свойство героини: «...при всей ее внешней бездумности, почти детской наивности (слегка удивленные, широко, как у куклы, раскрытые глаза, мягкая блуждающая улыбка, нежные руки, с их легкой, оживленной жестикуляцией, тонкий высокий голос, никогда, даже в минуты отчаяния, не срывающийся на крик), Мадлен Рено сумела передать неуемную внутреннюю тревогу»11. Истая француженка, она сохраняла изящество до конца, вплоть до момента, когда страшная новость вызвала в ее Раневской вдруг смертельную усталость, «словно все жизненные силы покинули ее разом»12. Но в контексте спектакля трагичность финала героини смягчилась страстным призывом Трофимова-Барро к продолжению жизни на новом этапе. Этот Трофимов, может быть, единственный раз в сценической истории «Вишневого сада», не исключая и русской премьеры с В. Качаловым, стал рядом с Раневской как равная ей по значению фигура.
Среди молодых, женственных Раневских в истории театра осталась и англичанка Пегги Эшкрофт (постановка Мишеля Сен-Дени, Театр Олдвич, Лондон, 1961), кстати, полная противоположность Дж. Денч (которая в этом старом спектакле играла Аню13). Как и Рено, Эшкрофт в основном следовала традиции Книппер: ее Раневская была соткана из противоречивых настроений, желаний, интонаций. В ней были, по словам очевидцев, «одновременно и женская привлекательность, особый шарм, и слабость, и удивительная снисходительность к самой себе и крайнее легкомыслие, капризность, раздражающая зрителя»14, и, вероятно, мгновенные переходы от грусти к веселью.
В наших театрах из Раневских выделяется до сих пор одна, в которой не столько женское обаяние выдвигается на первый план, хотя и оно, несомненно, присутствует, сколько ум, проницательность, опыт исстрадавшейся души. Так играет А. Демидова в постановке А. Эфроса. В этом спектакле был подчеркнут драматизм самой ситуации — продажа имения не то чтобы другу дома, но человеку, многим обязанному Раневской.
А. Демидова остается в нашей памяти самой трагичной Раневской. Со смертью В. Высоцкого эта Раневская оказалась совсем одинока среди остальных действующих лиц спектакля и страшно от них далеко. И если был в этом спектакле ансамбль, то он был образован ею не столько вместе с остальными героями, сколько в слиянии с поэтическим образом сада, цветущего и умирающего будто у нас на глазах (мысль об этом вызывает белый цвет, объединяющий все предметы, начиная с креста, и одежду большинства героев в первом акте, т. е. и мертвое, и живое). Раневская здесь соответствует идее «поэмы о жизни и смерти», выдвинутой П. Бруком. Она и нервна, и философична одновременно.
На высокой поэтической ноте осуществлено слияние героини с еще живым, но умирающим садом, с бесконечным, чистым и белым пространством, в постановке Стрелера, о которой шла уже речь в этой главе.
Радость встречи с домом, с каждой вещью и каждым домочадцем В. Кортезе — Раневская тут же превращает в прощание, потому что всем своим существом уже предчувствует близкую беду: у нее «очи отверзты». В мелодичности ее речи, отвечающей не только интонациям родного ей итальянского языка, но и музыкальности чеховского текста, — не только отчаяние. Проницательный ум и способность оценить трагизм момента не мешают этой Раневской быть естественной как природа, простой и сердечной в отношениях с людьми. Поразителен эпизод, в котором обыгрывается то материнско-сестринское начало в героине, которое тронуло Лопахина-подростка: когда Трофимов после ссоры с ней сильно ударился, падая с лестницы, она обняла его и, утешая, вытерла нос, как когда-то подростку Лопахину.
Все три пространства в этом удивительном спектакле (земля, небо, пропасть) кажутся соответствующими душе Раневской. В общем потоке чувств героиня сливается с людьми, с домом и садом, но устремляется от них куда-то далеко — и вниз, и ввысь. Но поскольку здесь и низ и верх, и пропасть и небо — «белые», вся эта бескрайность излучает свет, и сама трагичность героини, как и всего спектакля, не внушает зрителю чувства безнадежности. Она очищена поэтическим началом, стирающим «случайные черты», и — в который раз! — открывающим, что «мир прекрасен».
В заключение — о двух Раневских, рожденных в режиссерских лабораториях с прямо противоположными методами работы. Один метод основан на бережном обращении с оригиналом и стремлении связать бытовые реалии с духовностью. Так работал П. Штейн над «Тремя сестрами» (1984), покорив зрителей чеховскими интонациями, мерой и вкусом, и — не столь удачно, хоть и добросовестно, — в «Вишневом саде» (1992). Другой метод — очень субъективный, с резким вмешательством в оригинал, с отступлениями от реалий, с переакцентировками авторского текста. Цель — не столько собственно художественная, сколько направленная к поискам в пьесе предощущений тяжелых будней того «будущего» чеховских героев, которое стало для нас «настоящим», неотвратимости и, может быть, непоправимости происшедших перемен. Это метод Л. Трушкина в спектакле 1990 г.
Что дало бережное отношение к авторской трактовке Раневской? Актриса Юта Лампе, блистательно сыгравшая живую, темпераментную Машу в «Трех сестрах» Штайна, в «Вишневом саде» впервые появляется перед зрителем у дверей справа, в дорожном костюме и шляпе. Останавливается, словно хочет перевести дух в ожидании новых жизненных испытаний и в тайной надежде, что дом спасется и защитит ее. Момент многообещающий.
Обещание с той же силой исполняется лишь в самом конце спектакля, в уже знаменитой минутной паузе, тянувшейся, кажется, вечность, когда весь зал вместе с нею и Гаевым переживает их трагедию. Остро чувствуется жизненное распутье: конец всей предыдущей, с корнями вырванной жизни и начало нового пути, кто знает, может быть, с новыми страданиями. «Неугомонность» этой Раневской еще даст ей продержаться. Знак беды — вломившаяся в дом срубленная ветка — угрожает уже не ей. Связь Раневской с вишневым садом, таким образом, окаймляет присутствие героини на сцене.
Однако между этими двумя моментами ни тревожное ожидание будущего, ни надежда не звучат в ее интонациях. Она живет на сцене как будто жизнью остальных домочадцев. Изящная в движениях, она по-детски скачет по дивану, резвится на стоге сена, но может быть и более сдержанной. Вместе с Гаевым эта Раневская даже дает зрителю ощутить их беззащитность, когда, держась за руки, они слушают, но не понимают чудовищного для них проекта Лопахина. Или выбегает на балкон, будто навстречу видению матери при восходе солнца. Но самой атмосферы близости беды, терзающей чеховскую героиню, в спектакле нет. Когда в ожидании вестей после аукциона она сидит, аккуратно и уютно, в задней комнате и вместе с гостями внимательно разглядывает слишком затянувшиеся фокусы Шарлотты, то кажется, что Раневская сжилась, слилась с этой людской массой. В кульминационном акте чеховской драмы вдруг начинают звучать эпические нотки. Между тем здесь ждешь от актрисы большей нервности, того свойства, которое Чехов так ценил в актерах Художественного театра и которое, как он считал, должно выражаться у актера «в тоне и взгляде». Когда же этого свойства недостает, то и слишком громкий крик («но я люблю этот камень!» — в разговоре с Петей), и падение героини в конце акта на пол мало волнуют.
К счастью, в критический для актрисы и для всего спектакля момент режиссер дополняет авторский текст сценической «ремаркой», которая дает недостающее настроение. Перед Раневской, только что узнавшей о продаже сада, вдруг появляется старая няня, из породы Марины и Анфисы в предыдущих пьесах Чехова, и крестит ее. «Свершилось!» — смысл этого душевного движения старухи, благословившей Раневскую пережить несчастье достойно, по-христиански.
В постановке П. Штайна открыта шире, чем в пьесе, внутренняя часть дома, с бильярдной (слева) и лестницей, с которой падает на наших глазах Петя (справа); показан на рассвете и балкон с выходом в сад, весь залитый светом. Подобно этому режиссер мог бы шире раскрыть и створки сложного, многогранного характера Раневской. Мало было показать в Любови Андреевне прекрасную женщину, важно было открыть зрителю то свойство личности, которое срослось с садом.
В постановке Л. Трушкина лирико-психологическая струя в настроении чеховских героев была оттеснена — в соответствии с тенденцией не художественного свойства, о которой мы уже говорили, — иронической (причем не объективно или внутренне иронической, а слишком откровенной, с элементами сарказма), что сказалось и на облике Раневской.
Легкомыслие Любови Андреевны и даже, с легкой руки ее родного брата, старого холостяка 51 года (личная жизнь которого для читателя и зрителя тайна), порочность стали охотно муссироваться в разных постановках, начиная с 1930-х годов. Были случаи открытого изображения Раневской в качестве любовницы своего лакея, была актриса, ушедшая вся в мысли о своем парижском любовнике и весьма равнодушная к каким-то там «корням» своего рода, была, наконец, Книппер, в которой придирчивый рецензент-пуританин умудрился найти оттенок парижской кокотки (только «оттенок», но и то, думается, с большим преувеличением (см. его отзыв на с. 348 наст. книги). В спектакле Л. Трушкина был сделан в этом направлении крайний шаг. Новая Раневская (Т. Васильева) создана так, словно навеки утерян генетический код героини, выросшей в культурной среде, мягкой и ласковой по природе, и во Франции дышавшей отнюдь не воздухом кафешантанов.
Замена женственности фривольностью, сдержанности — хриплым, надрывным, с истерическими нотками, голосом, растрепанная прическа и далеко не дворянские наряды (в третьем акте, правда, оправданные «маскарадом», «пиром во время чумы»). Все это далеко уводит зрителя от эталона женского изящества, который вот уж скоро 100 лет держат в нашем сознании многие Раневские на сцене. Правда, чеховский образ столь глубок и неисчерпаем, что и в этом «плебейском» его варианте открывается неожиданная грань, заставляющая задуматься о возможной постсценической судьбе героини.
Это момент, когда Раневская — Т. Васильева на секунду будто обрадовалась, узнав, что имение досталось Лопахину, и засмеялась вместе с другими. Ею словно овладела шальная мысль: ведь купил-то сад свой, значит, сад спасен! И потом, разбитая, опустошенная, в нелепом маскарадном костюме, но уже без рыжего парика, простоволосая, сидит, чуть покачиваясь от горя, и все-таки находит в себе силы утешать Лопахина, огорченного тем, что она его «не послушала». Она повторяет в эту минуту свои слова, запомнившиеся ему с детства: «Не плачь, мужичок, до свадьбы заживет...». Момент, может быть, самый сильный в спектакле, сжимающий сердце зрителю. И это — несмотря на отступление от авторского текста.
Такая Раневская выглядит угомонившейся вопреки предсказаниям автора. Весь четвертый акт она в темной одежде и черном платке — на пороге новых своих, уже до конца черных дней. Во взгляде этой Раневской, без веры и надежды, — отсвет самых горьких потерь нашей жизни. Вся мишура, сопровождавшая до этого героиню, словно взятую напрокат из низов общества, по духу в чем-то близкую горьковской Насте, когда та грезит о своем Рауле, — спадает с нее. Таков неожиданный итог впечатлений зрителя, в течение почти трех действий с трудом «терпевшего» такую Раневскую, а потом тронутого ее трагическим видом.
Пути, намеченные автором пьесы и первой исполнительницей этой роли, открыты для разных театральных стилей и режиссерских методов. Но даже талантливое гипертрофирование (как и усечение) каких-либо черт литературного характера на сцене отдаляет зрителя от авторского замысла. На более верном пути, очевидно, актрисы, которым удается, не отрываясь от чеховских реалий, стремиться к их обобщенно-поэтическому прочтению. Потому что Чехов — драматург, говорящий в прозе языком поэзии, а Раневская — один из совершенных его образов. И если связь этой героини с главным символом пьесы доходит до зрителя, то это — шанс приоткрыть завесу над одним из самых таинственных характеров мировой драмы.
Трагическое начало в Раневской, если оно исходит от подлинного таланта и выражается по-чеховски, т. е. в меру (насколько трагизм может сочетаться с мерой), не искажает сути героини. Оно отвечает ее жизненной ситуации до продажи сада, в связи с ней и в возможном будущем. Иначе говоря, внешние обстоятельства дают основание и для такой трактовки, но с тем «чуть-чуть», которое не исказит сущности этого жизнелюбивого характера. Такая роль — испытание актрисы на чувство меры и такт.
В этом смысле интересна вызвавшая споры трактовка А. Фрейндлих, три года игравшей Раневскую в «Современнике» после ухода Т. Лавровой из труппы. В этой роли А. Фрейндлих выступала и в Театре им. Ленсовета (пост. И. Владимирова, 1978). В ее Раневской с самого начала была не свойственная чеховской героине отрешенность от внешнего мира (напоминающая этим М. Бабанову), сосредоточенность на своих думах, подчеркнутая длинным мундштуком в руках, «таким родственником кальяна»15. Сдержанность, свойственная Раневской, у Фрейндлих была, наоборот, заострена и бросалась в глаза, особенно тогда, когда она, по словам критика, стремилась загладить неловкость после неожиданной откровенности16. Но вот впечатление того же критика о моменте, когда Раневская слушает рассказ Лопахина после торгов: в порыве чувств Лопахин хватает ее, сдергивая с места, и она кружится в танце, «широко раскинув руки, с отчаяньем в глазах», пока, рыдая, не падает на руки к Ане и Пете17. Все, что в спектакле было глубоко запрятано в этой душе, прорвалось наружу. В эти мгновения актриса вдруг заострила общий рисунок роли по сравнению с оригиналом, но зато приоткрыла истинные чувства героини в связи с потерей сада.
Особое место в ряду трагических интерпретаций Раневской занимает В. Кортезе, о которой уже говорилось. В значительной степени ею в финале сообщается зрителю то душевное состояние, которое, следуя Аристотелю, можно назвать катарсисом.
Трудно представить, как бы сыграла эту роль Э. Дузе. Но она мечтала о ней и видела в Раневской трагическую личность18. Значит, она смотрела на героиню Чехова глазами уже XX века. Что нового для постижения этого пленительного женского образа даст нам век XXI? По первым спектаклям самого начала этого столетия судить об этом еще нельзя.
Раневская — О.Л. Книппер-Чехова. Начало 1920-х годов
Раневская — Л. Добржанская. Постановка М. Кнебель. ЦТСА. 1965
Раневская — М. Бабанова. Постановка В. Дудина. Театр им. Маяковского. 1956
Программа спектакля. Постановка С. Мендеса. Театр Олдвич. Лондон. 1989
Раневская — А. Демидова. Постановка А. Эфроса. Театр на Таганке. 1975
Раневская — Т. Васильева. Сцена из третьего действия. Постановка Л. Трушкина. Театр Антона Чехова. 1990
Примечания
1. Щепкина-Куперник Т.Л. (Воспоминания) // Ольга Леонардовна Книппер-Чехова: В 2 ч. М., 1972. Ч. 2. С. 283.
2. Соловьева И. Реальность с заглавной буквы // Театр. 1974. № 8. С. 59.
3. Зингерман Б. Очерки истории драмы 20 века: Чехов, Стриндберг, Ибсен, Метерлинк, Пиранделло, Брехт, Гауптман, Лорка, Ануй. М., 1979. С. 137.
4. Бродская Г. Т. II. С. 373, 374.
5. Берновская Н.М. «Примите просьбу о помиловании...»: Воспоминания и письма. М., 1996. С. 11.
6. Там же.
7. Там же.
8. Иофьев М. Профили искусства. М., 1965. С. 27.
9. Peter J. Missing the Heart of the Chekhovian // The Sunday Times. 1989. 29 Oct. P. 9.
10. Поюровский Б. До свидания, фестиваль! // Вечерняя Москва. 1992. 26 окт.
11. Гительман Л. Русская классика на французской сцене. Л., 1978. С. 122—123.
12. Там же.
13. Эта аналогия не ускользнула от внимания английской театральной критики в дни премьеры «Вишневого сада» с Дж. Денч. Считая, что продюсер Сэма Мендеса Майкл Кодрон остановил свой выбор на этом спектакле потому, что в нем должны были участвовать несколько «звезд» театра и среди них такая выдающаяся, как Денч, Роберт Хьюисон подчеркивал важность этого обстоятельства в коммерческом отношении для театра Олдвич, расположенного в аристократическом районе Лондона. На этой сцене в постановке той же пьесы Чехова, писал он, некогда блистали прежние «звезды» — Пегги Эшкрофт и Джон Гилгуд. Теперь Денч, занявшая артистическую уборную Пегги Эшкрофт, с горечью вспоминала, как серьезно и вдумчиво актеры времен ее юности относились к репетициям и как этого не хватает современному театру (Hewison R. Why Stars are back in the West End // The Sunday Times. 1989. 29 Oct. P. 3). Вряд ли на этот счет можно отнести несоответствие литературному оригиналу Раневской спектакля 1989 г.
14. См. альбом: Tanitch R. Ashcroft. London; Melbourne; Auckland; Johannesburg, 1987 (подпись под репродукцией сцены из первого акта, № 92).
15. Калмановский А.Е. Алиса Фрейндлих. Л., 1989. С. 132.
16. Там же.
17. Там же.
18. Адамович Г. Литературная неделя: Чеховские дни // Иллюстрированная Россия (Париж). 1929. № 29. 13 июля. С. 11.
| Предыдущая страница | К оглавлению | Следующая страница |